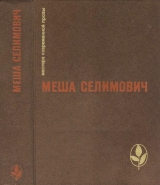
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 49 страниц)
– Зачем тебе понадобилось затевать спор с визирем? – спросил я в шутку, не думая, что гнев сановника долго продлится.– Неужели ты в самом деле никого не боишься?
Мне ответил старик, ходивший по комнате в накинутом на плечи меховом кафтане:
– Бога – немного, султана – ничуть, а визиря – не более, чем своего гнедого.
– Чего мне его бояться? – произнес Хасан, возвращая мне джилит.– У меня есть ты. Наверное, защитишь?
– Лучше, чтоб не понадобилось защищать.
– Дервиш никогда прямо не ответит,– засмеялся Али-ага.
– Он прав,– серьезно возразил Хасан.– Лучше всего, чтоб никому не понадобилось меня защищать. Чтоб я сам себе был защитой. Нехорошо взваливать на друга беды, к которым сам причастен. Кто не умеет плавать, тому лучше не прыгать в воду, рассчитывая только на то, что его кто-то вытащит.
– Но он не был бы другом, если б не вытащил. Ты понимаешь дружбу как свободу, я – как обязанность. Мой друг – это я. Оберегая его, я оберегаю себя. Разве нужно об этом говорить?
– Не нужно. Но отец затеял этот пустой разговор для того, чтоб помешать мне рассказать о нем самом. Ты знаешь, что он спрятал от меня золото? Тысячу дукатов! Я обнаружил их по возвращении в ящике под ключом!
– Я сам тебе сказал.
– Ты сказал, когда уже было поздно.
– Зачем мне прятать? И от кого? Они твои, делай с ними что хочешь. В могилу я их с собой не возьму.
Старик что надо, не растерял еще разума!
– А если б даже и спрятал, что тут плохого? Но ведь не прятал, просто позабыл о них. Ничего в этом странного нет при моей старческой памяти.
По нежеланию настаивать, по улыбке, с какой Хасан соглашался с наивными отцовскими доводами, даже не пытаясь получить от него более убедительного объяснения, по той терпимости, с какой решалась эта пустяковая проблема, я мог судить, что Хасану приятно, что так получилось. И доброе дело сделано, и дукаты целехоньки. Да и живущая в их доме семья перестала мешать.
Как бы там ни было, другие и столько не давали. Благородство отца и сына, пусть и умеренное, пусть даже и со скрипом явленное, как-то ближе и понятнее мне. В нем больше человеческого, и есть четкая для меня граница. Она не самоубийственна, не оскорбляет неистовостью. Безрассудная щедрость – это ребяческое мотовство, когда отдают все, не зная цены ничему.
На второй день рамазанского байрама в текию пришел Пири-воевода, в обязанности которого входило следить за подозрительными личностями, а для него ими был весь мир, и передал мне письмо дубровчанина Луки, друга Хасана, адресованное дубровницкому сенату. Письмо обнаружили у купцов, утром ушедших с караваном товаров.
– Зачем ты его взял?
– Прочти, увидишь.
– Это важно?
– Прочти, увидишь.
– Где купцы?
– Ушли. Прочти и скажи мне, надо ли было позволить им уйти.
Сам черт посадил мне на шею этого человека, глупого, упрямого, неподкупного, подозрительного, который свою собственную мать наверняка провожал подозрительными взглядами. Ничего не соображая, но во всем обвиняя всех и вся, он засыпал меня доносами, помня о каждом из них и интересуясь моими решениями. Почти все беды, а в них недостатка не было, случались из-за него, и я свыкся с мыслью, что это наказание свыше, что у каждого есть свой Пири-воевода. Мой только оказался самым трудным. Я даже подумывал, что его нарочно подсунули ко мне в подчиненные, чтоб он приглядывал за мной, и в выборе они не ошиблись. Он был ничьим человеком, никому не служил, кроме разве своей глупости, а ее хватало, чтобы трижды за день вывести меня из терпения. Сам же он оказывался неуязвимым. Напрасно я пытался вначале вразумить его, потом пришлось отступиться. Он едва удостаивал меня внимания, высоко задирая голову, наглый, полный презрения, или искренне удивлялся, сомневаясь в моем разуме и моей правоте, он истязал меня своим невыносимым усердием. Мне оставалось либо удушить его в одном из припадков ярости, либо бежать сломя голову, когда станет совсем невмочь. Самое скверное заключалось в том, что можно было найти тысячу причин назвать его дураком, но ни одной, чтоб обвинить в непорядочности. В нем уживались жажда какой-то изуродованной справедливости и страстное желание наказать всех людей, неважно за что, и вся моя суровость была для него недостаточной. Кое-кто упрекал меня в жестокости, он же укорял только за уступчивость. Мои враги воспользовались тем и другим.
Он рассказал, как гайдуки в горах напали на караван дубровчан, и, пока купцы отбивались, у них вырвался конь; мчась к городу, он забежал в село. Напрасно искали его дубровчане, так и ушли, не найдя, потому что спешили засветло миновать перевал. Пири-воевода немедленно узнал о коне и тут же нашел его, заставил крестьян вернуть взятое, а я уверен, что они бы отдали ему свое собственное имущество, не только чужое. Тут он и обнаружил письмо, понес его к меняле Соломону, чтоб тот прочел, сам он латинского алфавита не знал.
У меня закружилась голова от этого путаного рассказа, я с трудом улавливал, что произошло, и тут, конечно, любой разумный человек махнул бы рукой, но Пири-воевода пошел до конца, сражаясь с тенями и вылавливая шпиона!
Он стоял передо мной и ждал. Я прочитал письмо и узнал о том, что знал и раньше: как иностранцы пишут об увиденном и услышанном в чужой стране, все об этом знают, все это делают, но тем не менее каждый раз приходят в ужас, когда это обнаруживается. Я прочитал и вздохнул с облегчением: в письме не было ничего о Хасане, что могло бы бросить на него тень, ни обо мне, что могло бы меня оскорбить. Дубровчанин писал главным образом о визире и об управлении страной. Иногда довольно точно, но на бумаге это выглядело гнусно. («Хаос управления высосал силу страны… Если б вы видели, как глупы эти люди, эти каймекамы и муселимы. Вы бы удивились, возможно ли, что эти люди, которых нельзя причислить к порядочному обществу, могут иметь такое правительство… Сеть шпионажа в Боснии простирается через чиновников и тайных осведомителей, как в ином западном государстве… Визирь насаждает бесправие, возомнил себя державой, и кто не пошел с ним на уговор, тот враг… Он сам назначает, перемещает, увольняет чиновников, правит страной по своей прихоти, законов, как он много раз сам говорил, он не знает… Он ненавистен и мусульманам, и христианам. Но правительству нелегко его свергнуть, за семь лет он накопил дукатов и с их помощью держится в Стамбуле… На дукатах держится и все его племя… С помощью этих безнравственных, жестоких, продажных приспешников он сел народу на шею, так что никто не смеет даже пикнуть… Эта полицейская система террора, естественно, должна была сделать Боснию мертвым членом империи, в ней больше не верят приятель приятелю, отец сыну, брат брату, друг другу, ибо каждый опасается черных османских людей и счастлив, если о нем не слышно в стране…» Упоминалось о приобретении конфискованных имений в Посавине, о цене, за которую их купили, по дешевке, назывались имена друзей и любимчиков из визирева племени, перечислено все, что они взяли, награбили, получили. Нет, латинянин не сидел здесь, в Боснии, с закрытыми глазами!)
– Ужасно,– произнес я для Пири-воеводы, который с любопытством ожидал моего суда.
– Надо его взять.
– Нелегко взять иностранца.
– Разве иностранец может творить все, что ему вздумается?
– Не может. Я посоветуюсь с муфтием.
– Посоветуйся. Но прежде нужно его взять.
– Может быть, я подумаю.
Он вышел, глубоко неудовлетворенный.
Несчастье господне! Не суй он нос куда не надо, я был бы в безопасности, по крайней мере с этой стороны. Не знаю, и точка. Но теперь я знаю, меня это касается. Как бы я ни поступил, я могу ошибиться, и нисколько мне не поможет совесть, на которую я так рассчитывал. Это были минуты, когда преждевременно седеют волосы.
Муфтий во время байрама не желал даже и слушать о делах. Правда, он не желал этого и без байрама, а мне было важно не его мнение, но его имя.
Муселима не оказалось дома. Ушел в чаршию, сказали домашние. Я нашел его на службе. Во время байрама! Он обо всем уже знал.
– Надо его арестовать,– без обиняков выпалил он.
– А если ошибемся?
– Извинимся!
Меня удивила его решительность, несколько необычная. Лучше всего не слушать его советов, так как он не из тех, кто желает мне добра, это я знал. Но если послушаю – ответственность равная.
– Пожалуй, так лучше всего.
Я согласился, не будучи убежден.
Пири-воевода освободил меня от одной муки, но тут же взвалил другую. Он явился сообщить, раздосадованный тем, что произошло, и довольный тем, что его подозрения оправдались: дубровчанин с помощью Хасана бежал из города. Они пешком вышли в поле, а там их ожидали на лошадях люди Хасана. Хасан вернулся один.
– Нехорошо,– крутил головой муселим.
Очень уж он выглядел озабоченным: и голос, и согнутые плечи, и рука, вцепившаяся в бороду, все, кроме чуть приметной усмешки на тонких губах. Будет странно, если он не сообщит вали, что настаивал на аресте, но, к сожалению, не он решает.
Пири-воевода, снимая с себя вину, обвинял:
– Я говорил, надо было сразу брать.
– Нехорошо,– повторял муселим, будто забивая мне гвоздь в лоб.
Еще как нехорошо, я и сам это знал. Теперь дубровчанин не виноват, ибо он скрылся. Виноваты те, кто остались. Виноват Хасан, и виноват я, потому что я его друг и потому что я допустил, чтоб купец убежал. Виноват из-за чужих дел, чужой неверности и чужой глупости. Виноват перед вали, который был моим заступником.
Мы немедленно послали за Хасаном, и я со страхом ожидал его появления, он будет оскорблен нашим допросом, исполненный презрения, горячий, а я не сумел предупредить его, напомнить об опасности, потому что вспыльчивость делу не поможет. Я надеялся, он сам поймет и мое, и свое положение, но успокоиться я смог, лишь услыхав, как он отвечает. Да, сказал он, дубровчанин уехал домой, торопился, получил весть, что его мать при смерти. Он предоставил ему своих слуг и лошадей, так как на станции отдохнувших коней не нашлось. И проводил до поля, как всегда провожает друзей. Говорили они о самых обычных делах, настолько обычных, что он с трудом припоминает, но припомнит, если нужно, хотя не понимает, какое это может иметь значение. Друг ничего не рассказывал ему о письме (шпионском, пояснил муселим). Это очень странно, потому что человек занимается только торговлей и ни в какие иные дела не влезает. Его он тоже уговаривал повернуть свои караваны и свои товары на Дубровник вместо Сплита и Триеста, если он, Хасан, снова этим займется. К остальным дубровчанам он не смог присоединиться лишь потому, что письмо из дому получил после их отъезда (это легко проверить: человек, доставивший письмо, еще в хане), и собирался торопливо, взяв лишь самое необходимое.
Когда мы показали ему письмо, он пробежал его глазами и, качая головой, выразил удивление по поводу того, что это писал его друг, он, правда, в этом не уверен, они никогда не переписывались и почерк ему незнаком, а если судить по мыслям, именно они-то и не похожи. Ну а если это в самом деле его письмо, а, судя по всему, это так и есть, то тогда он человек двоедушный и эту свою вторую натуру до сих пор не показывал. Хасан засмеялся, прочитав письмо, и сказал, что, конечно, обидно выглядеть дураком, если еще при этом наносится ущерб твоему народу. Но к счастью, это не так, ибо все, что здесь написано, может сказать любой человек о любой стране, теперь никого не удивишь такими вещами. Не его дело нам давать советы, да и не в его это привычках, но он считает, что не стоит без нужды раздувать огонь, да и гасить тоже, он сам собою погаснет. Позора и огласки избежать можно, ибо позор не в том, что совершается, а тем более не в том, что не совершается, он в том, что становится известным. Осталось лишь намерение, которое предотвратили. Значит, и оскорбления нет, разве что нам оно нужно. Так что из этого дела еще может выйти польза. Нет, ей-богу, он не согласен с тем, что прочел, хотя давно не считает людей ангелами, но своего друга не хочет ни оскорблять, потому что это непорядочно, ни защищать, потому что никому это не надобно. Он может лишь говорить о себе и, хотя невиновен, готов выразить сожаление и нам и визирю, что оказался замешанным в глупейшую историю, которая доставила нам больше хлопот, чем она того заслуживает.
Я с любопытством слушал его. Насчет того, что он не знал о причине бегства дубровчанина, я сомневался, но впечатление оставалось такое, что совесть его чиста, а наверняка так оно и было, поскольку его не касалось ни письмо, ни авторитет визиря. На все у него был готов спокойный и вразумительный ответ. И может быть, только я один улавливал отзвук насмешки в каждом слове, ибо я внимательно следил за тем, что он говорил, радуясь, как удачно он отражает нападки… Я убедился еще раз, сколь он близок мне, и несчастье с ним поразило бы меня в самое сердце. Я нелегко уступил бы, если б они захотели отомстить ему, но мне было дорого, что он сам выкрутился. Я люблю то, что есть, а не то, к чему меня вынуждают.
О себе я не очень беспокоился: я был нужен визирю.
В пятницу после джюмы молла Юсуф сообщил мне, что в здании суда меня ожидает тефтердар от вали. Какой шайтан привел его сюда в такую плохую погоду!
Я завернул к муселиму. Он только что ушел домой, у него началась горячка, сказали мне. Я знал, какая это горячка, он прикрывался ею при любой неприятности, но от этого мне ничуть не легче.
Тефтердар встретил меня любезно, передал привет от вали и сказал, что хотел бы сразу покончить с тем, ради чего приехал, и надеется, что долго это не продлится, он устал с дороги, от долгой скачки и хотел бы поскорее помыться и отдохнуть.
– Неужели дело такое спешное?
– Можно сказать, что спешное. Сегодня же я должен сообщить вали о том, что предпринято.
Без обиняков он высказал все сразу, тут же подчеркнув, что вали рассердило и оскорбило то письмо (он давал мне сразу понять, насколько серьезно обстоит дело), но ему обидно и за меня, почему я позволил дубровчанину убежать, хотя мог воспрепятствовать. (Эти слова вышли отсюда и вот вновь вернулись к своему источнику!) Вали написал дубровницкому сенату и потребовал, чтобы виновника наказали за ложь и нанесенные ему лично оскорбления, позорящие тем самым страну, которой он по милости султана управляет. Если же виновного не накажут по заслугам и если ему об этом не сообщат с необходимыми извинениями, он будет вынужден прекратить торговлю и все связи с Дубровником, поскольку это означает, что с их стороны нет ни дружбы, ни желания поддерживать добрые отношения, полезные и нам и им, но больше все-таки им, чем нам. Он сожалеет также, что за оказанное гостеприимство, которого мы не лишаем благонамеренных людей, они отблагодарили гнусными выдумками, оклеветав его, вали, лично и самых видных людей вилайета, что в свою очередь показывает, сколь мало правдолюбия и сколь много ненависти таится в сердце упомянутого купца, который то письмо писал. Поэтому коль скоро они поступят как подобает и коль скоро наши отношения останутся добрыми, чего он от всего сердца желает и что наверняка является и желанием почтенного сената, то пусть они пришлют подлинного друга, и нашего и их, а такие наверняка найдутся, поскольку наши связи не вчера установлены, и человека достойного, который будет уважать обычаи и власти страны, что его принимает, и не станет плевать на наш хлеб и соль или неприлично вести себя, к стыду своему и позору республики, его направляющей, не станет водить дружбу с недостойными людьми, какие повсюду найдутся, в том числе и у нас, которые не думают о благе ни для себя, ни для страны, где они родились, а услуги которых названный купец приобрел нечестным способом, что почтенному сенату, разумеется, известно.
– Ты, конечно, знаешь, кого имеет в виду визирь?
– Не знаю.
– Знаешь.
Он был толст, тефтердар, мягок, округл, окутан широченной шелковой одеждой. Он походил на старую женщину, как все, кто годами пресмыкается перед вельможами.
– Вали желает, чтоб его арестовали.
– За что его арестовывать? Он оправдался, он не виноват.
– Вот видишь, ты сообразил, о ком идет речь.
Да, я сообразил, я знал это, едва услыхал о том, что ты приехал, я знал, что ты потребуешь его голову, но я его не отдам. Любого другого отдал бы – его не отдам.
Я ответил тефтердару, что желание светлого визиря для меня всегда было повелением. Разве я не повиновался всему, что от меня требовали? Но сейчас я прошу его отказаться от своего намерения ради авторитета его, визиря, и ради справедливости. Хасана люди любят и уважают, их оскорбит его арест, тем более что доказана его невиновность. Если вали не в курсе дела, я готов поехать все ему объяснить и попросить о милости.
– Он все знает.
– Почему тогда он этого требует?
– Дубровчанин виноват? Значит, Хасан тоже. А может быть, и больше его. Иностранец всегда может оказаться врагом этой страны, наш человек не может. Это противоестественно.
Мне хотелось сказать, если б я только смел: разве визирь и эта страна – одно и то же? Но в разговоре со всемогущими приходится проглатывать доводы разума и принимать их манеру рассуждать, а это заранее означает, что ты побежден.
Напрасно убеждал я, что Хасан не является врагом, что он не виновен, тефтердар лишь отмахивался, отметив, что мы слепо поверили в его дерзкую отговорку.
– Утверждал он, что якобы дубровчанин не мог найти свежих лошадей на станции? А они даже не ходили туда.
– Кто сказал? Муселим?
– Неважно, кто сказал. Но это так, мы проверяли. И не только это, вся его история лжива. Вы разговаривали с человеком, который якобы доставил из Дубровника письмо его другу? Нет. Он врал, и он виновен, поэтому арест оправдан. А коль скоро вали желает, чтоб вы это здесь выполнили, то потому, чтоб не говорили, будто он совершает насилие, ибо насилия нет, он просто не желает вмешиваться в ваши дела. Каждый должен исполнить свой долг по совести.
– По какой совести? Хасан – мой лучший друг, единственный.
– Тем лучше. Каждый убедится, что речь идет не о месте, но о справедливости.
– Я прошу визиря и тебя пощадить меня в этом случае. Если я соглашусь, я сделаю страшное дело.
– Ты сделаешь разумное дело. Ибо вали спрашивает, как твои друзья могли столь быстро узнать обо всем.
Ну вот, своими пухлыми руками он начал затягивать крепкую петлю вокруг моей шеи.
– Ты хочешь сказать, что вали подозревает меня?
– Я хочу сказать, что для судьи лучше всего не иметь друзей. Никогда. Ни одного. Потому что люди ошибаются.
– А если они у него есть?
– Тогда он должен выбирать: или друг, или справедливость.
– Я не хочу грешить ни перед другом, ни перед справедливостью. Он невиновен. Я не могу этого сделать.
– Дело твое. Визирь ни к чему не принуждает. Только…
Я знал это «только». Оно кружилось надо мной, как черная птица, маячило повсюду, будто я в замкнутом кругу направленных на меня копий. Я знал, но решительно твердил себе: не отдам друга. Это была смелость, не приносящая облегчения. Тьма вокруг меня сгустилась.
– Скажи,– заговорил он, зябко потирая полные руки,– ты, должно быть, знаешь, сколько людей тебя не любит и сколько жалоб ушло в Стамбул. Все требуют твоей головы. Большинство бумаг визирь задержал у себя. Он твоя опора, без его защиты тебя давно разнесли бы на куски твои ненавистники. Если ты не знаешь этого, тогда ты дурак, а если знаешь, то как ты можешь быть настолько неблагодарным? А почему визирь тебя защищает? За красивые глаза? Потому что он полагал, что может на тебя опереться. А если увидит, что не может, зачем ему оберегать тебя дальше? Власть – это не дружба, но союз. Странно также и то, что ты строг по отношению ко всем, а мягок лишь с врагами вали. А друзей своих недругов вали считает своими врагами. Если вали и страна оскорблены, а ты не желаешь их защитить, значит, ты тоже перешел на их сторону. Прочитай-ка это,– он протянул мне какой-то свиток.
Едва разбирая слова и с трудом осознавая смысл, я прочитал письмо помощника стамбульского муллы, в котором он осведомлялся у вали, почему он, вали, столь упорно покрывает кадия Ахмеда Нуруддина, который подстрекал к мятежу чаршию, из личной ненависти участвовал в убиении прежнего кадия, почтенного алима и судьи, что доказано обвинением его вдовы и заявлениями свидетелей, а кроме того, налицо жалобы видных людей, опечаленных самоволием Ахмеда Нуруддина, его стремлением забрать в свои руки всю власть, что является грехом перед шариатом и перед высочайшим пожеланием султана, чтобы власть, данную падишаху аллахом и переносимую им на своих слуг, нигде не держал в руках один человек, поскольку это путь к преступлениям и неправдам. Если же дело обстоит иначе, если вали придерживается иного мнения и у него иные основания, то пусть сообщит, чтоб он знал обо всем.
Письмо ошеломило меня.
Я знал о жалобах и наветах, но впервые держал в руках доказательство этого. Мне показалось, будто мимо моей головы просвистела стрела. Стало страшно.
– Что скажешь?
Что я мог сказать? Я молчал. Не из упрямства.
– Напишешь постановление?
О аллах, помоги мне, я не могу ни написать, ни отказаться. Лучше всего было бы умереть.
– Напишешь?
К чему меня принуждают? Осудить друга, единственное существо, которое я сохранил для своей неутоленной и голодной любви. Кем я стану тогда? Ничтожеством, которое будет стыдиться самого себя, самым презираемым бедняком на свете. Все, что было во мне человеческого, оберегал он. Я покончу с собой, если выдам его. Не принуждайте меня к этому, это слишком жестоко.
– Не принуждайте меня к этому, это слишком жестоко,– сказал я безжалостному человеку.
– Не хочешь написать?
– Не хочу. Не могу.
– Как знаешь. Письмо ты прочитал.
– Прочитал и знаю, что меня ждет. Но пойми меня, добрый человек! Неужели ты стал бы требовать, чтоб я убил отца или брата? А он для меня больше значит. Больше, чем я сам. Я держусь за него, как за якорь. Без этого человека мир станет для меня темной пещерой. Он – все, что у меня есть, и я не отдам его. Делайте со мной, что хотите, я не выдам его, ибо не хочу тушить последний луч света в себе. Пусть я пострадаю, но его не отдам.
– Это очень хорошо,– издевался надо мной тефтердар,– но неразумно.
– Будь у тебя друг, ты понял бы, что это и хорошо, и разумно.
К сожалению, я не сказал ни этих слов, ни иных подобных. Позже я думал, что, может быть, было бы благородно, если б я сказал их. Произошло же совсем иначе.
– Ты напишешь постановление? – спросил меня тефтердар.
– Должен,– ответил я, видя перед собой письмо, видя перед собой угрозу.
– Нет, не должен. Решай по совести.
Ох, оставь мою совесть в покое! Я решу из страха, решу от ужаса и уберу руки от себя, увиденного в мечтах. Я стану тем, кем стать должен,– дерьмом. Пусть позор падет на них, они заставили меня делать то, чего я гнушался.
Но тогда я об этом не думал. Мне было невыносимо, я чувствовал, что происходят страшные вещи, настолько бесчеловечные, что трудно себе представить. Но и это я подавил, заглушил ужасом, который проникал внутрь безумным клокотанием крови, душившей набегающими волнами и огнем. Мне хотелось выбраться наружу, глотнуть свежего воздуха, избавиться от черного тумана, но я понимал, что все должно решиться сразу, сейчас же, и тогда я избавлюсь от всего. Я уйду в горы, заберусь на самую высокую вершину, останусь до самого вечера один. Я ни о чем не буду думать, буду дышать, только дышать.
– У тебя дрожит рука,– удивился тефтердар.– Неужели тебе так жаль его?
У меня стоял ком в горле, меня тошнило.
– Если тебе так жаль его, зачем ты подписал?
Я хотел чем-то ответить на эту насмешку, не знаю чем, но продолжал молчать, опустив голову, долго, пока не вспомнил и не взмолился заикаясь:
– Я не могу больше здесь оставаться. Я должен уехать куда-нибудь, все равно куда. Только подальше.
– Почему?
– Из-за людей. Из-за всего.
– Какое же ты ничтожество! – спокойно, с глубоким презрением сказал тефтердар, и я не знал, не мог даже себе представить, за что он меня презирает. Меня это не обидело, я лишь повторял про себя это скверное слово, перебирая, как четки, не вникая в его истинный смысл. И единственное, что жило во мне,– ощущение страшной угрозы, словно перед облавой. Все закрыто вокруг, выхода нет. А мне не безразлично, я боюсь.
– Кто пойдет за Хасаном?
– Пири-воевода.
– Пусть отведет его в крепость.
Я вышел в коридор и налетел на моллу Юсуфа. Он возвращался откуда-то к себе.
Лишь на одно мгновение, на одно-единственное, замерли его глаза, когда он взглянул на меня, и меня осенило: он подслушивал и все знает. Если он выйдет, то предупредит его. Он предупредил и о дубровчанине, как это до сих пор не пришло мне в голову?
– Никуда не выходи, ты понадобишься.
Он опустил голову и ушел в свою комнату.
Мы молча ждали.
Тефтердар подремывал на скамье, но при каждом шуме открывал глаза, быстро поднимая опухшие веки.
Когда Пири-воевода вернулся, я уже знал, что все кончено. Я даже не осмелился спросить у тефтердара, как он поступит с Хасаном. У меня нет больше права на это и нет сил лицемерить.
Я остался один. Куда идти?
Я не слышал, когда вошел молла Юсуф, походка его была беззвучной. Он стоял у двери и спокойно смотрел на меня. Впервые я заметил, что он не испытывает волнения в моем присутствии. Потому что теперь мы равны.
Теперь у меня остался только он один. Я ненавидел его, презирал, боялся, но сейчас мне хотелось, чтоб он подошел поближе, чтоб мы помолчали вместе. Нет, пусть скажет что-нибудь, или я ему. Пусть хотя бы положит мне руку на колено. Посмотрит иначе, не так. Пусть хоть упрекнет по крайней мере. Нет, на это у него нет права. При одной мысли об этом внутри поднимался протест, даже гнев, и я подумал: мне нужны слова сочувствия или ничего. Я стою на той границе, когда могу до конца сломиться или стать зверем.
– Ты сказал, что я буду нужен.
– Больше нет.
– Я могу уйти?
– Ты знаешь, что произошло?
– Знаю.
– Я не виноват, меня заставили угрозами.
Он молчал.
– Я ничего не мог сделать. Мне приставили нож к горлу.
Он продолжал молчать, являя собой протест, не позволяя приблизиться к себе.
– Почему ты молчишь? Хочешь показать, как ты меня осуждаешь? На это у тебя нет права. У тебя нет права.
– Лучше тебе уйти из города, шейх Ахмед. Страшно, когда люди отворачиваются от тебя. Я это знаю лучше всех.
Нет, так ему не следовало говорить со мной. Это хуже, чем упрек, это убивающая холодность, презрительное ликование. Но все-таки мое оледеневшее сердце ожидало любых слов, утешения или оскорбления, только бы вернуться к жизни. Оскорбление, может быть, даже лучше; утешение совсем добило бы меня.
– Какое же ты ничтожество! – ответил я задыхаясь, повторяя слова, которые обожгли меня.– Как раз потому, что ты знаешь, я думал, мы будем разговаривать иначе. Немного у тебя разума, ты выбрал недобрый час для отмщения. Нет, люди не будут отворачиваться от меня. Возможно, они будут со страхом смотреть на меня, но презирать не станут. И ты тоже будь в этом уверен. Меня вынудили принести в жертву друга, почему я должен быть к кому-то внимателен?
– Тебе не станет легче от этого, шейх Ахмед.
– Может быть, и нет. Но и другим тоже. Я запомню, что и ты виноват в его муках.
– Если у тебя спадет груз с сердца от этих ругательств, то продолжай.
– Если б дубровчанин не убежал, Хасан сейчас спокойно сидел бы дома. А дубровчанин не стал гадать на кофейной гуще, что его ожидает.
– Он знал, что письмо перехвачено, что еще ему требовалось?
– Ты и это знаешь.
– Ты спрашиваешь меня или обвиняешь? Видимо, в самом деле тяжелее тем, кто остается.
– Ты не остался. Тебя оставили. А теперь вон!
Он вышел не оборачиваясь.
Все тщетно, беды слетаются стаями, как вороны.
На другой день мы проспали утреннюю молитву, тефтердар и я. Тефтердар – от усталости и сознания удачно сделанного дела, я – после бессонной ночи и сна, пришедшего лишь на рассвете. Однако ужасную новость я узнал первым, так и должно быть, меня она более всего касалась. И вполне естественно, что я услыхал ее от Пири-воеводы, страшную, как и он сам.
Сначала я не понял, о чем он говорит, настолько это было невероятно и неожиданно. Чуть позже, хотя все по-прежнему казалось невероятным, я что-то уразумел.
– Мы выполнили приказ,– сообщил отвратительный человек.– Диздар немного удивился, но я сказал, что это не его дело. Ему надо слушаться, как и мне.
– Какой приказ?
– Твой. О Хасане.
– О чем ты говоришь? О том, что произошло вчера?
– Нет. О том, что произошло сегодня ночью.
– Что произошло сегодня ночью?
– Мы передали Хасана стражникам.
– Каким стражникам?
– Не знаю. Стражникам. Чтоб его увезли в Травник.
– Тебе тефтердар приказал?
– Нет, ты сам.
– Подожди, прошу тебя. Если ты пьян, тебе надо проспаться. Если же нет…
– Я никогда не пью, кадий-эфенди. Я не пьян, и мне не нужно проспаться.
– Куда лучше было бы, если б ты оказался пьян, и для тебя, и для меня. Ты хоть видел, что это мой приказ? Кто его принес?
– Как же не видел, твоей рукой писан, твоею печатью скреплен. А принес его молла Юсуф.
И тут я сел, ибо ноги не держали меня больше, и выслушал чудесную повесть о чужой дерзости и своей беде.
Где-то после полуночи Пири-воеводу разбудил молла Юсуф и показал ему мой приказ о том, чтобы крепостной диздар в присутствии Пири-воеводы передал узника стражникам, которые в сопровождении моллы Юсуфа отвезут его в Травник. В приказе стояло еще, что упомянутому Хасану не следует развязывать руки, а город он должен покинуть до рассвета. Стражники на конях остались у ворот крепости, они вдвоем с моллой разбудили диздара и вручили ему мой приказ. Диздар ворчал, почему его не предупредили раньше, тогда он не отправлял бы узника в нижние темницы, а теперь нам надо будет подождать, а у него пропала ночь, и так он не знает, когда ночь, когда день, а Пири-воевода сказал ему, что его дело выполнять, да и молла Юсуф посетовал: дескать, на нас это дело, а не на нем, ну вот и приходится делать то, к чему душа не лежит, но ведь важное дело, и вали так желает, но не хочет, чтоб люди узнали от отправке Хасана, народ здесь безумный, недавно только доказал, и лучше все сделать тихо и незаметно. Он добавил еще, что просил меня позволить Пири-воеводе отправиться со стражниками и Хасаном, потому что он не привык на конях ездить, пока до Травника доберутся, у него раны откроются, но я ответил, что никак не могу отпустить Пири-воеводу, он нужен мне здесь, без него я как без рук, за что он и благодарит меня. (Никогда не говорите, что встретили самого глупого человека; всегда может случиться, что кто-то окажется глупее!) Когда Хасана привели связанного, он потребовал, чтоб ему освободили руки, спросил, куда его увозят, обозвал их ночными совами, сердился, что его разбудили во время самого сладкого сна, а когда молла Юсуф спокойно объяснил, что они лишь выполняют приказ, то спросил его, когда он раз навсегда повзрослеет и станет думать своей головой, а не по приказу, пора уж, наверняка он совершеннолетний, или он хочет наследовать ему, Пири-воеводе, чего он, Хасан, никак не советует, потому что никогда не достичь ему такого совершенства и он может стать лишь маленьким Пири-воеводой. Он, Пири, этого не понял, но думает, что тут кроется нечто обидное. Потом Хасан поблагодарил диздара за удобное размещение и абсолютную тишину, которой его окружили; ему было так хорошо, что из благодарности он желал бы того же самого и диздару. Пири-воевода прервал эту болтовню и велел трогаться.








