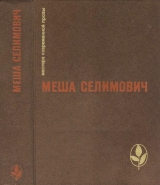
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 49 страниц)
14. Могущество любви
После объяснения, которое я начал с шутки, продолжил бранью, а завершил раскаянием, я исполнился самых добрых намерений и старался не оставлять Тияну одну. Она нуждалась в моей помощи.
Беременная женщина – существо иного порядка, для себя самой непонятное; она близка к постижению самых сокровенных тайн. Все, что подавлялось, пробуждается, выходит из тайников души, проявляется, требует внимания. И оказывает неосознанное, но сильное воздействие. Женщина не в силах справиться с множеством новых, незнакомых ощущений; ни стыд, ни сила воли не могут их подавить. Ревность ее продиктована страхом подурнеть, вспыльчивость – стремлением освободиться от внутреннего напряжения, беспокойство говорит о душевном смятении. Кровь циркулирует по-другому, железы действуют по-другому. И все помимо ее воли. Она во власти более могучей силы, чем ее собственные желания, и не может ни пресечь ее, ни обратить вспять. Из-за тайны, которую она несет в себе, весь мир для нее наполняется тайной, а страх перед исходом рождает мысль о смерти. Она говорила «если я умру» точно таким тоном, каким говорят «если я простыну».
– Если я умру, как ты останешься один?
– Если я умру, ты будешь думать обо мне?
– Если я умру, ты женишься? Конечно, женишься. Смерть жены – это как удар по локтю. Боль резкая, но проходит быстро. Все женятся.
– Оставь ты эти разговоры, пожалуйста,– пытался я ее успокоить.
– А ты женишься, если я умру?
– Нет, не женюсь,– отвечал я серьезно вопреки всей смехотворности такого вопроса.
– Тебе так плохо было со мной, что ты не захочешь жениться в другой раз?
– Я умру от тоски по тебе.
– Нет, просто один раз обжегся, больше не захочется. А может, и года не пройдет, как женишься.
– А ты вышла бы замуж, если бы я умер? – пошутил я.
– Пожалуйста, не шути! (Лицо ее ужасающе серьезно.)
– Почему? Мы с тобой в равном положении. Но оставим этот разговор. Стоит ли говорить о том, что будет через пятьдесят лет?
– Раньше, гораздо раньше. Я чувствую. И боюсь.
Напрасно было взывать к ее разуму – ожившие страхи легко брали над ним верх. Лишь нежностью и лаской мне удавалось ее успокоить, это было единственное средство, которое помогало. Я смешил ее, тетешкал, как маленькую, не позволял уставать – сам делал и то, что умел, и то, чего не умел,– словом, превратился в самую добронамеренную и самую неуклюжую няньку. Она растроганно плакала, видя мое внимание, смеялась над моей неумелостью и постепенно успокаивалась, переставая считать себя одинокой и покинутой.
Вечером мы выходили пройтись, днем она не хотела показываться на улице, убежденная, что беременность обезобразила ее. Мне думалось, что сумерки она предпочитала еще и потому, что могла свободно опираться на мою руку, днем она постеснялась бы это делать. В темноте на улице она чувствовала себя увереннее, когда ощущала мою поддержку.
– Ты лучший человек в мире,– говорила она нежно, вся во власти нахлынувших вдруг чувств.
– Не так давно я был самым плохим.
– Сейчас самый лучший.
Махмуд предусмотрительно остерегал меня: Тияна прекрасная жена, но во всем надо соблюдать меру. Если я приучу ее теперь к такому вниманию, что я буду делать потом? В жизни нет ничего вечного – нельзя быть вечно добрым, храбрым или нежным; жизнь прожить – не поле перейти, а нет ничего тяжелее, чем обязанность, взятая на себя добровольно в минуту слабости или воодушевления. Отказаться стыдно, продолжать мучительно – и винить некого: сам на себя взвалил. Это про болезнь сказано: «Не уморит, так порчу оставит». Беременность же не болезнь, а я ношусь с женой, словно она при смерти, прости господи. Боком это мне выйдет, дай бог, чтоб он ошибся, жена так возьмет меня в оборот, что мне белый свет не мил станет. Женщинам только позволь командовать, и кто любит, и кто не любит – все одно. Он согласен, муж должен быть добрым к жене, не будет он добрым, будет другой, и потом, лучше жить по-людски, чем как собакам грызться. Но строгость никогда не помешает. Конечно, кто способен на нее. Ведь некоторым строгость не дается, говорит он это так, вообще, как было бы лучше, а не как есть на самом деле. Он понимает, у меня-то это навечно, а такое, прости господи, нелегко выдержать.
Когда я сказал, оправдываясь, что Тияна неважно себя чувствует, он предложил привести свою жену, она, мол, поглядит Тияну, вот и узнаем, все ли у нее как надо. Когда жена была поздоровее, она помогала при родах, да и сейчас ходят к ней, просят, молят, женщинам спокойнее, когда она рядом, она все про эти дела знает почище лекаря.
Мы с Тияной согласились, решив, что если пользы не будет, так и вреда никакого, и Махмуд привел свою жену, с которой нам до тех пор не случалось видеться. То ли он стеснялся нас, то ли ее, то ли себя при жене, Тияне и мне, сказать не могу. Может, приврал ей про наше положение. Или жена его настолько уродлива, что он боится ее выводить на люди, убежденный, что одно дело слышать, а другое – видеть, на слух уродство менее неприятно, чем на глаз. Или боится показать, что жена презирает его.
Не знаю, где здесь правда, но мне его жена сразу пришлась по душе. Она с трудом передвигалась на своих слоновых ногах, с трудом дышала – мешала одышка, с трудом говорила, утомленная ходьбой, но тем не менее говорила без умолку, весело глядя маленькими, заплывшими глазами. Прежде всего сказала, что Махмуд ей уши прожужжал, какая Тияна красивая да добрая, и она уже решила, что та злая уродина, потому что Махмуд все видит наоборот. Да и как же не наоборот, конечно, наоборот! Тияна не просто красивая, а писаная красавица. И наверняка добрая, ничего в ней нет колючего, никакой вредности, никакой скрытности, и смеется вот весело и приятно, давно такого смеха не слыхала,– такую красавицу да по утрам встречать бы, чтоб день задался. Судя по ней, так и я человек неплохой, при плохом муже и жена хужеет. Хотя Тияна осталась бы собой, будь я даже никудышным, по глазам видно, что доброта ее не напоказ, а всамделишная. Но все равно от мужа многое зависит, муж – сосуд, жена – вода. И опять же муж, который себе добра желает, всегда жену слушает. Мужчины до старости детьми остаются. Женщины – они рассудительнее, понимают, что для семьи надо, не торопыги, семь раз отмерят, прежде чем отрежут, особенно у которых дети. Ведь только женщинам ведомо, как тяжко носить детей, поднимать их, мужья думают, что это так, забава, редко когда помогут, чаще мешают, не со зла, конечно, а по глупости. Да что поделаешь, заключила она, весело смеясь, глупые, умные – они наши, и дай бог им здоровья, какие бы они там ни были!
Махмуд близоруко щурился и потихоньку тер себе голени, не глядя на жену и на ее два зуба, белевшие в пустом рту.
О ком это она? Если и о Махмуде, то ничего обидного она не сказала и ничего плохого нет в ее бодрых речах, меньше всего напоминающих жалобу.
Она велела нам пойти подышать свежим воздухом, мы вышли на узкий балкон и стали там топтаться – было холодно и сыро.
– Слыхал? Говорит, говорит,– рассеянно произнес Махмуд.
– Умные вещи говорит.
– Эх, посмотрел бы я на тебя, когда б тебе пришлось слушать эти умные вещи с утра до ночи!
– Ну, с утра до ночи ты дома не сидишь!
– Все равно хватает.
Мы замолчали, он думал о своих неведомых мне заботах, я думал о Тияне. Что-то скажет жена Махмуда?
А что, собственно, она может сказать, что она знает? Помогала роженицам, ворожила, предоставляя все божьей воле, одни умирали, другие выживали – кому какое счастье.
Что мне ее слова!
– Долго они что-то,– кивнул я в сторону комнаты, стуча нога об ногу.
– Не долго, просто волнуешься ты.
– Конечно, волнуюсь.
– Напрасно. Женщины как кошки.
Когда жена Махмуда позвала нас, я прежде всего бросил взгляд на ее лицо. Какое у нее выражение – довольное или притворно веселое? Она так и сияла. Значит, все хорошо, подумал я обрадованно. А ведь она замечательная женщина и в самом деле знает свое дело!
Тияна смущенно улыбалась.
– Лучше не бывает,– гордо изрекла жена Махмуда, словно это была ее заслуга, и постучала по дереву.
– Тияна беспокоится.– Мне хотелось услышать побольше утешительных слов.
– Все женщины беспокоятся. Но ей нечего беспокоиться. Нечего тебе, душенька, беспокоиться, родишь, даст бог, шутя, сразу вижу. У меня глаз наметанный. Сколько беременных выхаживала, у скольких роды принимала, и сказать тебе не могу. Да и сама четверых родила, по себе тоже знаю.
– Четверых? – удивился я.
– Двое живы, двое померли.
Я вопросительно глянул на Махмуда. Ведь он говорил только о дочке!
Ответил не он, а его жена:
– Сын у нас в Мостаре, в учениках у ювелира. Сейчас мы вдвоем кукуем.
И, вдруг спохватившись, оглядела убогую нашу комнатенку:
– Тесно вам здесь, детки. Махмуд, может, им к нам перебраться?
– Жаль уходить отсюда в холода. Видишь, как из пекарни теплом несет, иной раз и я прихожу погреться.
– И ругаться удобнее с глазу на глаз,– пошутил я, не сразу смекнув взглянуть на Тияну. К счастью, она смеялась.
Засмеялась и жена Махмуда:
– Ругаться мы вам мешать не будем. И вы нам тоже. Ругайтесь себе на здоровье, после ссор любовь слаще. Ладно, весной поглядим. С ребенком вам здесь будет неудобно. Как у вас с деньгами?
– Хорошо.
– Худо, конечно. Случится какая нужда, ты, дочка, приходи ко мне, что-нибудь найдется. Малость Махмуд добудет, малость я, много-то нет, да много не нужно ни вам, ни нам. Приходи и просто так, поболтаем, чего одной скучать.
– Я не одна. Ахмед со мной.
– Выгони его, нечего мужчине дома торчать, и приходи.
Я знавал подобных женщин, они приходили к моей матери, всегда бодрые, уверенные, занятные, самые спокойные создания на свете. Эти простые женщины постигли тайну душевного равновесия, не ища ее. Все их радует, добры, пока им не наступили на больную мозоль; если их обидишь, за словом в карман не лезут; любят позлословить, но не слишком, потому что не завистливы; зато в любой беде помогут; знают, что жизнь тяжела, но плакать из-за этого не плачут и всегда отыщут в ней что-нибудь хорошее, а радуют их самые что ни на есть простые вещи: весеннее цветение, чашечка кофе на траве в горах, свадебный пир в околотке; любят вести нескончаемые разговоры и говорят все разом и во весь голос, чаще всего отыскивая в людях и вещах смешное. Они бережливы, потому что не богаты, знают толк в удовольствиях, потому что не нищие. Они как цвет черешни, что распускается только тогда, когда не слишком холодно и не слишком тепло. Если людей мучает бедность, они становятся хмурыми, озлобленными, грубыми, бранчливыми. А богатые всегда равнодушны, одиноки, боятся шутить, боятся радоваться, в них нет простоты и непосредственности.
И Тияну она очаровала. «Боже, сколько в ней доброты,– с восторгом говорила она,– какая она веселая, бодрая. Какое счастье, что у Махмуда такая жена!»
Тияна другая. Слишком рано изведала она горе, одиночество, тревогу. И моя мать была другая, вечно в заботах о неверном муже.
Случайно ли я встретил Тияну или неосознанно тянулся к образу и подобию матери? Знать я не мог, верно, учуял, внутреннее чутье мне подсказало то, чего глазами не увидишь. Я как будто возвращал милое сердцу детство.
Жена Махмуда – благословение божье, но я не уверен, хотел бы я, чтоб Тияна была на нее похожа. Пожалуй, меня раздражали бы ее спокойствие и ясность духа. Пожалуй, обостренная чувствительность Тияны – признак (хотя и болезненный) более развитого ума и более живой души. Страдание и раздумья лишают нас беззаботного смеха.
Однако с трудом верится, что жене Махмуда неведомы горести и размышления. Видимо, есть такие редкие люди, которых ни мысли, ни беды не лишают бодрости и ясности духа. Даже делают их лучше. Интересно бы узнать, как это у них получается.
Меня удивило, когда она прямо спросила Тияну, не было ли у нас каких пропаж. Иногда Махмуд бывает зол на весь мир, и, если она не дает ему денег на выпивку, он нарочно что-нибудь утаскивает у знакомых, неважно что, лишь бы опозорить и себя, и ее и напакостить ей, заставить развязать узелок с деньгами, который она хранит на груди, не делай она этого – он бы все разом спустил. Тияна успокоила ее, у нас, мол, ничего не пропадало, да и взять у нас нечего. Жена Махмуда то ли в самом деле поверила, то ли сделала вид, но с Тияной они стали неразлучны.
Как-то Тияна сказала, что идет к жене Махмуда, побудет у нее часок-другой, вернется в полдень и приготовит обед.
Я удивился и даже обиделся. Значит, я уже не нужен ей и ни к чему обещание, которое я дал и себе, и ей, не оставлять ее одну. Она сама меня оставляет. Отходит постепенно. Однако во мне все же победило благоразумие: пожалуй, так лучше – погуляет (ей это полезно), выговорится, рассеется, займется чем-нибудь и думать забудет о своих страхах. Меньше поводов для ссор.
А чем мне заняться? Я мечтал о свободе, а сейчас не знаю, куда себя деть, что делать со своей свободой. В кофейню идти не хочется, люди говорят вечно об одном и том же, я молчу.
Бродить по улицам? Смешно и глупо.
Не идти же к реке смотреть на воду! Во-первых, шел снег, во-вторых, желания не было, и, в-третьих, мне не от чего бежать. Опустошенным я себя не чувствовал, каким угодно, но только не опустошенным.
Я подумал о книгах, в них человек виден не целиком, а в самых лучших своих проявлениях, в лучшие мгновенья своей жизни. С этим живым, но отсутствующим человеком можно разговаривать, можно радоваться, и он не ждет от тебя даже благодарности. С ним можно браниться, и он тебе на это не ответит ничем, кроме того, что он уже написал. Можно восхищаться своим умом, изрекая перед ним глупости, которые он терпеливо выслушает. Можно его бросить и перейти к другому, он не разозлится. И сердечно встретит тебя, всегда готовый продолжить разговор, когда ты вернешься.
Я отказался от этого разговора, не пошел в библиотеку.
Я вспомнил про Моллу Ибрагима, вдруг он знает что-нибудь о Рамизе, зайду-ка к нему, скажу, что у Шехаги я ничего не добился, поговорим о разных пустяках – вечных проблем трогать не станем, нет, сегодня я решительно не в состоянии быть один, без людей, а он – какой ни на есть – самый близкий мне человек. Пока обстоятельства позволяли, он помогал мне; когда это стало опасно, хотел помочь, и не его вина, что он не таков, каким бы мне мечталось его видеть. Об этом можно сожалеть, а сердиться бессмысленно.
В писарской я застал Шехагу Сочо. Он и Молла Ибрагим вели разговор, показавшийся мне занятным.
Шехага помахал мне рукой, Молла Ибрагим и того не сделал. Вдумчиво и серьезно он слушал Шехагу. Шехага остановился лишь на мгновенье, чтоб бросить на меня взгляд, в котором я прочел легкое недовольство: мой приход прервал его исповедь, вызванную необъяснимым согласием между ними, каким-то особым настроением и внутренней потребностью, а теперь вот приноравливайся к третьему. Но, видимо, в его голове была уже выстроена огромная армия слов и надо было дать ей ход, она сгорала от нетерпения, сказано было еще слишком мало, и он продолжил свою исповедь, и не для Моллы Ибрагима или меня, а прежде всего для себя. Он нуждался лишь в понимании или молчании. У Моллы Ибрагима он найдет и то и другое. Я буду молчать.
Человек жаждет могущества, сказал он, глядя на Моллу Ибрагима, который был весь внимание. Ибо он живет, действует, сталкивается с людьми. И хочет что-то оставить после себя, что-то сотворить, чтоб жизнь его не была похожа на жизнь бездуховного дерева. И ему кажется, что он чего-то достиг, что он важный и сильный, что он многое может. Но однажды господь заставляет его прозреть, и он вдруг видит, не вот этими глазами, а другими, более зоркими, что он лишь песчинка в необозримой пустыне этого мира, столь же мелкий и незначительный, как муравей в муравейнике. А муравьи жаждут могущества? Стремятся быть сильнее и значительнее других? Знают ли они муки, заботы, бессонницу, отчаяние? Нам это неведомо и не слишком интересно – уж очень они мелки для нас. А в таком случае разве не может существовать кто-то гораздо больше нас, кому наши беды и горести представляются пустячными? Мы его не видим, потому что он не укладывается в нашем сознании, о его присутствии мы догадываемся лишь тогда, когда он проявляет в чем-то свою волю. Муравей ведь тоже не видит человека целиком, из-за своей величины человек для муравья и не существует, он видит палец или прутик, когда мы преграждаем ему путь, ощущает сотрясение, когда мы разоряем муравейник, и все. А человек в сравнении со вселенной меньше муравья. И почему должен существовать только человек со своим образом мыслей? Мир существовал и до нас, существует и помимо нас, будет существовать и без нас. Исчезнет ли мир, если люди перемрут? Нет. Все останется на своих местах – и известное нам, и неизвестное, не будет только нас. Много есть тайн, к разгадке которых мы даже близко подойти не можем и, уж конечно, не в состоянии их объяснить. И пожалуй, самая большая загадка – смерть! Вот где настоящая тайна и ужас! И когда мы не думаем о ней, она думает о нас. Поджидает нас за углом и всегда застает врасплох, разом уничтожая все, что было. Зачем было проходить весь земной путь, зачем было надеяться, оплакивать потери, радоваться удачам? Все напрасно. Смерть делает бессмысленной и жизнь, и все, что ею создается. А за тем страшным рубежом – неведомая тьма. Конец известен, а что за ним – не знаешь. Примириться с ним не можешь, но и изменить ничего не в силах. Ведь происходит это не по нашей воле – мало кто сам испытывает желание умереть,– а по какой-то всемогущей воле, о которой мы ничего не знаем, кроме того, что она неумолима и непреклонна,– быть может, это какой-то всеобщий дух, ни в чем не похожий на нас и не подвластный нашему разуму, ибо он вне нашего опыта. Но если мы не в состоянии его познать, разве это означает, что его нет? Шехага не уподобляет его человеку, а видит в нем сверхъестественную силу и сверхъестественный разум, которые хладнокровно вершат судьбами видимого и невидимого мира. Напрасно его молить, напрасно заклинать, ибо его мерки и резоны не похожи на людские, а какие они – невозможно даже себе вообразить. Вот он и сам говорит: он, его, ибо мы не знаем, что это такое, и наш язык не способен выразить то, чего не может постигнуть разум. Если это так, а наверняка это так, немыслимо допустить, что мировой дух играет с людьми недостойную игру, позволяя им прийти из ничего, промчаться по жизни и безвозвратно кануть в ничто. Это же бессмысленная трата колоссальных сил. Гораздо вероятнее и логичнее и не так обидно, если тело смертно, а душа бессмертна, если Душа – частица общей мировой энергии, подаренная нам, данная нам на время при рождении, которая после смерти тела будет жить своей неведомой жизнью или вселится в новорожденного, чтоб продолжить свое вечное движение. Капля воды и та не исчезает бесследно, а лишь меняет свой облик, как же может исчезнуть все, что составляло жизнь человека? В основе жизни должен лежать какой-то высший принцип, а не бессмыслица, не зло, не безумие!
Я слушал и не верил своим ушам. Так ведь этот на вид сильный человек совершенно сломлен! Он больше не верит своим глазам, своему разуму, своему опыту, не верит ни себе, ни людям, не может совладать с мукой, что терзает его душу. Подкосила ли его смерть сына и собственное бессилие спасти его, уберечь от беды? Слишком уж жестокой, слишком бессмысленной кажется ему эта смерть, он ищет причину ее в проявлении высшей воли, и неотвратимость ее служит ему утешением. Непомерная гордыня не позволяет ему признать себя побежденным в схватке с людьми. Пусть лучше это будут боги, мировой дух – словом, что-то неподвластное человеческому разуму! Жестокость расправы с его сыном не становится меньше, но гибель его переходит в разряд событий, происходящих по непостижимым законам и предначертаниям. И пусть телом его сын мертв, душа его бессмертна, нелепая гибель сына – ничтожное мгновенье в бесконечном потоке времени; когда их души встретятся, они вспомнят об этом с усмешкой.
Будь мы одни, говори он это только мне, не знаю, что бы я ему ответил. Может быть, ужаснувшись, упал бы перед ним на колени, заклиная не терять хотя бы разум. Или плача склонил бы голову перед его терзаниями. Не думал я, что они так велики.
Но он говорил не мне, я был случайный слушатель. Скажет ли что-нибудь Молла Ибрагим или промолчит? Да и что можно сказать этому отчаявшемуся человеку, который ищет утешения за пределами земной логики?
Пока Шехага открывал свою кровоточащую душу, внешне оставаясь спокойным, Молла Ибрагим слушал, опустив голову, словно бы дремал. Но когда он заговорил, я понял, что он не пропустил ни слова. Молла Ибрагим тоже поразил меня. Они точно поменялись ролями и мыслями. Молла Ибрагим говорил словами, которые я мог ждать от Шехаги, а Шехага – словами, которые, по моему глубокому убеждению, могли принадлежать Молле Ибрагиму. Первый, сильный, говорил о бессилии человека, второй, слабый, говорил о долге человека оставаться человеком! Как это понимать? Один смягчал свою боль, пытаясь найти в ней высший смысл, который не в силах принять, другой отрекался от собственного малодушия, восхваляя человеческое мужество, на которое сам не способен!
Грустно смотреть на это самоотречение.
Молла Ибрагим согласился с Шехагой, что люди жаждут могущества, в этом он не видел ничего плохого. Не будь этого стремления, бед и горя стало бы в мире еще больше. Покорные, забитые, примирившиеся со своей злой долей люди – жалкие рабы, и только. Но жажда жажде рознь. Одно дело – жажда власти над людьми, желание покорить их, запугать, заставить делать вещи, на которые сами по себе они никогда бы не решились, принудить к молчанию, к беспрекословному подчинению праву сильного. Эта жажда безнравственна, она унижает и угнетателя, и угнетенного. Горе тому, кто испытал это на себе! (Кого он имеет в виду? Себя ли, униженного чужим принуждением, меня ли, пострадавшего в результате его унижения? Он скорбит, он защищается, он обвиняет!) Но совсем другое дело – жажда могущества, обращенного на пользу людям, оно добивается победы иным оружием – любовью – и побуждает к согласию. Это великая сила, если бы все люди овладели ею, зло стало бы невозможным. Человек, владеющий этой силой, не песчинка. Какой смысл спорить, есть ли верховное существо, может быть, и есть, но он убежден, что наши земные дела должны улаживать мы сами. Никто за нас этого не сделает. Ждать избавления от некой сверхъестественной силы и в ней искать утешения, а люди тщетно занимаются этим уже тысячи лет,– значит, в сущности, признать свое бессилие и отказаться от всякой попытки изменить жизнь людей к лучшему. Мир существовал до людей, он будет существовать и после людей. Ну и что из того? Пусть об этом заботится тот, кто будет жить тогда. Мы свои заботы не можем переложить ни на чьи плечи и обязаны учиться могуществу любви, чтоб не превращать жизнь в пытку. Что до души, он думал и о ней. Быстротечность жизни и неизведанная тьма вечности, поглощающая человека, порождает в душе страх и смятение. Когда он начал размышлять об этом, ему показалось, что законы развития рода людского несправедливы. Человек приходит в мир невинным младенцем, ничего не знающим ни о себе, ни о жизни, ни о грехе, ни об унижении, ни о тщеславии, все для него ново и свежо, все прекрасно, духовное начало в нем еще не развито. Потом он живет, долго и мучительно приобретает опыт, и, когда достигает полной зрелости, является мысль о смерти. И человек умирает слабым, изможденным, отчаявшимся, отягощенным мыслями о преступлениях, лежащих на его совести; он недоволен тем, что совершил в жизни, ибо чаще всего он это делал помимо своей воли, недоволен тем, чего не совершил, ибо только это он и хотел совершить, да отваги не хватило, он безумеет от сознания бессмысленности прожитой жизни и от того, что впереди непостижимая тайна смерти. Вконец напуганный, не находя опоры – а эту опору могло бы дать ему лишь убеждение, что совесть его чиста и жил он лишь по ее велению,– в отчаянии он хватается за мысль о вечности души, о ее бессмертии, о возможности где-то когда-то найти какой-то смысл. Так бесславно завершает он свое земное существование, сломленный, изверившийся. А насколько было бы лучше, если бы мы рождались старцами, постепенно достигали бы зрелого возраста, понемногу забывая первобытный страх смерти, затем становились самоуверенными юнцами, достаточно легкомысленными, чтобы ни о чем серьезно не задумываться, потом беззаботными детьми, а умирали бы новорожденными младенцами, ничего не ведающими, безгрешными, как зародыш в лоне матери. Какая бы это была прекрасная и свободная смерть! Но раз это невозможно, спасение – в любви и человечности. Так легче жить и легче умирать. Моллу Ибрагима не волнует, что его ждет после смерти: истлеет ли душа вместе с телом, или отлетит и будет наслаждаться покоем и бездельем, или, грязная и замутненная, будет подарена новорожденному младенцу, что было бы большой несправедливостью по отношению к безгрешному созданию. Его волнует другое: очень ему хочется, чтоб после его смерти люди или хотя бы один человек поминали добром его имя. Тем бы он и продлил свое быстротечное земное существование. Это желание заставляет при жизни не причинять людям зла, а иной раз и доброе дело сделать. Мысль о вечности души ни к чему не обязывает; как бы человек ни жил, что бы ни делал, все в руках некоей высшей силы, и душа закоренелого злодея вполне может оказаться в теле невинного младенца, едва появившегося на свет божий. Мысль о человечности справедливее, разумнее. Краткость жизни его не пугает, лишь бы совесть была чиста; если же она не чиста, так чем дольше живешь, тем больше зла творишь. Кому нужна долгая жизнь? Что делать с бессмертием? Ведь это самое большое несчастье, какое только может постигнуть человека. Агасфер – несчастнейший из людей. Моллу Ибрагима охватывает ужас при одной мысли о жизни, не имеющей завершения, жизни без конечного успокоения, жизни, не ведающей страха, но и радости тоже, жизни без любви. Бесконечность лишает жизнь смысла. Именно страх смерти придает прелесть всему, что нам доводится переживать. На этом коротком перегоне между двумя тайнами надо пройти через все, постигнуть радость чистой жизни и красоту любви к людям.
– Где ты видел таких людей? – яростно вопросил Шехага.– Те, среди которых мы живем, хуже волков. Чуть споткнешься, растерзают.
Молла Ибрагим качал головой, не соглашаясь с Шехагой.
– Не все люди такие. Злые вперед вылезли, потому и бросаются в глаза, а мы думаем, что все похожи на них. Не так это.
Он посмотрел на улицу. Двое его помощников медленно прохаживались перед писарской с грузом снега на головах и плечах.
Ради Шехаги он выслал их из писарской, ради меня – не захотел! Все его поступки противоречат его словам. Зачем же он говорит? И он, и Шехага? Или люди ценят и уважают лишь то, чего самим недостает? Кого они обманывают – себя, других? Или желаемое – это одно, а реальная жизнь с ее требованиями – совсем иное?
Молла Ибрагим наверняка хотел жить так, как говорил, но его желания натолкнулись на непреодолимые препятствия, и в душе осталось лишь жалкое воспоминание о том, каким он был когда-то, о добрых намерениях, сохранившихся только на словах, которым никогда не стать делом. Но и то, что осталось, прекрасно, как бывают прекрасны руины. Я не знаю, у кого он позаимствовал эти мысли, однако ничего более стоящего мне, пожалуй, от него не приходилось слышать, хотя в душе я недоумевал, как могут в одном и том же человеке уживаться малодушие и человечность.
Извинившись, Молла Ибрагим вышел на улицу к своим подручным, чтоб еще на некоторое время освободиться от них.
Шехага задумчиво смотрел ему вслед:
– Чушь. Умный человек, а говорит чушь.
– Мне близки и понятны его слова.
– У тебя мало опыта. Если бы ты знал жизнь так, как я, и в людях лучше разбирался, ты бы думал иначе. Что же он сам не живет по своим прописям?
– Бог знает, что его сломало.
– Ты для всех находишь оправдание.
– С чего вы начали этот странный разговор?
– Сам не пойму. Случайно, наверное. А может, и не случайно. Пришел я к нему о тебе поговорить. Чтоб он снова тебя взял. Да позабыл. Иногда вдруг тянет поговорить о том, чего до конца не понимаешь.
Пришел из-за меня, однако разговор увел их от меня бог знает куда! Очень мило с его стороны подумать обо мне, но я бы предпочел, чтоб он не позабыл так быстро о своем намерении.
– Разве не умнее думать о вещах, нам ведомых?
Он покачал своей узкой крепкой головой: хватит с него знакомых вещей, сыт по горло. Хотя его холодные серые глаза не столь решительны. Они по-прежнему обращены внутрь, к его безысходному горю, не так легко оторвать их от жизненного опыта и земли. Зачем он все это говорил? Чтоб оправдать свое бессилие, непростительное во мнении других, чьей-то волей, более могучей, чем воля человека? Но как можно, не принимая жестокости людей, мириться с жестокостью неведомых сил? Только потому, что они неведомы и непостижимы? Он был похож на павшего духом мученика, на неизлечимого больного, потерявшего веру в докторов и ищущего спасения в заговорах. Беда в том, что у него слишком много здравого смысла, чтобы поверить в чудо. А лекарство, что предлагал Молла Ибрагим,– примириться с людьми, жить по законам любви, а не ненависти,– для него тоже неприемлемо. Он предпочитает взвалить вину на бога, а не на людей, но в его ожесточившемся сердце так и останется ненависть и к богу, и к людям, и тоска по сыну, и яростный протест против непостижимой судьбы.
Не знаю, ждал ли он от меня каких-нибудь слов, я был слишком растерян и не нашелся что сказать. На каждом шагу я понимаю, что никак не могу понять людей. Слова их не совпадают с делами, а мысли? Пожалуй, этого они и сами не ведают. И что я могу ему сказать такого, чего он не знал бы сам, над чем не мучился бы долгими бессонными ночами? К молчанию меня склоняли и его руки, тугой судорожный узел, в который сплелись его пальцы. Он не размышлял, он страдал.
Шехага вызывал во мне жалость, меня поражала его полная безутешность. Неужто время нисколько не излечило его? Или он сильно обидел сына при жизни и смерть сына лишила его возможности искупить свою вину перед ним? Если это так, понятно, почему он познал ад здесь, на земле.
И пока я молчал, размышляя над тем, отчего люди постоянно задаются вопросом, как следует жить,– от неизбывного ли горя, или от несостоявшихся благородных порывов,– в писарскую вошел человек, который никогда в жизни над этим не задумывался. Это был Осман Вук. Он вошел вместе с Моллой Ибрагимом, сияющий, весело стряхивая шапкой снег с плеч.








