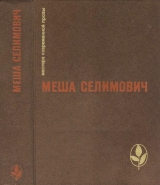
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 49 страниц)
Махмуд ждал, когда я получу деньги, не подозревая, к счастью, о моих раздумьях, потому что его хватил бы удар, знай он о моих колебаниях.
Когда все было кончено, Махмуд расправил плечи, поднял голову, помолодел, глаза его горели вдохновением, от радости он ничего вокруг себя не видел, а я ушел в себя, подавленный и расстроенный.
Покупатель глядел на нас с удивлением, и стряпчий в суде глядел на нас с удивлением, как на дурней, какими мы и были.
Один дурень задешево продал место возможных воспоминаний о своих предках, чтобы отдать деньги другому дурню на самую пустячную вещь в мире, на никчемные детские свистульки.
Махмуд отправился в путь на следующий день, рано утром,– боюсь, что он не спал ночь от нетерпения, планов, грез. Вернулся он в пятницу с полутора тысячами свистулек, похудевший, почерневший от недосыпа, но счастливый. Дорога, голод – он экономил на всем – измучили его вконец, но надежда поддерживала и окрыляла, и вот одышливый победитель, из последних сил волоча больную ногу, гордо вступил в город, качаясь, что расшатанный плетень, но как никогда уверенный в себе.
Распродав товар по лавкам, не так, однако, выгодно, как рассчитывал, он представил мне точный отчет и насилу принял деньги в возмещение путевых расходов, упоенный своим первым в жизни барышом.
А по всему городу, в торговых рядах, во дворах и домах полторы тысячи Махмудовых свистулек верещали на все лады, подняв такой гвалт, что голуби в страхе искали укрытия, а люди зажимали уши.
Махмуд ходил счастливый оттого, что одарил город оглушительной музыкой, а детвору – простодушной радостью, а мне было смешно и немного стыдно, и я скрывал, что тоже причастен к этому содому.
Смешно и грустно.
Во что обратилось родное пепелище? В пронзительный писк детских свистулек!
Зря я на это пошел. Пепелище мне было нужно, оно связывало меня с детством и с жизнью, из которой выросла моя жизнь. Я обязан был сохранить тени, чтоб мысли было за кем идти, на что опереться, о чем грустить, чтоб можно было думать об утраченном прошлом. Моем и их.
Теперь я один и все начинаю сызнова.
10. Юноша с чистым сердцем
Я просидел в кофейне дольше обычного и гораздо дольше, чем собирался. Не хватало духу оставить Махмуда Неретляка, праздновавшего свою победу и угощавшего всех подряд. Стемнело, с Беговой мечети раздался призыв к вечерней молитве, а Махмуд все пил и угощал; уже несколько дней он ликовал и радовался, не в силах свыкнуться со своей злополучной победой. Не закрывая рта рассказывал, хвастал, добродушно смеялся, не замечая все более откровенных насмешек, и щедро сорил заработанными на свистульках деньгами.
Я злился на него, не в силах понять, как можно издевку принимать за шутку. Выпивохи восторгались его умом: и как только он сообразил насчет детей и свистулек – ведь ни одному торговцу это и в голову не приходило,– спрашивали, что он еще задумал, чтоб не соваться туда же, потому как разве с ним сладишь, советовали ему продать лавку – ему, мол, пора завести более крупное дело – и удивлялись, как он до сих пор скрывал свои таланты.
Потный, разогретый вином, окрыленный удачей, Махмуд дружески поверял людям свою судьбу, говорил, как долго его преследовали неудачи, а ведь пришла беда – отворяй ворота, тут тебя не спасут ни ум, ни таланты, попался в тиски – так пищи не пищи. А вот встретился добрый человек, увидел, чего он стоит, и все чары как рукой сняло. И теперь он встал на собственные ноги, не очень пока твердо, но встал и полагает, что чары исчезли потому, что в него поверили. Никто не знает, разве только он один, какая это подмога, когда в тебя верят. Сердце сильнее бьется, плечи распрямляются. Он надумал еще несколько дел, надеется, удадутся и они. В торговых делах он никому поперек дороги не встанет, пусть не опасаются. Любому поможет и советом, и деньгами по силе возможности, потому что хочет со всеми жить в мире, любви и согласии.
В задымленной кофейне люди громко хохотали, били его по худым плечам, так что его качало как тростинку, и язвительно благодарили за доброту и великодушие.
Мне стало тошно.
– Пойдем,– звал я его.– Хватит уж.
– Нет, не хватит. Я сегодня не могу от людей уйти.
И, хитро подмигивая, он шептал мне на ухо, что теперь ему нужны люди – для дел. Они ему подсобят, он – им, так и пойдут денежки. Да и не только в деньгах суть, есть и другие вещи. Какие? Да есть кое-что. Каждый что-то в душе хоронит. Ну да ладно, мы как-никак друзья, так уж и быть, он скажет, не станет от меня таиться: ему нужно заработать деньги, чтобы заткнуть рот этому псу. Какому псу? Зятю своему, дьяволу бы его в зятья. Когда дочь выходила замуж, Махмуд обещал дать за ней жемчужный браслет и нитку дукатов, было это еще тогда, когда он думал, что всю жизнь проведет в городе и разбогатеет. Зять требовал, он и обещал. «Раз беру уродину, так хоть не голую»,– так прямо и сказал. А она не была уродина, бог свидетель, вылитая мать! Жемчуг он купил, а дукаты не собрал из-за того, понимаешь, и зять всю кровь из него выпил. Ругает их почем зря, проклинает тот час, когда с нищими связался, жену колотит. Каково отцу глядеть на несчастье своего дитяти? Иногда так бы и прихлопнул его, да ведь только себя и своих угробишь. Не будь у них детей, вернул бы дочь домой, пусть бы вздохнула, пожила как человек, но у них их трое – и сами не знают, как народили между ссорами да колотушками, и дочь не хочет – стыдно ей бежать из мужнина дома. Достать бы эти проклятые дукаты, чтоб злодей угомонился и дочка в мире пожила! Ни болезни к себе не допустит, ни немочи, ни самой смерти, пока не вернет этот долг!
У меня аж дух захватило. Неужто причина его безрассудства так серьезна? Тогда какое же это безрассудство? Это горе, глубокое горе! Я был несправедлив к нему. Ни помочь ему, ни облегчить его горя я не мог, но я был несправедлив. А потом я усомнился в правдивости его душещипательного рассказа. Как мог Махмуд так долго скрывать от нас свое горе? Не разжалобить наши сердца сочувствием? И почему он никогда не говорил, что у него есть дочь? Откуда она вдруг взялась?
Кто знает, зачем ему понадобилась эта выдумка? А если это не выдумка, значит, когда-то это было правдой, обернувшейся после самообманом.
Дочь и зятя он выдумал или свое горе? Бесполезно докапываться до истины!
Как бесполезно пытаться увести его из кофейни, прервать его торжество. Это великий час Махмуда, он ждал его всю жизнь.
Задумал ли он его в годы бед и лишений, тогда ли подбирал слова, которые произнесет, и удовольствия, которые позволит себе, добившись успеха? Успеха он не добился, это понимают все, понимает и он, но настоящего успеха слишком долго ждать, и потому этот свой первый робкий шаг он изобразил как начало пути к желанной цели. До цели далеко, это он понимает, да и цель куда значительнее! Он совершил лишь первый шаг, удачный, свободный, многообещающий. Чары исчезли, злой рок милостиво оставил его в покое, чертям надоело вставлять ему палки в колеса, и теперь дело за его умением, его верой в себя, а счастье уже близко, рукой подать. И не деньги ему нужны, бог свидетель! А что, он и сам затруднился бы объяснить. Может быть, право сидеть вот так с людьми ночь напролет в кофейне, а не за дверями, как обычно, говорить, как и прочие, о себе, выслушивать насмешливые замечания и воспринимать их как дружескую шутку или похвалу, чувствовать уважение людей или выдумывать его. Он все принимает, исполненный умиления и благодарности, все, даже издевку, пусть только будет не так, как прежде, когда для людей он все равно что чурбан, глухая стена или бродячая собака.
И если сегодня его могущество призрачно, завтра оно будет реально, и ему не о чем горевать. Вот он сидит плечом к плечу с людьми за мирной беседой, и в этом ничего призрачного нет. А если завтра все это и канет в бездну, будет что вспомнить!
Однако мысли Махмуда не заходили так далеко.
И пожалуй, он прав. Ему важно не то, что есть, а то, что ему представляется. И слава богу! Сегодня это совсем другой Махмуд Неретляк – такой, каким он мечтал и желал видеть себя много лет: и хрипота в груди исчезла, и судорог в ногах как не бывало, и затаенная тоска ушла из сердца.
Жаль, что заблуждению наступит конец.
Он не рассердился, когда я сказал, что иду домой, не уговаривал остаться, великодушно махнул рукой, как бы отпуская меня. Сегодня он не один. До сих пор я поневоле заменял ему товарищей, разговоры за чаркой вина, тепло дружеского застолья. Теперь он может обойтись без меня.
Бог с ним, завтра снова прискачет.
Я торопливо шел домой – тьма непроглядная, холодная, улицы темные, пустые, люди попрятались по домам, прогнала их темнота, как птиц.
Тияна ждет меня в пустой комнате, одна, нехорошо, что я оставляю ее одну, дам ей слово, что больше не буду ее бросать одну, даже из уважения к другим. Ведь что мне другие, что мне Махмуд Неретляк со своим безумием – для всех у нас находится понимание и сочувствие, кроме самых близких, их верность кажется нам такой же неотъемлемой нашей принадлежностью, как собственная кожа.
Хорошо бы, она встретила меня ласково, потому что иначе я не признаю своей вины и мы будем дуться друг на друга, пока не ляжем спать. Пропадет светлая радость раскаяния и пьянящее сознание своей доброты. И ее прощения. Будет просто прекрасно, если она догадается не корить меня за опоздание. А если она станет обличать меня, я пущусь в спор и не захочу признавать свою вину, именно потому что виноват. Только это я должен сам сказать, а не она. И мы поссоримся, она будет плакать и перечислять мои бесконечные грехи, я – злиться и призывать всех богов в свидетели, что я самый несчастный человек на свете и никто меня не понимает. Потом мы помиримся, как всегда неожиданно, и счастливо притихнем, как после грозы.
Будет хорошо, как бы Тияна меня ни встретила.
В подворотне меня перехватил Молла Ибрагим, стряпчий, мой бывший друг и работодатель. Прогуливался, наверное, перед сном – мол, для здоровья полезно,– в этой темнотище пришлось ему вовсю таращить глаза, чтоб узнать и не пропустить мою тень.
– Иди сюда,– шепнул он мне и скрылся в глубине подворотни.
– Ты, похоже, долго ждешь. Обычно я прихожу раньше,– сказал я только для того, чтобы что-то сказать и скрыть свое изумление, что он здесь да еще в эдакую пору! Я почувствовал страх. Что произошло? Какая новая опасность нависла надо мной? Но тут же успокоился, сообразив, что, если б мне грозила малейшая опасность, Молла Ибрагим даже близко не подошел бы к моему дому. За ним, как за лисой по заледенелой реке, можно идти смело.
– За тобой никто не шел? – настороженно спросил он, пропустив мимо ушей мои сбивчивые объяснения.
– Кто за мной должен идти?
– Я разговаривал сегодня…
Мимо прошел мой сосед Жучо, уличный подметальщик, пьяный в стельку.
Молла Ибрагим прижался к стене и замолчал, укрывшись за моей спиной.
Я засмеялся:
– Чего ты испугался? Он пьян, и себя-то в зеркале не узнает, где ему тебя узнать!
– Сегодня я разговаривал о тебе с Шехагой Сочо. Он сам о тебе спросил,– честно добавил он.
– С чего вдруг Шехага стал про меня спрашивать?
– Он мог бы тебе помочь. Велел прийти.
– Как он мне может помочь?
– Место, может, найдет. Он все может.
– Что он потребует от меня за услугу?
– Ничего. Он спросил о тебе, я рассказал все, что знал, и вот он велел, чтоб ты к нему зашел. Пойди непременно.
– Схожу, пожалуй.
– Не пожалуй, а обязательно.
– Ладно, схожу.
– Деньги есть?
– Есть. Спасибо.
– Ну вот, больше ничего. Никому не говори, что я приходил.
Он выглянул из ворот, нет ли кого поблизости, и нырнул в темноту.
Я проводил взглядом его тень, растаявшую во тьме, и еле удержал себя от желания побежать за ним и спросить, зачем, полумертвый от страха, он приходил сюда под покровом мрака? До чего же смешон этот его страх всего и вся, но для него он ничуть не легче от того, что кажется нам смешным. Молла Ибрагим должен был призвать всю свою отвагу, чтоб прийти к моему дому и разговаривать, пусть на ходу и скороговоркой, со мной, человеком отвергнутым и отринутым.
Почему он печется обо мне? Не может забыть Днестр, когда я спас ему жизнь, не думая о своей? Я же объяснял ему, что сделал это не по доброте, не из сострадания, не по зрелому размышлению. Я поступил не рассуждая, почти в беспамятстве, не сознавая, что делаю. С той же вероятностью я мог бы бросить его посередине реки без всякой жалости. Поэтому он не должен считать себя обязанным мне, я давно ему это сказал. Но в памяти остается не причина поступка, а сам поступок. Он помнит, что я спас его, помнит ту страшную минуту, когда он обмарался от страха перед смертью, чье ледяное дыхание он уже ощутил. А в это время какой-то дурень упрямо толкал лодку по беснующимся волнам, спасая неведомого ему человека (мне-то кажется, что я просто держался за лодку, чтоб не утонуть). Конечно, тогда он от души молился за спасение жизни этого другого человека – хотя бы до берега – и за победу над смертью, победу свою и его. И никогда никому не желал столько счастья, как ему, потому что все теперь зависело от него. Он запомнил все: и безумную реку, и безумный страх свой в предсмертную минуту, и безумного молодого солдата – и потом, придя в себя, не мог забыть, что лишь ему да чуду обязан жизнью. Первую жизнь дал ему отец в Сараеве, вторую – я, на Днестре. Первой он не желал, за вторую отдал бы и душу. Как не запомнить родителя, по-особому дорогого? Правда, он мог и забыть, многие забывают, но, на его беду, у него доброе сердце и он хочет за добро платить добром. А его заставили за добро заплатить неблагодарностью. Пожалуй, ему тяжелее, чем мне. Наверняка тяжелее. Память мучит его, вот и сегодня он пришел, невзирая на страх. Не решился передать через другого. Сам пришел. Для него это все равно что пойти на штурм редута.
Когда-то мне хотелось, чтоб среди ночи его разбудили стыд и раскаяние, а выходит, душа у него шире, чем я думал, и он даже борется со страхом, бушующим в его крови.
Да простит его бог, говорил я себе, когда он отступился от меня и не посмел спасти меня наперекор людям. Да простит его бог, говорю я и сейчас, только мягче и теплее, чем раньше. Не в силах оставить свой мучительный страх дома, он нес его всю дорогу ко мне, как огонь на рубахе, как змею на шее, как лихорадку на теле, и наверняка страх терзал его все больше, по мере того как он приближался к запретному месту. И он пришел, обожженный огнем, весь в змеиных укусах, израненный собственными уколами совести, чтобы принести мне, как солдат солдату, весть о помощи.
Да простит тебя бог, честный человек, которому не позволяют быть честным: ты выполнил свой долг, умирая от страха. Я начинаю питать уважение к такого рода отваге. Пожалуй, она стоит больше безоглядной храбрости.
Расскажу Тияне забавную притчу о человеке, которого сделал героем страх, и о честности, порожденной стыдом. Теперь, когда он возвращается домой, совершив глупый, но честный поступок (как сказал бы Махмуд), страх в нем еще сильнее, но сейчас он доволен собой, а это что-нибудь да значит. А возможно, и нет, возможно, он уже раскаивается в своей опрометчивости, но этого я не узнаю, я буду помнить лишь о его подвиге.
Войдя в комнату, я остановился как вкопанный. Тияна была не одна. На сундуке спокойно сидел Авдага.
Мне было бы легче увидеть волка.
Знал ли Молла Ибрагим, что у меня сидит Авдага? В таком случае отвага его еще больше.
Я кинул на Тияну вопрошающий взгляд: что ему надо? Она ответила принужденной улыбкой: откуда мне знать?
Я поздоровался с Авдагой, ожидая, что он объяснит, чем я обязан чести видеть его у себя дома. Однако он не торопился с объяснениями, словно врываться в чужой дом незваным, непрошеным – дело обыденное и естественное.
Но, похоже, и для него это не совсем в порядке вещей: вид смущенный, молчит, многозначительно покашливает, держится скованно и понуро. Надеялся, мол, кх… кх… застать меня дома, уже давно стемнело… кх… кх… Словом, пришлось сказать не столько для него, сколько для Тияны, что Махмуд бражничает в честь своего первого торгового барыша и мне было неудобно его бросить.
– Мразь,– отрезал Авдага.
– Не хуже других,– ответил я.
Тияна, недовольная заключением Авдаги и моим ответом, сказала, что Махмуд хороший человек, только несчастный. Для Тияны это первейшее оправдание.
Для Авдаги это наихудшая хула. Ход его мысли таков: босяк, если б стоил чего-нибудь, добился хотя бы малого. А потом, мошенник не может быть хорошим человеком. А несчастный потому, что поймали. Все люди преступники, а уж те, кого суд признал преступником, никогда порядочными людьми не станут. Ничего этого он не сказал, лишь переводил свой липкий взгляд с меня на Тияну, словно не понимал, о чем мы говорим. Хуже того: словно не знал, куда нас отнести – вроде и не злодеи, и на порядочных не похожи. Что же мы такое?
– Странные вы люди,– сказал он раздумчиво, подавленно ежась на сундуке.
Я понимал, он решает сейчас, к какому разряду людей нас отнести, и считал, что лучше не портить его представления о нас и не делать ничего, что могло бы его рассердить. Выгоднее остаться странными и непонятными, чем подозрительными.
Власти его презирают, однако позволяют держать людей в страхе, и он выполняет это со всей добросовестностью, на которую способен, слушаясь своей неумолимой совести не меньше, чем своих хозяев. Он предпочитал наказать сотню невинных, чем упустить одного виноватого, но вину каждого определял согласно своим мерилам. Поэтому я счел за благо дать его неповоротливым мыслям отстояться, ничем их не тревожа, не подбрасывая им пищи.
Тияна думала иначе. Она не способна была пропустить мимо ушей несправедливые слова, хотя после этого и умирала от страха; урока из подобных горьких опытов она не извлекала.
– Почему странные? – спросила она резко, и я понял, что теперь ее не остановить.– Потому что никому зла не делаем, никому не докучаем, обиды на нас никто не держит, да? Или потому, что спокойно переносим людскую несправедливость? А как мы должны поступать, чтоб не быть странными? Ругаться, проклинать, жаловаться, ненавидеть людей, о мести думать?
– Куда хватила!
– Или потому мы странные, что к нам приходит всеми презираемый Махмуд Неретляк? «Мразь», сказал ты о нем. А вот когда с нами несчастье случилось, говорю «несчастье» – другого слова и не подберешь, все от нас отвернулись, никто не помог, только он. Бог знает, что было бы с нами без него. Последней коркой хлеба с нами делился, разве такое забудешь? И пожалуйста, он мразь, а мы странные люди! Да есть ли у тебя сердце, Авдага? Что ты хочешь от нас?
Вначале меня испугали ее резкие слова, но, когда я увидел, как Авдага растерялся, я уже с удовольствием наблюдал за их поединком, наслаждаясь ее прямотой и его смущением. Похоже, он совершенно теряется, как только обнаруживает, что его не боятся. Я уже второй раз это вижу. Может, его сбивает с толку то, что он в нас еще не разобрался, не отнес ни к какому из своих разрядов; перед тем, кого он считает преступниками, он, наверное, не теряется. Или чувствует себя неуверенно с женщинами. Ему, старому холостяку, который за всю свою жизнь с женщинами, этим загадочным для него племенем, обмолвился разве что несколькими словами, приходится убеждаться теперь, что такое женская говорливость, да еще из таких прекрасных уст.
Он перевел ошарашенный взгляд на меня, моля о помощи, но помощи не было; я с радостью смотрел, как он поджаривается на медленном огне, и желал ему еще больших мук.
А она, гневная и оскорбленная, взвинченная собственной речью, казалось, только ждала от него слова, чтоб продолжить свою отповедь и излить в ней всю горечь последних месяцев.
– Я думал…
Трудно поверить, что он о чем-то думал, так она все в нем перебаламутила. Видимо, он уже раскаивался, что заявился сюда (не знаю еще зачем), а может, и на это был не способен, потрясенный тем, что она не боится его, как другие, не выбирает слов, как другие, не помнит о его кровавом ремесле, как другие. Ведь без страха, который он несет над собой, как знамя, и который клубится над ним облаком, без этого меча, отсекающего у людей мужество, он безоружен и беспомощен. Да смилостивится над ним бог, но сейчас даже те несколько мыслей, которые прочно засели у него в голове, стоят в ней колом, точно кость в горле.
Пожалуй, самое время вмешаться, и я решил прийти ему на помощь, испугавшись, что он начнет спасаться от унижения грубостью.
– Ты, жена, не совсем права,– произнес я миролюбиво, надеясь, что она поймет меня.– Авдага не думал ничего плохого.
– Я не знаю, что он думал, я знаю, что он сказал. Не хочет нам помочь – не надо, но зачем оскорблять?
– Да не оскорбляет он, что ты на него набросилась?
Тут и Авдага наконец открыл рот:
– Я о другом думал, не о том, о чем ты говоришь. Я думал: не очень-то вы богаты.
– Смело можешь сказать, что мы нищие. Это грех?
– Не грех, но вот я предлагал ему службу. А он отказался.
– Не хочу, Авдага, губить человека.
– Он и без того себя погубил.
– Что ты тогда хочешь от меня?
– Ничего. Просто понять не могу: при такой бедности – и отказаться от места!
Вот что его гложет! Но как ему объяснить? Не могу быть бесчестным, я не зверь, человек ничего плохого мне не сделал… Что бы он сказал, если бы речь шла о нем? Думаю, он и спрашивает из-за себя. Он убивает людей и уверен, что делает правое дело. Я и на войне-то не знаю, убил ли кого-нибудь, а когда после боя видел мертвых, содрогался от одной мысли, что в кого-то из них могла попасть моя пуля.
Скажи я ему об этом, он решил бы, что я вру или что я законченный слюнтяй. Как он может мне верить, если знает столько людей, которые не считаются ни с чем и ни с кем?!
Никоим образом он не в состоянии был уразуметь, почему я отказался от его предложения. Получил бы место, требуется от меня немного, никто и не подозревал бы, что я сделал что-то дурное. Один я и знал бы, а раз так, какое это имеет значение?
Сошлись я на совесть, он тоже не понял бы. У него совесть казенная, и он представления не имеет о том, что она может быть собственной.
– Видишь ли, Авдага, труднее всего объяснить простые вещи,– попытался я отыскать щелку в его броне.– Ну вот, скажем, ты убил человека, взял бы ты себе его бурку, или коня, или дом?
– Нет, боже сохрани!
– Так почему же ты полагаешь, что я могу это сделать?
Он помолчал и потом затряс своей квадратной головой:
– Это другое дело.
– Ты считаешь, выгнать со службы Мехмеда Сеида не грех?
– Мехмед Сеид уже ни к черту не годится.
– По-твоему, и Рамиза погубить не грех?
– Это не моего ума дело, другие будут решать.
– Но грехом ты это не считаешь. А почему? Потому что кто-то сказал, что он опасен для государства.
– Он против государства.
– Горе государству, если оно боится одного-единственного человека,– хмуро отозвалась Тияна.– Да и не для государства он опасен, а для кого-то, кто считает себя государством.
Слова ее ошеломили не только Авдагу, но и меня тоже.
Глазами я подавал ей знаки угомониться, замолчать, она уже и так перешла все границы дозволенного, однако она не видела моих подмигиваний и знать не хотела ни о каких границах.
– Был ли опасен для государства мой отец? – продолжала она гневно, обнаруживая причину своего ожесточения.– Нет, ни для кого он не был опасен. А его убили. Кому-то приказали, и тот не ослушался. И только за то, может быть, что спьяну сказал что-нибудь, или кому-то показалось, что сказал. Чужая жизнь, Авдага, ломаного гроша не стоит. Много есть таких людей, что никого не пожалеют. Так зачем же еще из честных людей злодеев делать? Пусть себе жили бы – всем на удивление!
– Как диковинные звери,– добавил я со смехом, ибо что я еще мог сказать?
– Спасибо, что навестил нас. Но если ты хотел подбить Ахмеда на грязное дело, считай напрасно приходил. А теперь спать пора. Час поздний.
Так и выгнала его безо всяких церемоний.
Не знаю, как бы поступил Авдага, если бы это сказал я, но тут он даже не поморщился. Только с руками и ногами не мог совладать.
Мне казалось, он давно хотел подняться, но не мог придумать, как сделать так, чтоб не уйти побежденным и явно раздосадованным. Выбрал он самый незамысловатый путь: поглядел на меня, кивнул головой на Тияну и неумело улыбнулся, словно говоря: какова, а! И, сочтя, что благополучно вышел из затруднительного положения, ударил себя по ляжкам, встал и сказал, прощаясь (можно было подумать, что он издевается, но нет, говорил он совершенно серьезно):
– Спасибо за приятный разговор! Не обессудьте, коли что не так.
Ничего себе приятный разговор! Словно палками молотили друг друга!
Но похоже, обиды на нас он не затаил. Кто знает, что́ застряло в его упрямой башке, а что́ в одно ухо влетело, в другое вылетело.
А потом мне вдруг подумалось: ведь он, пожалуй, почувствовал еще и уважение к нам за то, что мы не соглашаемся на подлость и открыто говорим ему то, что думаем. Вполне возможно. Авдага жесток, но не испорчен, он не знает милосердия, но и хитрость ему чужда. Этот переродившийся, искалеченный крестьянин пашет и копает иначе, чем его отец, однако могло же в нем сохраниться что-то человеческое! Какой-то осадок на дне души, смутное воспоминание. Правда, все это я говорю без особых оснований, почем мне знать, чем жива душа палача?
Я пошел проводить его. Мне не хотелось ни смягчать, ни усугублять сказанное.
– Опасная у тебя жена,– заговорил он, когда мы молча спустились с лестницы – чтоб не услышала, подумал я.– Теперь я понимаю, почему ты не согласился. Из-за нее.
– Как из-за нее? Я сразу отказался, у нее не спрашивал.
– Ты бы на глаза ей не смел показаться, если бы согласился. А я все удивляюсь, почему да почему. Теперь вижу почему. Слава богу, что я не женился. Да, я не сказал тебе, зачем приходил.
Вовремя вспомнил, нечего сказать.
– Джемал-эфенди велел передать тебе, чтоб завтра в полдень ты пришел в Бегову мечеть. И сказал, что ты ошибаешься, он на тебя зла не держит.
– Зачем мне приходить в мечеть?
– Собирают улему. Будут говорить о студенте этом – Рамизе.
– Что говорить?
– Вот этого не скажу, не знаю. А Рамиза посадили в крепость, слыхал?
– Когда?
– Сегодня под вечер. Взяли его люди, которым он говорил в мечети. И передали властям. Вот так. Приходи обязательно.
Он пошел, но тут же вернулся.
– Когда я пришел, твоя жена была не одна.
– А кто был?
– Осман Вук. Он ушел, как меня увидел.
– Верно, зачем-то я ему понадобился.
– Может быть. Мое дело сказать.
Никому не веря, мог ли он верить женщинам? Потому и предостерегал меня, но в этом отношении я, слава богу, спокоен.
Авдага скрылся во тьме, оставив меня в подворотне убитого известием о Рамизе.
Рамиз говорил, как часто он думает о доме и семье, сейчас тоска его еще сильнее. Ненавидя всех Авдаг этого мира, а еще больше их хозяев, призывая угнетенных на борьбу с ними, он мечтал о теплом, дружеском слове. И о любимой девушке. Теперь в крепостном каземате он, наверное, закрыв глаза, рассказывает ей, как жестокие люди тащили его в крепость – не те, конечно, что ждали его, как всегда по вечерам, в мечети,– и как он думает о них и думает о ней – ведь мысли ему оставили. Сейчас он один, ужасающе один, и, наверное, вспоминает о желанном друге, быть может, и обо мне, быть может, мысли его кружат над моей головой, а я их не вижу, только догадываюсь о них.
Наверное, в эту минуту на сердце у него тяжело и горько, черная пустыня простерлась вокруг него до самого горизонта, он думал обо всех, а о нем не думает никто. Он не спит в тревоге и волнении, люди же давно спят глубоким сном.
А может быть, я ошибаюсь. Может быть, его прекрасное сердце радуется, что он сделал все, что мог; может быть, он верит, что люди не спят, тревожась о нем, что семена его слов проросли в их душах; может быть, он убежден, что какой-нибудь другой Рамиз займет его место и продолжит его борьбу за счастье людей. Не все же люди думают только о себе и своих страхах!
Он виделся мне маленьким ярким огоньком во мраке этой ночи, во мраке этого мира, и не было для меня сейчас на земле более близкого человека, чем этот малознакомый юноша.
Да что толку, я не в силах помочь ни ему, ни себе. И что бы я ни делал, яркий огонек превратится в пепел, а моя сегодняшняя тоска станет всего лишь печальным воспоминанием о нем.
Меня душат слезы – какой злой рок правит миром?
Но пусть все останется во мне. Тияна и без того взволнована приходом Авдаги.
– Сказал что-нибудь? – спросила она, думая об Авдаге.
Я тоже буду думать о нем, чтоб не думать о Рамизе.
– Сказал, что ты опасная женщина.
– Наверное, я была слишком резка. Не надо было так говорить.
– Почему? Ты говорила правду.
– Нет, нет, я была слишком резка. Глупо получилось.
Напрасно я ее уверял, что она права и здорово прижала Авдагу к стенке. Лишь потом я осознал свою ошибку: упрекни я ее в том, что она хватила лишку, она стала бы защищаться. А так она начала казниться. Она распекала себя на все корки, и в то же время ей хотелось, чтоб я ее защищал, тогда в сердце у нее останется память о том, что в трудную минуту я был с ней.
Потом она открыла мне то, что я уже знал: отец был причиной того, что она вышла из себя,– к стыду своему, она уже забывает о нем, не знает даже, где его могила; было время, ей казалось, она умрет от горя и боли, а сейчас редко когда и вспомнит о нем, а вспомнила, и полоснуло болью, да еще этот Авдага. Говорят, он отца убил.
– Успокойся. Не думай об этом. А могилу мы отыщем. Я расспрошу крестьян.
– К чему? Отец всегда говорил: «Мертвому все равно где лежать».
– Ладно, потом поговорим. А сейчас спать.
– Не могу. Зачем я все это говорила?! Еще бо́льшую беду навлеку на твою голову.
Она лежала на моей груди и плакала, мучимая дурными предчувствиями.
Утирая слезы, вместе с которыми выливалась ее боль, я утешал ее легковесными доводами, что вовсе не предчувствия приносят беды – горе приходит без предупреждения. И радости тоже. Несчастья посылались, когда на нас не было ни малейшей вины, так почему бы им не обойти нас, когда мы в чем-то виноваты? Да и потом, бед на свете куда больше, чем провинностей, и меньше всего бед у тех, на ком больше всего вины, так что стоит пожалеть, что мы не так уж сильно виноваты. Однако миром правит не разум и не реально посеянные причины, с которых можно было бы снимать урожай последствий, а порой самая глупая случайность, мы же израсходовали причитающиеся нам дурные случайности, и на нашу долю остались только счастливые.
И пока я плел защитную сеть нашего права на счастье, пытаясь словами вытеснить мысли, Тияна заснула, прижавшись щекой к моей груди, сном освобожденная от страха.








