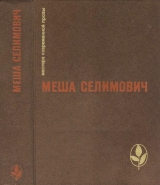
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 49 страниц)
– Зашли вот повидаться с тобой.
– Спасибо,– пробормотал Махмуд.
– И сказать тебе, что тогда в байрам нескладно получилось,– добавил Осман неправдоподобно ласковым голосом.– Жаль, что не удалось встретиться. Вон Ахмед знает, дел столько навалилось, голову поднять было некогда.
– Знаю, он говорил мне.
Парень повернулся к отцу:
– Ну я пошел!
В словах звучала угроза: я пошел, но скоро ты обо мне услышишь!
И он вышел, не взглянув на нас. Сильного впечатления мы на него явно не произвели, а может быть, он нас сразу сбросил со счетов, услышав, что мы в приятельских отношениях с Махмудом. Жаль было Махмуда, но парня я не осуждал: его жизнь тоже не гладкая стежка.
Махмуду захотелось оправдать поведение сына:
– Женится, не знает куда приткнуться. Сейчас вот только говорили, что мне надо бы продать лавку, а он купит что-нибудь в Мостаре.
О, мука родительская!
– Продавай,– решительно сказал Осман.
– Да вот не знаю, продать тоже нелегко. Как продавать – все дешево, а как покупать – все дорого. И жалко: придешь сюда, сядешь – и вроде бы делом занят.
Внезапно Османа осенило:
– А чего ты сидишь в пустой лавке и воображаешь, что делом занят? Почему и впрямь делом не займешься?
– Стар я, Осман. Чем я могу заняться?
– Знаешь лабаз Шехаги, в котором мы зерно держим? Сможешь записать, сколько мешков зерна принял?
– Как не смогу, конечно, смогу.
– Тогда вот что: доставай мангал и приходи за ключами. Дедо уходит, свою лавку открывает.
Махмуд проглотил слюну, кадык медленно сползал по его тонкой шее, взглянул вопросительно на меня, не шутка ли это, подошел к Осману и остановился перед ним в полной растерянности.
Вот-вот начнет вращать глазами или махать руками, а то и вовсе упадет.
Но нет! Держится молодцом. Взволнован до крайности, однако держится!
Я и сам взволнован. Что это с Османом?
– Если не шутишь,– произнес Махмуд дрожащим голосом, стараясь скрыть свое волнение,– если в самом деле не шутишь… Я, понятно, согласен. Еще бы не согласиться. Если, разумеется, не шутишь… И уж как благодарить тебя, ума не приложу!
– Какие могут быть шутки, какая благодарность?! Я же тебя не муфтием назначаю. А свою лавку продавай!
– Продам. Пойду жене скажу. Сразу же. А дом? Может, и дом продать?
Он уже терял голову.
– Зачем?
– На что нам такой большой? Куплю поменьше.
– А если сын со снохой приедут? Тесно будет в маленьком.
– Ты прав. В самом деле тесно будет.
Возвращались через торговые ряды молча. Осман крутил головой, словно все еще не мог прийти в себя от удивления и досады. Я сказал то, что думал:
– Не ожидал я от тебя такого. Ты мне другим представлялся.
– Разозлил меня этот осел.
– Я боялся, ты его ударишь.
– И то. Или ударить, или какую-нибудь глупость учудить – другого выхода не было.
– Никакой глупости ты не сделал.
– Ну да, не сделал. Знаешь, какой ералаш он там устроит? Махмуд ни на что не способен.
– Не давай ему в руки денег,– сказал я неохотно, решив все же, что так будет честнее и по отношению к нему, и по отношению к Махмуду.
– И это ты о своем приятеле говоришь?
– Лучше не вводить его в искушение. Случай рождает вора.
Осман рассмеялся. Похоже, он смехом лечится.
– Вор тоже создает случай. Искушения Махмуду не миновать. И он не устоит. Денег у него не будет: я сам за все плачу. Отсыплет килограмма два зерна из каждого мешка – ему и довольно. Так и Дедо делал, а теперь вот собственной лавкой обзавелся. И любой на его месте так сделает, хоть святого приведи. Ну, да это не больно важно. Хороший торговец знает эту человеческую слабость и заранее учитывает убыток. Неглупо было бы нам во всей нашей жизни заранее учитывать возможные убытки. Знаешь, что без них не обойтись, и уже не огорчаешься.
Так я впервые убедился в том, что и у Османа есть слабости. И впервые ошибся в Махмуде.
Из лабаза Махмуд устроил целое царство.
Лабаз побелили, вымыли, проветрили, и он стал светлее и пригляднее, а конторка, в которой сидел Махмуд, превратилась в уютную комнату. Посередине – мангал, полный жара, вдоль стены – красивая сечия, пол блестит, стены белые. Махмуд сидит рад-радешенек.
– Хорошо у тебя,– сказал я то, что Махмуду наверняка хотелось услышать.
– Было плохо.
– Верю.
– Когда я первый раз увидел, меня чуть не вывернуло. Грязь, темнота, омерзение, противно войти, не говоря уж о том, чтоб здесь сидеть. Где ж, думаю, я приятелей буду принимать? Уговорил Осман-агу, мастера побелили, мы с женой убрали все и вымыли, из дому принесли кое-что, и вот теперь стало хорошо. Ты, верно, удивляешься, зачем мне такая сечия. Осман-ага тоже удивлялся…
– Какой еще Осман-ага?
– Осман-ага Вук. Сечия для гостей – соседей, торговцев, ремесленников. Утром уже приходили. Вчера я их всех обошел, пригласил на новоселье.
– Это первое, что ты сделал?
– Вначале убрал, а потом позвал. Все как водится.
– Что ж, будешь советы им давать?
– Боже сохрани! Среди деловых людей такое не принято. Разве кто сам попросит. Да у меня и своих дел много.
– И ракией не пахнет.
– Здесь не пью, не положено. Пью дома, понемножку перед сном. На службу ведь рано поднимаешься, негоже опаздывать.
– Постой, ради бога! Может, я заблудился? Или говорю с двойником Махмуда? Неужто от прежнего Махмуда ничегошеньки не осталось?
– Взялся за ум, только и всего. Надеюсь, к лучшему. Пора бы и тебе угомониться.
Что стало с Махмудом? Балаболка сорока превратилась в мудрую сову! Вот что значит человек нашел свое место! Раньше не признавал никаких правил, ровно мальчишка-недоросток, теперь назубок шпарит законы торгового мира, как завзятый лавочник. Что с ним Осман сделал? Оторвал у мотылька крылья и пустил ползать по земле как червяка? Был занятный человек – стал скучный. Был живой – стал мертвый. Был единственный в своем роде – стал одним из многих. Выходит, это и есть «взяться за ум»?
– А ты еще мечтаешь разбогатеть?
– Нет,– ответил он рассудительно.– Зачем обманывать себя? Так вернее, лучше и легче. Работа не тяжелая, о жалованье я еще не говорил с Осман-агой…
– Какой еще Осман-ага?
– Осман-ага Вук. О жалованье, говорю, мы с ним еще не толковали, но, если он положит, как платил Дедо, можно не бояться нищей старости. А думаю, он положит не меньше, может, и больше. Знает Осман-ага, как было прежде и как теперь. Видел кошек?
– Каких еще кошек?
– Я взял в лабаз четырех кошек. Забот, конечно, прибавилось, меняй им воду, убирай за ними, но зато польза есть. Мышей ловят.
– Это ты умно придумал,– сказал я с плохо скрытой издевкой.
Он принял мои слова всерьез.
– Конечно, умно. Мышей-то здесь полчища, мешки прогрызли, зерно жрут – чистое разорение! Я возьми да подсчитай: пусть их сейчас двести голов, а их больше, через год ведь их будет две тысячи, а через десять лет – двадцать тысяч.
– Чего же они до сих пор ждали? Почему их только двести?
– Прошлый год их, верно, было только две, самец и самка, а плодятся они страшно. Итак, мышей, значит, будет две тысячи. Положим, каждая мышь съедает двадцать зерен в день, двести мышей съедят в день четыре тысячи зерен, а в год около полутора миллионов. Если в каждой окке две тысячи зерен, то это семьсот пятьдесят окк. А ведь и соседские мыши наведываются в гости, сколько же это мешков выйдет? Мешков! Осман-ага ахнул, когда я ему все это подсчитал.
– Какой еще Осман-ага… ах да! Никак не привыкну…
Осман-ага наверняка ахнул, услышав, сколько мешков приберет к рукам Махмуд, хуля и обличая мышей!
Нет, и тут я не угадал! И я ахнул подобно Осману, и тоже напрасно, потому что Махмуд уже не Махмуд. Он и зерна не унесет!
– Мы заткнули все дыры, взяли кошек, и теперь в лабазе на три мешка зерна будет больше.
О небо! Собственными руками он отрезал себе путь к отступлению!
– А высчитал ты своему Осман-аге, сколько мышей изведут кошки?
– Да. Пусть одна поймает в день всего десяток, четыре загрызут сорок…
– В год столько-то и столько, ладно, понял, надеюсь, в этой войне кошек и мышей победят мыши.
– Нет, видишь ли…
– Вижу. А лавку продал?
– Покупатели есть. Жду, кто больше даст. Больно на хорошем месте стоит.
У меня защемило сердце. Не мой это Махмуд. Мой был враль и фантазер, поэт в своем роде, этот – жалкий крохобор. Мой Махмуд гонялся за облаками, этот гоняется за мышами. Мой Махмуд был малохольный и симпатичный, этот – нудный и противный.
Как могла произойти такая быстрая перемена? Значит, плут только делал вид, что жаждет невозможного, а в действительности ждал лишь случая, чтоб стать самим собой.
Может быть, я несправедлив к нему: бедняга получил то, о чем мечтал, пусть мельче, ничтожнее,– и успокоился. Почему я считал его уж таким беспочвенным фантазером, не испытывающим желания хоть отчасти претворить свои мечты в реальность? То, что произошло, более естественно. Правда, в мире одним занятным человеком стало меньше, а это невосполнимая утрата. Не жаль, когда исчезает один из многих – это обычный людской листопад. Но когда уходит недюжинный человек, возникает устрашающая пустота. Все больше серых людей в серой жизни, жизнь становится тусклой и невеселой.
Умер какой-никакой поэт, родился еще один лабазник.
А может, его и не было, может, я его выдумал, может, отличил его незаслуженно? И все же я потерял больше. Его постоянная тоска по счастью, возможно и воображаемому, была неосуществима и потому прекрасна. Легкомыслие, непутевость, непосредственность, простодушное мошенничество, неунывающая безоружность, трусость, малодушие, пустое фантазерство – все это были понятные человеческие слабости. То, что я вижу сейчас, слишком заурядно. С этим человеком мне не о чем разговаривать. К его удовольствию, мы разойдемся. Я, такой, какой есть, ему, такому, каким он стал, больше не нужен. И он мне тоже.
И пока я, расстроенный и огорченный, хоронил в душе близкого человека, не желая вступать в приятельские отношения с новым, пришедшим ему на смену, и думал, как бы уйти, чтоб не обидеть старого Махмуда, ибо новый меня никоим образом не волновал, в лабаз вошел сердар Авдага. Его появление не вызвало во мне ни радости, ни злости, я просто решил, что теперь могу уйти без всякого объяснения.
Однако не ушел, это слишком походило бы на бегство.
Махмуд встал, прижал руку к груди и поклонился, ниже и подобострастнее, чем это сделал бы прежний Махмуд, но с гораздо большим чувством собственного достоинства. Раньше Махмуд представал перед Авдагой жалким и испуганным – где уж ему было думать о том, как держаться,– сейчас у него вид спокойного, уверенного в себе человека, знающего законы и порядки.
Он произнес какие-то слова, точно я не запомнил, во всяком случае что-то любезное и складное, вроде «очень приятно», «большая для меня честь»… Именно поэтому я решил вообще не вставать, уязвленный поведением Махмуда, его грустным перерождением, которое проглядывало во всем, потрясенный его внешним подобострастием и внутренней независимостью, самым, на мой взгляд, невероятным из всего, что мог выдумать Махмуд. Но нет, он не выдумывал, он и впрямь чувствовал себя независимым. Больше он ничего не будет выдумывать. А потом мне пришло в голову, что мое поведение неприлично и вызов я бросаю не Махмуду, а Авдаге, причем без всякого повода и смысла. Я неуверенно поднялся, снова сел, тут же встал и опять сел, Махмуд в это время, словно невесту, вел Авдагу к сечии. Настроение у меня окончательно испортилось, а мое дурацкое вскакиванье еще раз убедило меня в том, что в обиходных делах лучше всего следовать общепринятым правилам, если не хочешь оказаться в смешном положении.
Жаль, не ушел сразу, теперь нельзя уйти, неприлично, и потом, пожалуй, снова начну уходить и возвращаться, как недавно вставал и садился. Вот беда: стоит сделать одну ошибку – и уже нанизываешь их одну на другую, набираешь целое монисто. Ничто так не ранит душу одинокого человека, как собственные промахи.
Наименьшая вероятность сделать промах – это молчать.
Молчал и сердар Авдага.
К счастью, говорил Махмуд. Он рассказывал то же самое, что и мне, даже теми же словами, не обращая внимания на мое присутствие (прежде он никогда бы так не поступил): как побелили, вымыли лабаз, как притащили вещи, о мышах, о количестве зерен в окке пшеницы, об ущербе, о соседских кошках и пользе от них, которую признал сам Осман-ага.
Я с трудом удержался, чтоб не рассмеяться, когда Авдага спросил: «Какой еще Осман-ага?» Только в его вопросе не было ни горечи, ни насмешки, как у меня, он в самом деле понятия не имел, кто такой Осман-ага, потому что Османа никто так не звал.
Говорил Махмуд нудно и скучно, слушать его второй раз было невыносимо, а ведь эти стены будут слушать его каждый день. Я больше никогда не буду. Но сейчас этот тягостный бред имел хоть какой-то смысл, отодвигая грозившую воцариться в лабазе мертвую тишину.
Я избегал взгляда Авдаги, прикидываясь, что слушаю Махмуда. Он тоже молчал и слушал. Молчал – это точно, а вот слушал ли? Глаза его были прикованы к жару в мангале. Он был явно подавлен, зол и, как ни удивительно, печален. Да-да, печален!
Откуда взяться печали в сердце человека, который даже убитого брата не пожалел, у которого нет ни единой родной души, ибо нет в ней потребности, для которого служба – это все: и жена, и дети, и любовь, и счастье? И все же печальная подавленность сквозила в его глазах, во всей его фигуре, в каждой черте лица, как у самого обыкновенного человека.
Страдальческое выражение на лице Авдаги все усиливалось, голова склонялась все ниже и ниже на грудь, и, когда уже, казалось, он вот-вот заснет, он вдруг поднял руку и прервал рассказ Махмуда о мышах и кошках на полуслове.
Махмуд покорно умолк, не смутившись и не испугавшись, и спокойно ждал, что тот скажет.
Авдага тихо спросил:
– Почему Осман взял тебя в лабаз?
– Знает, что я честный и работящий, потому и взял.
– А почему не его? – показал Авдага на меня.– Работать он, как и ты, не любит, но почестней тебя будет.
– Нехорошо ты говоришь, Авдага. Мало ли что бывает в молодости, да я и заплатил за то сверх меры. Суди меня по тому, каков я сейчас, а не по тому, каким был когда-то.
– Что было потом, мне неведомо. И Осману тоже. А что было в молодости, мне хорошо известно, как и Осману. Почему же тогда он дал тебе работу? Да и какой из тебя торговец?
– Знаешь что, Авдага,– сказал Махмуд оскорбленным тоном уважающего себя человека,– спроси-ка ты об этом Осман-агу. Ему это лучше известно.
– Надо будет, спрошу. А сейчас я с тобой разговариваю. Почему он дал это место тебе?
– Откровенно тебе скажу, обидно мне слушать это.
– Обидно ли, не знаю, но мне нужно знать.
Замолчали.
Махмуд начал растирать свою больную ногу, страх и обида всегда напоминали ему о ней.
Авдага мертвыми, печальными глазами смотрел на Махмуда, наверняка жалея, что у того голова не стеклянная и что он не может ее размозжить, чтоб найти в ней ответ на вопрос, который привел его сюда.
Ни тот ни другой, видимо, ничего не знали. Махмуд живет в убеждении, что ему наконец повезло – нашелся человек, открывший в нем коммерческий талант и потому пожелавший взять его на службу. Любое другое предположение – какое бы то ни было – для него оскорбительно. Авдага же со своей стороны полагал, что только дурак ни с того ни с сего возьмет Махмуда на службу. Осман не дурак; значит, должен быть какой-то резон, оправдывающий эту глупость. Какой? Одолжил ли он его чем-нибудь, является ли это наградой за какую-то услугу? Услуги Махмуда всегда наводят на подозрения, Авдаге это хорошо известно, значит, совершено что-то противозаконное, и неплохо бы знать, что именно.
Неужто он всегда ищет вот так, вслепую?
Авдага долго молчал – это тоже способ посеять в душе человека смуту.
Махмуд дрожащими пальцами все ожесточеннее мял больную ногу, подавленный обличающим молчанием Авдаги, встревоженный его тяжелым взглядом, напуганный непонятным ему упорством. Похоже, он думал: «Надо же, с первых шагов суют папки в колеса, встают поперек дороги!» Вконец расстроенный, он снова напомнил мне прежнего Махмуда.
Смешно, если б не было так грустно!
Молчание Авдаги порождало в жертве страх перед тем, что кроется за ним недосказанного и недооткрытого, давая ей время взвесить все свои прегрешения и пасть духом. Но, возможно, это было и экономным ведением огня ввиду нехватки патронов. На одном подозрении атака долго не продержится, захлебнется. Вертелись бы в заколдованном кругу одних и тех же вопросов и ответов, а подозрение так и оставалось бы подозрением, не больше.
Но Авдага еще не сложил оружия, он принялся кружить вокруг жертвы, неуклонно стягивая обруч.
– Ты знал коменданта крепости? – спросил он.
– Какого коменданта? – с бессильным лукавством вопросом на вопрос ответил Махмуд.
– Крепости.
– А, крепости!
– Да, крепости.
– Знал.
– Хорошо?
– Видел только.
– А часто с ним разговаривал?
– Никогда не разговаривал. За всю жизнь слова не сказал.
– А вспомни-ка!
– Точно знаю.
– И поклясться мог бы?
– Мог.
– А когда ты сидел в крепости?
– А, когда сидел! Не знаю, ну, может, имя он у меня спрашивал.
– А за что посадили, не спрашивал?
– Не помню, забыл.
– А еще что забыл?
– Я не знаю, о чем ты толкуешь.
– Когда ты говорил с ним в последний раз?
– Сказал же тебе, тогда, в крепости.
– Это я сказал. А недавно?
– После того ни разу, жизнью детей своих клянусь!
– Понял уж я, чего стоит твоя клятва.
– Спроси коменданта, пусть он подтвердит.
Снова воцарилось молчание, накрыв нас словно грозовой тучей.
Махмуд судорожно открещивался от знакомства с тюремщиком, словно это само по себе было уликой. Точно так же он стал бы отрицать, что гулял вдоль реки, что на обед ел голубцы, что у него четыре кошки, спроси его Авдага и об этом, потому что кто может знать, на чем основано подозрение, что вызывает сомнение Авдаги.
Мне же после этого допроса стало ясно: Авдагу интересует побег Рамиза. Видно, решил, что Махмуд подговорил тюремщика. И за эту услугу Осман взял его к себе на службу.
Жаль Махмуда, я-то знаю, что он ни в чем не замешан, а помочь нельзя. Разве скажешь Авдаге: Осман Вук понятия не имел о Махмуде, он познакомился с ним лишь в ночь похищения Рамиза.
Почему Осман взял его на службу, не знаю. Этот его поступок, совершенный, видимо, в минуту слабости, редкую для него, удивил и Махмуда, и меня, а может, и его самого.
Авдага не признает непоследовательности душевных движений, не признает внезапных решений, для него существуют только причина и следствие, услуга и вознаграждение. Ход его мысли таков: неизвестный подговорил коменданта впустить злоумышленников в крепость; после этого Осман Вук берет на службу недотепу Махмуда. Почему? Потому что Махмуд подговорил коменданта. По логике Авдаги это настолько очевидно, что растерянность и отговорки Махмуда он уже воспринимал как верную улику.
А грустит Авдага оттого, что не в силах доказать его вину. Для этого нужны улики. Он слишком честен, чтобы во всеуслышание обвинить человека, не имея неопровержимых доказательств. Необходимы свидетели, признание, а где они? Их нет, пока нет. Махмуда он теперь не выпустит из рук до конца его и своих дней. Он станет преследовать его, как голодный волк старого оленя, оба будут спотыкаться, один убегая, другой догоняя, задыхаться от страха и от сладострастия: вдруг жертва обессилеет, вдруг согласится на муки – лишь бы остановиться, не бежать больше, передохнуть.
А виною всему подозрение, основанное на неправильно связанных фактах. Я же молча слушаю и не могу набраться решимости сказать: оставь человека в покое, он даже не понимает, о чем ты толкуешь, потому и усиливает твои подозрения.
Да и скажи я такое, это ни к чему не привело бы. Авдага – раб своего призвания, его единственная страсть – преследовать и хватать людей подобно тому, как другие посвящают свою жизнь тому, чтоб утешать людей и лечить их; разница лишь в том, что Авдага чаще испытывает радость победы.
Однако почему он взял под сомнение Османа? А может, это я приписываю ему знание известных мне фактов, а он о них и не думает? Или думает: раз Осман определил Махмуда на службу, значит, хотел его за что-то вознаградить. Он подозревает весь мир, вся его жизнь состоит из сплошных подозрений, даже во сне он не расстается с подозрениями и нередко оказывается прав. Преступления совершаются каждый день. Если виновный не пойман, значит, все люди – вероятные преступники. По его глубокому убеждению, ни об одном живом человеке нельзя утверждать, что он не может совершить преступление. Авдага ищет, Авдага всех держит под сомнением, это его удел, долг и главная услада, ему нелегко – преступление чаще всего покрыто мраком неизвестности, виновный проходит рядом с ним, смотрит ему прямо в глаза, спокойно занимается своим делом, смеется, пожалуй, даже сидит с ним за одним столом, а он лишь гадает, вынюхивает, действует на ощупь, приближается, снова отходит, то не сомневаясь, то теряя уверенность, испытывая подлинное счастье, когда набредает на след, и впадая в отчаяние, когда его упускает. Только смерти под силу заставить его прекратить слежку. Ведь он убежден, что, если он отступится, устанет, не поймает и не накажет виновника, мир заполнят преступления, тьма накроет землю, придет Судный день.
Махмуд навел его на тоненькую ниточку, и тем не менее он крепко за нее ухватился. Печальнее всего, что повод для подозрений Авдаги – удача Махмуда и благородный порыв Османа, в котором он, возможно, уже раскаивается. Бывают же такие невезучие создания! Сколько людей, не обладая ни умом, ни честью, ни талантами, добились в жизни успеха. А несчастный Махмуд едва ступил в свой темный лабаз, полный мышей и мышиного помета, только решил, что наконец избавился от страха остаться в старости без куска хлеба, как тут же навлек на себя подозрения. Всю жизнь его преследовали неудачи, видно, так и не знать ему покоя! Не за красивые же глаза взял его Осман на службу.
А в самом деле, почему Осман взял его на это место? Нехорошо об этом спрашивать, но все-таки почему? Я рад, что это случилось, но почему?
Откуда мне знать! Я попросил Османа позвать его в тот вечер в трактир, я попросил сказать ему несколько ласковых слов, я виноват в том, что мы оказались свидетелями ссоры, которая возмутила Османа. Все это я знаю, и все же почему он взял его на службу? Ведь не только потому, что сын надерзил отцу? Османа не трогают куда более серьезные вещи, а тут была обычная перебранка.
Как заразительно подозрение! Оно грызет тебя и тогда, когда знаешь, что человек чист.
Если он чист.
А что, если это не так, если матерый охотник Авдага напал на верный след?
Эта мысль ошеломила меня.
Нет, это невозможно, голову даю на отсечение!
Однако я уже не мог остановиться; вопреки желанию мысль катилась дальше, переходя границу, поставленную разумом, и увлекая меня в бездну возникшего подозрения.
Если допустить, что Авдага прав, все становится яснее ясного.
Осман послал Махмуда к тюремщику, сочтя его самым подходящим человеком – даже предай он, ему никто все равно не поверил бы. Потом Махмуд упрямо добивался встречи с Османом, желая получить за свою услугу вознаграждение. Осман бегал от него, чтоб не вызвать лишних подозрений, горькая стычка Махмуда с сыном дала Осману повод выдать ему обещанное.
Все сходится. Разве только я оказываюсь круглым идиотом, но их это не касается. Они ловко провели игру, держа ее в тайне, а я выполнял роль ширмы и был своего рода связным.
Все сходится. Точь-в-точь как это мог придумать Осман. Люди для него лишь средство, почему бы мне быть исключением?
Но Махмуд? Неужели Махмуд способен на такое притворство? Мне казалось, я знаю его как облупленного; конечно, человек он не без недостатков, но таиться он не может. Бывало, он скрывал какую-нибудь пустяковую тайну, молчал день или час, а потом выкладывал все как на духу, с облегчением избавляясь от нее, словно сбрасывая с плеч тяжелый груз. Я воспринимал его как большого бесприютного ребенка с голубиною душой, оттого он и был мне дорог. Но если он участвовал в этой игре, тогда он закоренелый мошенник, которого я знать не желаю. Я порвал с одним Махмудом, нынешним. Неужто предстоит рвать и с прежним, несуществующим?
Терзаемый сомнениями, я хмуро взглянул на него. Он ответил мне встревоженным, покаянным взглядом, словно прочел мои мысли. Как и прежде, во всем его облике проглядывала беспомощность, и меня снова пронзила жалость к моему Махмуду. И все-таки нынешнего я не простил. За каждым я оставляю право обмануть меня, только не за другом.
Авдага молчал, вороша щипцами затухающие угли в мангале. Чего он ждет? Почему не уходит? А может, он вообще не уйдет, так и будут они с Махмудом молча сидеть возле мангала, остынут, как угли, и умрут молча. Обвинитель останется без улик, обвиняемый – без наказания.
Однако полумертвый Авдага, к сожалению, жив, он расправил свои могучие плечи и уставился на меня.
Настал, стало быть, мой черед?
Голос у него тихий, усталый, грустный. Во мне играет желчь. Ни у тебя, ни у меня нет охоты разговаривать, оставь меня в покое.
Но он на посту и не знает, что такое усталость.
– Почему Осман не дал лабаз тебе? – спросил он.
– На что он мне?
– Хочешь чего-нибудь получше?
– Ничего не хочу.
– А на что живешь?
– Краду, граблю, убиваю – как когда.
– Я видел тебя на дженазе по Авдии Скакаваце.
– И я тебя тоже видел.
– Зачем ты приходил?
– Не знал, что это запрещено.
– О чем ты говорил со старым Омером у него во дворе?
К счастью, Осман предвидел этот вопрос и предупредил меня.
– Слышал, что у него есть хороший табак, хотел купить.
– Купил?
– Нет, не было.
– После этого его сыновья поехали на лошади за Авдией.
Тут я вспомнил совет Османа, что иногда нехудо выстрелить первым, и спросил:
– Отчего он умер? Говорят, здоровый был.
Он взглянул на меня живее и пристальнее, и я пожалел, что вылез со своим вопросом. Умом Авдага, может, и не блещет, но дурака из себя строить не позволит. Он ничего не ответил, и это был худший ответ, словно он сказал: «И ты меня спрашиваешь?!»
Он посидел еще немного, не сводя глаз с мангала, а потом медленно поднялся и не спеша вышел из комнаты.
Махмуд проводил его, несчастный и растерянный. Вернувшись и лишь прикрыв дверь, он тут же кинулся ко мне:
– Почему он спрашивал меня о тюремщике?
– А меня спрашивал об Омере Скакаваце.
– Но почему?
– Может, завтра скажет.
– Думаешь, и завтра придет?
– Непременно.
– О господи, смотрит, молчит! Страх до костей пробирает.
– А чего тебе бояться, если на тебе вины нет?
– Какая вина, побойся бога, что ты говоришь? В чем вина-то?
Я встал и попрощался. Оставаться здесь я больше не мог. Мысль о его возможном вероломстве глубоко оскорбила меня.
Мой уход и, вероятно, моя холодность совсем лишили его самообладания. Он снова стал похож на старого Махмуда, но я был слишком раздосадован, чтобы воскрешать его из мертвых.
– Погоди, посиди,– просил он.
– Пора.
Так и оставил его одного с мышами, кошками и страхом; уже на улице мне пришло в голову, что поступил нехорошо, но я не вернулся.








