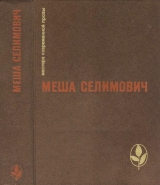
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
Я не испытывал стыда, исчезли неловкость, раскаяние. Мне нечего стыдиться и не в чем раскаиваться, я могу гордиться, могу радоваться тому, что я не на стороне зла. Бог рассудил, народ исполнил: ненависть принадлежит не мне одному. Я не одинок, я не колеблюсь, я бодр, как всякий добрый верующий, знающий, что на его стороне всевышний.
Я поспешил в город, навстречу попадались редкие прохожие, они были растерянные, словно случайно уцелели после дикой свалки, воспламенившей эти улицы.
В чаршии не было ни души. У здания суда тоже. Двери были сорваны, окна разбиты, на полу валялись бумаги.
Али-хаджа на корточках собирал протоколы, записи, решения, бесчисленные бумаги, груды свидетельств греховности и жестокости. Люди записывают все, что делают. Неужели они не считают себя жестокими?
Я тоже нагнулся. Здесь записано преступление, которое более всего касается меня.
– Что ты ищешь?
– Хочу посмотреть, что они написали о моем брате.
– Зачем? Чтоб иметь оправдание своей ненависти? Я все это сожгу. Ведь вы, волки, станете копаться в этом дерьме, чтоб найти причину для новых преступлений.
– Хочешь оскорбить? Это нетрудно. Для этого нужна только наглость.
– Я не оскорбляю. Я издеваюсь. Потому что я страдаю.
– Из-за чего?
– Смилуйся, уйди. От людей я страдаю. Оставь меня в покое.
Я оставил его в покое, это было самое разумное. Защищенный безумием, он сильнее нас всех.
Я вошел в здание. Нигде не было ни души, как и тогда, когда я приходил ради брата. Та же давящая тишина, от которой начинает звенеть в ушах. Та же тревога от невидимых человеческих теней, прячущихся по закуткам. Только затхлость исчезла, в разбитые стекла и разваленные двери свободно влетал ветер.
Из комнаты кадия доносились приглушенные голоса, там кто-то был.
Я вступил в опустевшую комнату и замер в пустой раме дверей: мертвый кадий лежал на полу.
Мне никто не сказал этого, но я знал, что он мертв. Знал, прежде чем пришел сюда. Знал, ожидая под навесом старой мечети. Из-за этого я и ушел в другой конец города, чтоб это произошло без меня.
Посреди комнаты стояли какие-то люди. В глазах их была скорбь; не принадлежу ли и я к кругу лиц, что жалеют его?
Я прошел вперед и остановился у тела. Нагнулся и отвернул ткань, которой накрыли голову.
Лицо его было желтым, как всегда, лишь лоб посинел и был залит кровью. Веки опущены, в глазах пустота, он опять таился от всех, как и при жизни.
Несчастный, подумал я, не ощущая ни ненависти, ни ликования, ты причинил мне много зла. Да простит тебе бог, если захочет.
Смерть отделила его от меня, недобрые воспоминания больше не удерживали, и это было все, о чем я мог думать. Я не жалел, не помнил, не прощал. Его нет, вот и все.
Целовать его на прощание, как велит обычай, я не хотел. Слишком уж лицемерно: люди знают, как он поступил со мной.
Прочитать молитву об усопшем – это я мог.
И тут я услышал шаги и повернулся. К покойному подходила его жена.
Я отодвинулся, чтоб дать ей место, не испытывая торжества, даже любопытства. Я ненавидел его, пока он был жив, и мне казалось странным, что кто-то его мог жалеть. Однако мучительно было думать, что жена станет оплакивать его, неискренне, ради порядка, чтоб исполнить красивый обычай.
Не обращая на нас внимания, она открыла лицо и опустилась на колени. Долго смотрела не шелохнувшись, без вздоха, без звука, потом нагнулась и поцеловала в плечо и в лоб. Тщательно вытерла лицо шелковым платком, задержав руку на желтой щеке. Пальцы ее дрожали.
Неужели она в самом деле горевала о нем? Я ожидал любого выражения горя, глубокой скорби, даже слез, но никак не дрожащих пальцев на лице мертвого. Меня потрясла нежность, с какой она вытирала кровь, как ребенку, ласково, чтоб не причинить боли, чтоб не ушибить.
Она поднялась, и я подошел к ней.
– Хочешь сразу перенести домой?
Она резко повернула голову ко мне, словно я ударил ее. И лишь много времени спустя я вспомнил, что глаза у нее были подведены сурьмой и полны слез. Легче ей было услышать, чем увидеть? Однако тогда я на это не обратил внимания, меня ошеломил взгляд, которым она оттолкнула меня, опалила, пронзила, взгляд смертельного врага.
Меня смутила и ее угроза, и ее неожиданная печаль. Может быть, не так уж глухо было в их пустынном доме, может быть, так будет только теперь. И, не зная отчего, не имея никакого для этого повода, я пожалел и ее и себя. Я чувствовал себя опустошенным и одиноким, подобно ей. Может быть, вследствие усталости, которая сумерками надвинулась на меня.
Позже я вспомнил и о том, какой прекрасной показалась она мне, более прекрасной, чем тогда вечером в огромном доме, прекрасной, с полными слез глазами, с лицом, осененным ненавистью. Рука ее, встревоженная, забытая, поползла по краю чадры и замерла, напуганная тишиной.
Мне захотелось подставить свой лоб под эту руку, которая что-то искала, и, закрыв глаза, позабыть об усталости и о сегодняшнем дне. И примириться с нею. И со всем миром.
В этом смутном настроении я вышел на улицу, в серый дождливый день, насыщенный влажными хлопьями снега, придавленный кучами черных облаков, накрывших мир.
Ветер свистел во мне, как в насквозь продуваемой пещере.
Как излечить пустое сердце, Исхак, видение, что всегда заново выдумывает моя немощь?
Я бродил бесцельно, останавливался перед ханом, долго рассматривал только что прибывший караван и не знал, хорошо ли или плохо быть путником, стоял над могилой Харуна, и мне нечего было ему сказать, даже поведать о том, как чувствует себя победитель.
Следовало вернуться в текию, остаться одному, набраться сил. Однако я не мог ни на что решиться.
И тут появился молла Юсуф, и моего безволия как не бывало, словно поднялась пелена тумана. Я не думал о нем, пока ожидал свершения всех важнейших дел. Теперь он вынырнул как из-под воды и неприятно напомнил о себе.
– Хасан тебя ищет,– сказал он,– просил прийти к хаджи Синануддину.
О хаджи Синануддине я тоже позабыл. Разве он уже дома?
Коротко, больше уступая моей просьбе, чем своему желанию, он рассказал, как сегодня утром Хасан узнал, что муселим отправил хаджи Синануддина под стражей в крепость Врандук, откуда мало кто возвращается, и как Хасан помчался со своими парнями за ними, однако могло получиться, что они напрасно измучили бы коней, если бы вода не снесла какой-то мост возле крепости, они догнали конвой и спасли хаджи Синануддина. Его спрятали в какой-то деревне и сразу послали за ним, едва узнав, что творится в городе.
При других обстоятельствах и из других уст меня больше заинтересовал бы этот рассказ. Сейчас же я лишь подозрительно посматривал на юношу. Он показался мне холодным и сдержанным. И цедил слова, словно все это меня нисколько не касалось.
– Не нравится мне, как ты смотришь на меня, не нравится и как говоришь,– сказал я со злобой, которую с трудом подавлял в себе.
– Как я смотрю? Как я говорю?
– Ты держишься на расстоянии. И меня не подпускаешь. Неплохо было бы тебе вообще позабыть о том, что ты знаешь!
– Я позабыл. Меня это не касается.
Ответ его поразил меня и вновь заставил вооружиться осторожностью и твердостью, которые было покинули меня.
– Не так! Тебя это касается, но ты должен позабыть. Все, что я сделал, мне одному не принадлежит.
– Позволь мне уйти из текии,– ответил он быстро, уже не в виде просьбы, но требования.– Пока я у тебя на глазах, ты все время будешь думать о возможном предательстве.
– Ты напоминаешь и о горе, которое принес мне.
– Тем хуже. Позволь мне уйти, чтобы нам позабыть друг друга. Чтоб освободиться от страха.
– Ты боишься меня?
– Боюсь. Как и ты меня.
– Я не могу тебя отпустить. Мы связаны одной цепью.
– Ты губишь и свою, и мою жизнь.
– Ступай в текию.
– Так нельзя жить. Мы следуем друг за другом по пятам, как смерть. Почему ты не позволил мне умереть?
– Ступай в текию.
Он ушел подавленный.
16В тот день мы скажем аду: «Ты наполнился?»
И ад ответит: «Есть ли еще?»
Снег, дождь, туманы, нависшие облака. Давно грозятся предвестники зимы, а зима будет бесконечной, почти до Юрьева дня. Я думал о том, сколько страданий выпадет на долю муфтия: шесть месяцев дрожать, шесть месяцев мерзнуть. Трудно понять, почему он не уезжает отсюда. Я велел доставить ему буковых или дубовых дров, переложить дымоходы и печи, топить снаружи, из коридора, днем и ночью, а комнаты окуривать ветками можжевельника и андузом.
Я и сам стал зябнуть. В моей и хафиза Мухаммеда комнатах уютно потрескивает огонь глинобитной печи с красными и голубыми горшочками. Я нанял и нового слугу: Мустафа не успевает, да к тому же он все время невыносимо брюзжит, ворчит и рычит, как состарившийся медведь. Я не выношу больше холода в комнате, как бывало, особенно когда возвращаюсь из суда, намокший и ощетинившийся, пропитанный водой, как половая тряпка.
Многое изменилось в моей жизни, но я сохранил прежние привычки. Правда, я позволил себе жить чуть поудобнее, но не слишком, да еще прибавилось простоты в обхождении с людьми, может быть потому, что мне ничто не угрожает, а должность и звание кадия придают мне приятное ощущение уверенности. И силы, которой я не ищу, но вижу даже во взгляде хафиза Мухаммеда, когда по вечерам вхожу к нему в комнату, чтоб узнать, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь.
Должность кадия не оставляет мне много свободного времени, и давно уже я не заглядывал в свои записи. А когда вспомнил о них вечером, то едва не усомнился в своей памяти, прочитав некоторые странички. Возможно ли, что это писал я и что я в самом деле так думал? Больше всего меня изумило собственное малодушие. Неужели я мог так сомневаться в божьей справедливости?
Сперва меня удивило предложение отцов города принять на себя должность кадия. Я никогда не думал об этом, не желал этого. В иных обстоятельствах я бы, возможно, и отказался, но тогда это показалось мне спасением. Потому что вдруг, после всего, что произошло в чаршии, я почувствовал себя усталым, обессиленным, неприятно осознал глубину западни, которая угрожала не только мне и не только со вчерашнего дня. Человек слишком открыт, и ему необходима защита.
К счастью, я быстро свыкся со своим новым положением, словно бы дождавшись осуществления какого-то давнего сна. Может быть, это была золотая птица из детских сказок, может быть, втайне от самого себя я давно ожидал такого доверия, испокон веку. И не позволял неясным мечтам оформиться, так как наверняка боялся разочарования, если б этого не случилось, я засовывал их в темные, потаенные утолки души вместе с прочими опасными желаниями.
Я возвысился над страхом, над будничностью и больше не удивлялся. А кто же сочтет свое счастье незаслуженным?
В первую ночь я стоял у окна и смотрел на город так, как, я представлял себе, стоял силахдар, и, прислушиваясь к учащенному бегу крови, видел свою огромную тень над долиной. Внизу маленькие люди поднимали ко мне глаза.
Я был счастлив, но не наивен. Я понимал, что мне помогли многие случайные обстоятельства, они нанизывались на первоначальную причину – несчастье с братом Харуном. Хотя не такие уж и случайные: удар придал мне сил, всколыхнул меня. Так хотел аллах, но он не одарил бы меня, если б я сидел сложа руки. Выбрали именно меня, потому что я был отчасти героем, отчасти жертвой, человеком народа, и ничего более, в достаточной степени приемлемый и для народа, и для тех, кто вершит его дела. А решающую роль, видимо, сыграла их уверенность в том, что они с легкостью сумеют управлять мною и делать все, что захотят.
– Ты по-прежнему думаешь, будто сможешь поступать, как захочешь? – спросил меня Хасан.
– Я буду поступать так, как мне велят закон и совесть.
– Каждый полагает, будто сумеет перехитрить остальных, ибо уверен, что только он не глуп. А думать так – значит быть глупым по-настоящему. Тогда мы все глупы.
Я не почувствовал себя оскорбленным. Его резкость лишь подтвердила, что его одолевает беспокойство, не знаю какое, но, я надеялся, преходящее. Будет плохо, если оно продлится долго, плохо и для него, и для меня. Он нужен мне целехонький, без бремени, без горьких мыслей. Я буду любить его и таким, любить, каким бы он ни был, особенно когда я стал равен ему, но мне приятнее, если он останется моим светлым началом. Он необязательность, свободный ветер, чистое небо. Он то, чего я лишен, но это мне не мешает. Он единственный человек, который не считается с моим теперешним званием и жалеет обо мне прежнем, а я стараюсь как можно больше походить на того, каким он хочет меня видеть. Иногда я сам верю, что я такой. Я искал его после той встречи с покойным кадием, он был мне необходим, он один, его одного хотелось мне видеть, лишь он мог прогнать мой непонятный ужас. Я привязал себя к нему еще раз, навсегда, и буду возвращать его себе всякий раз, когда это потребуется. Я не понимал точно почему, может быть потому, что он не боялся жизни. Моя должность придает мне уверенность, но она же приносит мне и одиночество. Чем ты выше, тем пустыннее вокруг тебя. Поэтому я буду беречь друга, он станет моим войском, теплой обителью.
Вскоре еще более возросла необходимость в этом.
Я взял на себя тяжелую ношу, считая, что она будет щитом и оружием в борьбе, к которой меня принудили. Но прошло совсем немного времени, и мне пришлось защищаться. Молнии, правда, пока не ударили, но зловещие раскаты грома уже раздавались.
Получив султанский указ, которым силахдар Мустафа выразил свою благодарность и подтвердил мое звание, я решил впредь советоваться только со своей совестью в том, что мне предстояло делать. И сразу же подул холодный ветер. Те, кто поставили меня на это место, вдруг смолкли, увидев, что я не уступаю. Но зато чаще стали раздаваться голоса, будто я виноват в смерти прежнего кадия. Напрасно разыскивал я людей, которые разносили слухи, легче было догнать ветер. Кто же сказал, раз никого нельзя было притянуть к ответу, или знали и прежде, а теперь это им понадобилось? Может быть, на меня и не пало бы подозрение, если б я был абсолютно чист.
Не знаю, уступил бы я, с упрямством, свойственным не от рождения, не будь я уверен в защите сверху, не знаю, пошли бы они на какую-нибудь сделку. Мы стали подстерегать друг друга.
Не давали мне покоя и муселимы, и бывший и теперешний. Прежний сидел в своем селе, угрожал и слал письма в Стамбул. А теперешний, которому раньше уже приходилось бывать муселимом и он знал, как это ненадежно, смотрел на все сквозь пальцы, избегая портить отношения с теми, кто мог ему хоть чем-нибудь навредить. До меня дошло даже, что он предупредил своего предшественника, чтоб тот укрылся, перед тем как выслал стражников якобы на его розыски. И никто не ставил ему этого в вину.
Горожан я чуждался. Отчасти потому, что презирал их, но больше из-за того, что хорошо запомнил, сколько в них злобы и разрушительной ярости. Я больше не умел разговаривать с этими людьми, ибо не знал, кто они, а они, чувствуя мою неприязнь, смотрели на меня пустыми глазами, будто я был вещью.
Я посетил муфтия. Все повторилось, как и в тот раз, когда я спасал брата, прикидываясь дурачком. С той лишь разницей, что теперь я считал, будто мне не нужно унижаться или по крайней мере не очень. Он спрашивал: какой муселим, какой кадий? Потом начинал рассказ о стамбульском мулле, словно его одного во всем свете он только и знал. А однажды довольно жестоко пошутил, по какой-то запоздавшей ассоциации у него всплыл в памяти мой брат Харун, и он поинтересовался, не выпустили ли его из крепости. Малик взирал на него как на кладезь премудрости. Наконец он отпустил меня нетерпеливыми жестами желтой руки, и больше я не приходил к этому бедняге, который был бы самым настоящим дураком, не окажись он муфтием. Малик повсюду разнес, что муфтий не выносит меня. Все поверили, потому что хотели поверить.
Я было собирался не брать жалованья, но потом пришлось отказаться от этого прекрасного намерения. Я окружил себя доверенными людьми, чтоб не бродить ощупью во мраке, а они снабжали меня в изобилии неприятными новостями, которые якобы слыхали или сами выдумали. Все так делали, и мы знали все друг о друге или считали, будто знаем. Я платил Кара-Заиму, чтоб он сообщал, что говорят у муфтия. Один бог знает, кто из моих людей подслушивал мои слова для других!
И только молла Юсуф, которого я оставил при себе из-за его прекрасного почерка и на всякий случай, молчал и спокойно делал свое дело. Я надеялся, что он верен мне из страха. Но следил и за ним.
Я жил как в лихорадке.
Не находя покоя, я занялся делом довольно-таки скверным, но объяснимым. В поисках покровителей я принялся писать письма чиновникам визиря, ему самому, султанскому силахдару, посылая подарки и кляузы. Подарки были полезны, кляузы – докучливы. И я понимал это, но не мог иначе, как бы теряя разум. То были предостережения, что нужно помешать безбожникам, призывы спасти веру, которой угрожает опасность, вопли не покидать меня одного в этом городе, столь важном для империи, но как бы ни чувствовал я вред этих заклинаний и проклятий, к которым не мог приложить ни союза, ни мощной поддержки, ни особой выгоды и даже, напротив, обнаруживал свою беспомощность, я испытывал невыразимое удовольствие, посылая их в мир и ожидая какого-то решения. Так осажденный полководец, потерявший свое войско, шлет призывы и ждет помощи.
Стоит ли говорить о том, что мне это не помогло?
Мне удалось лишь свернуть шею прежнему муселиму, после того как по моей просьбе – положить конец беззаконию – приехал тефтердар от вали и, пригласив муселима на беседу, под конвоем отправил его в Травник, где тот был удавлен.
Меня стали обвинять и в этой смерти. Тогда вали потребовал покорности, а о ней в этом городе давно позабыли. Я согласился, не имея выхода.
Иногда я подумывал все бросить и отступить, но понимал, что уже поздно. Меня свалили бы тут же, едва я выглянул бы из амбразуры.
(Знаю, что рассказываю слишком поспешно и отрывисто, знаю, о скольком невольно умалчиваю, однако я не могу иначе. Будто обручем все вокруг меня стянуто, и нет у меня ни времени, ни терпения писать медленно и в деталях. Я не спешил, пока был спокоен, теперь тороплюсь, перебиваю самого себя, словно над головой занесен топор. Не знаю даже, зачем я пишу, чем-то напоминаю приговоренного к смерти, который окровавленным ногтем выцарапывает на стене память о себе.)
Хасан тоже отдалялся. Сперва я подумал, будто молла Юсуф рассказал ему о хаджи Синануддине, потом убедился, что причина совсем другая. И не из-за дубровчанки – она сбежала от нашей лютой зимы, и я знал, что лишь весной она вернется.
К своему и моему несчастью, он отправился к каким-то родственникам под Тузлой, пострадавшим, как и многие другие, во время мятежа. Миралай Осман-бег хорошо сделал свое дело, разорил, сжег, согнал с земли, отправил в ссылку, и люди встречали зиму в лютой беде. Хасан привез этих родственников, женщин и детей, и разместил у себя. С тех пор он стал совсем другим, тяжелым, усталым, скучным. Он рассказывал о расправе, о пепелищах, брошенных мертвецах и особенно о детях, бродящих вокруг сожженных домов, голодных, перепуганных, со страхом в глазах после всего, что им довелось увидеть.
Исчезли его беззаботное легкомыслие, насмешливая легкость, оживленная болтовня, исчезли его воздушные мосты из слов. С горечью он говорил лишь о посавской трагедии, говорил мучительно, тяжело и неясно. В нем не осталось и следа прежней игривости.
Жертвы, которые лежали в черной земле Посавины или брели по неведомым дальним дорогам в ссылку, он называл самоубийцами и боснийскими безумцами. Наш восторг столь же опасен, говорил он, как и наша неразумность. О чем они думали, если думали вообще? Неужели они рассчитывали справиться с султанским войском, которому не нужны ни храбрость, ни воодушевление, потому что оно вооружено и бездумно? Неужели надеялись, что их оставят в покое, разве позволят искре разгореться, каким ветхим ни был бы дом? Разве не стоит попридержать нашу силу, что швыряет бревна, и не заниматься дешевым лихачеством, после которого остаются пепелища? Как можно неразумным отцам так играть судьбами своих детей, оставляя им в наследство страдания, голод, безысходную нужду, страх перед своей тенью, трусость, передающуюся из поколения в поколение, убогую славу жертв?
Иногда он говорил совсем иное: ничто так не унижает, как трусливая покорность и мелочная разумность. Мы настолько подчинены чьей-то чужой воле, вне нашей и поверх ее, что это становится роком. Лучшие люди в лучшие свои минуты избавляются от этого бессилия и зависимости. Борьба против собственной слабости – это уже победа, завоевание, которое однажды в будущем станет более длительным и более стойким, и тогда это уже не попытка, но начало, не упрямство, но уважение к самому себе.
Я слушал его и ждал, что это пройдет, ибо знал, что у его восторгов и у его горестей короткий век. Лишь одно-единственное длится бесконечно – его глупая любовь к дубровчанке, но она настолько необъяснима, что ее скорее можно назвать потребностью в любви, чем самой любовью. Он не воплощает себя, не выражает, не определил себя в пространстве: за все хватается, но ничего не завершает, всегда бьет мимо цели. Он промахнется и в благородстве.
Однажды он показал мне калеку Джемаила, которого дети тащили в тележке, а в свою портняжную мастерскую он вползал на костылях, подтягивая изуродованные, высохшие ноги. Когда он сидел, люди поражались его красоте и силе, мужественному лицу, теплой улыбке, широким плечам, сильным рукам, торсу, как у борца. Но стоило ему встать, вся эта красота разрушалась, и к тележке ковылял калека, на которого невозможно было смотреть без сострадания. Он сам себя изуродовал. Будучи пьяным, острым ножом колол себе ноги, пока не перерезал все сухожилия и мышцы, теперь же, напиваясь, вонзал нож в усохшие культяпки, не подпуская к себе никого, да никто и не смог бы с ним справиться, такая сила сохранилась у него в руках.
– Джемаил – точная копия нашего боснийского,– сказал Хасан.– Сила на культяпках. Сам себе враг. Могущество без смысла и цели.
– Что же мы тогда? Безумцы? Несчастные?
– Мы самые непонятные люди во всем мире. Ни с кем история не выкидывала таких шуток, как с нами. До вчерашнего дня мы были такими, о каких сегодня хотим позабыть. Но мы не стали и другими. Остановились на полпути, разинув рот. И никуда больше не можем двинуться. Мы оторвались, но никуда не пристали. Подобно речной протоке, что ушла в сторону от реки-матери, и нет у такого рукава больше ни течения, ни устья, он слишком мал, чтоб превратиться в озеро, и слишком велик, чтоб впитаться в землю. Со смутным чувством стыда – за свое происхождение, и вины – за свою измену, мы не желаем оглядываться назад, но нам некуда смотреть и вперед, поэтому мы удерживаем время, боясь принять какое бы то ни было решение. Нас презирают и братья, и пришлые люди, а мы обороняемся своей гордостью и ненавистью. Мы хотели бы сохранить себя, но настолько утратили свою суть, что больше не знаем, что мы такое. Беда в том, что мы полюбили эту свою мертвечину и не хотим расставаться с нею. Но за все надо платить, за эту любовь тоже. Неужели мы волей случая стали такими преувеличенно мягкими и преувеличенно жестокими, разнеженными и суровыми, веселыми и печальными, каждую минуту готовыми удивить любого, в том числе и самих себя? Неужели волей случая прячемся мы за любовь, единственно известную величину в этом хаосе? Неужели без причины мы позволяем жизни топтать нас, неужели без причины мы уничтожаем самих себя, иначе, чем Джемаил, но с тем же успехом? Зачем же мы это делаем? Потому что нам не безразлично. А раз нам не безразлично, значит, мы честны. А раз мы честны, честь и слава нашему безумию!
Вывод был довольно-таки неожиданный, как, впрочем, странными выглядели и сами рассуждения. Но удобными, ибо он мог объяснить все, что делает человек или чего не желает делать. Я не страдал этим врожденным местным заболеванием, поскольку вера открывала мне вечную истину и безмерные просторы мира. Точка зрения Хасана была у́же, но я не возражал ему, у меня имелись заботы поважнее, мы были друзьями, и я считал, что мысль его, хоть она и раскольническая, безопасна, ибо подавляет самое себя. Эта надуманная мука даже кое-что мне объяснила, она явилась своего рода поэтическим толкованием его собственной никчемности, походила на объяснения большого умного ребенка, понимающего, что он понапрасну транжирит свою жизнь. Он богат и честен, как иначе он мог поступить? Богатство он приобрел не своими руками, поэтому не дорожил им, но и лишаться его не желал. Он позволял жизни искусственно щекотать себя, выдумывая мелкие курьезные небылицы, чтоб успокоить совесть.
Я обманулся и в этом, как и во многом другом, что касалось Хасана.
Снова прошло немало времени, и я ничего не записывал. Жизнь стала невыносимой.
И чем невыносимее она становилась, тем больше я думал о сестре Хасана. Мне запомнился ее странный взгляд и полная скорби рука. Женщина не впустила меня в дом, когда я пришел, чтобы покончить со сплетнями. Тогда я попросил передать, что посватаюсь к ней, если она согласится. Она отказалась без каких бы то ни было объяснений. Я узнал, что она в самом деле беременна. И искренне оплакивает своего кадия. Я считал, что она видит его моими глазами, а она, видимо, нашла в нем то, чего не разглядел никто. Или он был настолько нежен с нею, насколько жесток с другими, и она знала лишь эту его сторону. Вдовье горе пройдет, но, видно, я рано забеспокоился. Жаль. Женитьба на ней лучше всего защитила бы меня от обвинений, я вошел бы в имущую семью, и она сумела бы меня защитить. Только вот Айни-эфенди мешал мне и из своей могилы.
Мой хороший Хасан совсем обезумел. Я объяснял это тем, что любое чувство может превратиться в страсть, коль скоро вобьешь его себе в голову. Это, конечно, не объяснение, но это единственное пришло мне на ум. Весь во власти своих мыслей, он несколько раз ездил в Посавину. До меня дошли слухи, будто он выкупает конфискованные участки, принадлежавшие бунтовщикам. Я спросил его отца, правда ли это. Старик лукаво улыбался.
– Верно, покупаем. Это доброе дело, будем продавать даром.
– У тебя есть деньги?
– Есть.
– А зачем тогда в долг берешь?
– Все ты знаешь. Хочу купить побольше, потому и беру. Такого дела у меня в жизни не было.
– У бедняков отнимаешь?
– Отнимаю.
И он радостно, как ребенок, смеялся. Это поставит его на ноги. Он тоже спятил от любви к сыну. Причины разные, но последствия одинаковы. Они погубят себя.
– Это выгонит из тебя болезнь,– смеялся и я, веселый, как он, веселый, каким давно не был.
– Чувствую, как поправляюсь.
– Будешь здоровый и бедный. В этом ли счастье?
– Буду здоров, и мне нечего будет есть. Не знаю, в этом ли счастье.
– Кто тебя будет кормить? Сын или дочь? Я могу присылать тебе еду из текии. Так тоже жить можно.
– Встану в очередь у имарета.
Мы смеялись как безумные, хохотали так, словно это была самая удачная шутка, мудрая и полезная. Мы хохотали над тем, как человек губил себя.
– А ты знаешь, хитрец? – спрашивал он меня.– Откуда знаешь? Почему не веришь, что благое дело делаю?
– Знаю. Разве вы оба смогли бы что-нибудь путное сделать? Особенно если сын тебя уговорил. Неразумно, но красиво.
– Да, сын уговорил. Значит, это разумно и красиво. Будь у тебя сын, ты бы понял.
– Понял бы, как потерю превратить в радость.
– Разве это мало?
– Не мало.
Наверняка он без ничего не останется, покупая конфискованные участки, чтоб вернуть их согнанным беднякам. Разум Али-аги сумеет устоять и перед своей, и перед сыновней увлеченностью, но расходы будут велики, ибо Хасан постарается наделать как можно больше глупостей, раз уж он начал. Он все делает скоропалительно, с вдохновением, которое недолго длится. Сейчас он убежден, что это единственное, что надо сделать, и, пока он не устанет, пока ему не наскучит, а это скоро придет, он немало долгов повесит на шею и себе и отцу.
У меня никогда ничего не было, и я не хотел ничего иметь, но в крови где-то притаился крестьянский страх перед расточительством. Это начало бездорожья. И походило на запой, когда человек не знает меры, когда слишком замахивается и у него бурлит кровь, когда трудно остановиться, когда от бессмысленного восторга трудно предугадать последствия. В этом было что-то от уничтожающего самого себя Джемаила. И тем не менее за всем этим, чего мой разум не мог постичь, я чувствовал прилив необъяснимой бодрости, едва уловимую причину для глубокой радости. Именно потому, что это непонятно, смешно, похоже на шутку: ну-ка отмочим что-нибудь похлеще. Потому что этому трудно найти объяснение.
Наверняка они отрезвеют, когда все пройдет, и увидят, как дорого обошлось им их благородство. Все равно это будет настолько прекрасно, что не найдется причин для раскаяния. Их ослепит гордыня, когда люди, которым это не стоило ни гроша, станут восхвалять их.
Я же все больше убеждался в том, какое тяжелое и сложное дело – власть. Я возился с мучительными вещами, защищался и нападал, рыл землю руками и ногами, чтоб удержаться, внушал другим страх и сам испытывал его, чувствовал, как вместе с трудностями увеличиваются и мои силы, поскольку мне не требовалось больше соизмерять удары, хотя со странной печалью и необъяснимой завистью представлял я себе лицо Хасана, его радость, с какой он отказывался от надежной опоры, надежду, которую он пробуждал в сердцах людей. Не очень это было серьезно, однако заставляло задумываться над неизученными возможностями.
А потом произошло несколько важных событий.
(Будь я праздным, как прежде, я не лишил бы себя удовольствия поразмыслить над тем, насколько они похожи на другие, а важными они стали лишь потому, что коснулись определенных людей, и тут были важны уже не события сами по себе, а их значение, лишь поэтому мы выделили их среди прочих. Словом, нечто похожее. Есть неизъяснимое удовольствие в подобных рассуждениях, будто паришь над явлениями. Однако теперь я сам увяз в них и лишь мимоходом успеваю делать пометки.)
В Посавине, в тот день, на который была назначена продажа конфискованной земли, Хасан столкнулся с неожиданным препятствием. Глашатай объявил, что от имени визиря его человек купит все, а это равнялось для остальных приказанию не вступать в торг. Однако, если по моим понятиям это служило препятствием, по понятиям Хасана таковым ничуть не являлось. Не обращая внимания на желание визиря, он купил несколько участков, остальные – большую часть – взял представитель визиря почти даром. Хасан оставил деньги и на то, чтоб хоть как-нибудь починить дома и купить еды семьям, которые здесь поселятся, и, довольный, вернулся домой.








