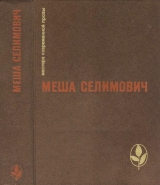
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 49 страниц)
Но обо всем этом я думал позже, тогда я ощущал только страх, смутный и в то же время весьма определенный. Если Авдага найдет то, что ищет, а найдет он наверняка, за свою шкуру я не дам и ломаного гроша. Но, помимо этой непосредственной опасности, меня окружала тьма неведомых угроз. Мне всюду мерещились тени и глаза, зорко следящие за каждым моим шагом, кольцо сужалось, тени все ближе, близость их гнетет все сильнее, я беспомощно верчусь, не видя ни выхода, ни спасения. Все эти бесчисленные глаза и тени принадлежат Авдаге. Это он породил целую армию призраков. И я не знаю и не могу себе представить ничего более мучительного, чем это состояние полной беспомощности. Точно болезнь с роковым исходом.
Подобное смятение мне доводилось переживать и раньше, но это было на войне, в непроглядном мраке густого леса или ровного поля, когда вокруг ни души, не слышно даже отдаленного человеческого голоса, а опасность чудится всюду, и ты не можешь определить ни ее характера, ни точного места, и поэтому она представляется еще более жуткой. Разум беспомощен перед этим страхом неведомой угрозы, он не в силах побороть его, как зрение – кромешную тьму.
Кто знает, сколько бы я еще барахтался в тине малодушия, если б вдруг не стал противен сам себе и с омерзением не плюнул в лицо собственной трусости. Да пошли они к черту, эти воображаемые страхи! Я человек, не мертвая мишень, ожидающая выстрела, и не стану на коленях встречать беду. Стыдно и перед собой, и близких нельзя разочаровывать – они же верят в меня!
Я сделал немного, но сделал сознательно. Зачем же втаптывать в грязь и эту малость?
Не хочу дрожать, не хочу бояться!
И так ли уж обязателен плохой исход?
Авдага все знает, но пока не предпринимает никаких шагов (рассуждал я спокойнее), уговаривает меня прийти с повинной и тем облегчить ему задачу. А я не пойду с повинной, и никто ни в чем не признается, вот Авдага до самой своей смерти и будет ходить за мной по пятам и все тише повторять свои вопросы. От такой пытки умрет он, а не я.
Или Шехага каким-то образом укротит его рвение и обезоружит его. Вспомнит его в злую минуту, когда ненависть заклокочет в сердце, и смертоносная струя ее зальет и сердара, и наше преступление.
Вернув опасность на землю, к людям, я почувствовал себя смелее. Опасность не утратила своей серьезности, только стала конкретнее и обозримей, я знал ее размеры, знал, чем она мне грозит, но моя растерянность и смятение исчезли.
Авдага прилагает усилия к тому, чтоб уничтожить меня, а я приложу все усилия, чтоб сохранить свою шкуру целой и невредимой. Стоит она недорого, но другой у меня нет, она прекрасно мне служит, а ему все равно ни на что не сгодится. Он готовит мне погибель, я желаю ему лишь неудачи, а учитывая наши силы, мои – ничтожные, его – могучие, будет справедливо, если он ничего не выиграет, а я ничего не проиграю. Ставки в игре у нас неравноценные, я ставлю на карту все, он ничего, для него проигрыш – неудача, для меня – конец. А раз так, пусть лучше он потерпит неудачу, чем я погибну. Как-никак собственная жизнь меня заботит больше, чем его удачи или неудачи.
Желание сохранить голову и решение не ждать, когда кинжал вонзится тебе в спину, принесли мне некоторое облегчение, и я отправился на поиски Османа Вука. Про него я вспомнил сразу же, как только надумал принять бой. Если кто и может обуздать Авдагу, так это он один.
Нашел я его в лабазе Махмуда. Лабаз, к моему удивлению, на сей раз был набит шерстью. Осман следил за тем, как увязывали тюки.
Махмуд ковылял по лабазу, без всякой нужды оттягивал веревки на тюках, стараясь показать Осману, что знает толк в деле и полон рвения. Разумеется, рвения было больше, чем знания, и Осман проверял после него все заново и приказывал затягивать крепче.
– Шерсть для Венеции,– объяснил Махмуд, как мне показалось, с грустью в голосе.– Осман с Шехагой едут.
– Чего ж ты не попросил, чтоб и тебя взяли? – спросил я, поняв причину его грусти.
Он пожал плечами: кому он там нужен?
И пошел дальше оттягивать веревки на тюках.
– Где ты пропадал? Нет чтоб помочь людям! – встретил меня Осман улыбкой.
– Мне надо поговорить с тобой.
– Дай вот кончу.
– Я бы хотел сейчас.
– И я много чего хотел бы.
Но все-таки пошел к каморке Махмуда. Я двинулся следом и закрыл за собой дверь.
– Долгий разговор?
– Как хочешь.
– Тогда давай покороче! Дела ждут.
– Я разговаривал с Авдагой.
– Да что ты говоришь? Неужто впервой?
Как всегда, скоморошничает. Ничего, сейчас услышит – забудет про свои шуточки.
– Авдага все знает. Я ушам своим не поверил…
В каморку вошел Махмуд, посмотрел на нас подобострастно, сгорая от любопытства. Год жизни отдал бы за то, чтоб услышать наш разговор.
– Хотите что-нибудь? Может, кофе принести?
– Не надо ничего,– резко оборвал его Осман.– У нас важный разговор.
Махмуд понуро вышел, он ведь и пришел из-за этого разговора.
Я передал рассказ Авдаги, не опустив ни одной подробности. Он слушал, не прерывая, но с поразившим меня ироническим видом. Я предполагал, что мой рассказ встревожит его больше.
И, что совершенно уж неожиданно, он громко расхохотался, как только я закончил.
– Что-что? Махмуд договаривался с комендантом? Много он знает, в точку попал, прямо пальцем в небо!
– А кто же?
– Много будешь знать – скоро состаришься.
– Чего ты от меня таишься? Надеюсь, не думаешь, что я побегу доносить?
– Не думаю, ты, брат, не такой дурак! С комендантом говорил знаменосец Мухарем. Ну, легче тебе стало?
– А он с какой стати?
– Ненавидит он их – всех! А с комендантом они приятели, на войне вместе были, один стариком, другой молодым. Теперь оба старики.
Знаменосец Мухарем! А бедняга Махмуд высох из-за поноса, без вины виноватый!
– А другие? В других он тоже ошибся?
– В тебе нет.
– Авдага опасен. И становится все опаснее.
– Знаю.
– Что будем делать?
– Уповать на бога.
– Плохо наше дело, если только на бога нам и осталось уповать.
Осман улыбнулся и дружески хлопнул меня по колену:
– Не так страшен черт, как его малюют.
И весело, без тени озабоченности пошел проверять, как работники увязывают шерсть.
Выходя, я видел, как Махмуд, разговаривая с Османом, грустно поглядел мне вслед, не смея спросить, о чем мы говорили. Он не выносит тайн, ни своих, ни чужих, но сильнее всего его мучает эта тайна, в которую он, ничего о ней не зная, влип без всякой вины.
Но что я мог сказать ему? Что он не виновен и Авдага напрасно его подозревает? Это он и сам знает, да толку от этого чуть. Сказать же ему, что он страдает за знаменосца Мухарема, мне и в голову не приходило. Это открытие могло вызвать в нем не гордость, а желание избавиться от поноса и скинуть со своей шеи сердара Авдагу, открыв ему имя настоящего виновника.
Что разумнее – освободить Махмуда от несправедливого обвинения или не освобождать? И вот снова от моего решения зависит, кому быть преступником – Махмуду или Мухарему? Избавишь Махмуда от муки, которую у него уже нет сил выносить,– погубишь другого бедолагу. Что лучше? Или что хуже? Если открыть Махмуду тайну, он не сумеет ее сохранить, сердар Авдага обеими руками ухватится за улику, за которой давно рыщет, и клубок начнет разматываться. Знаменосец умрет под пытками или признается. Один бог ведает, сколько людей погибнет. А так Махмуд связан с нами одной веревочкой, связан, правда, несправедливо, но опасность в этом случае меньше. Пусть остается все, как есть! Махмуд ничего не знает и потому не может ничего открыть. Все другое будет хуже.
Но и приняв такое решение, я не успокоился. Как ни было благоразумно мое решение, справедливым оно не было. Я обрекал невинного человека на страдания и, возможно, на гибель. Я утешал себя тем, что, если все выйдет наружу, я скажу о нем правду и таким образом спасу его хотя бы в последнюю минуту, но все равно чувство вины перед приятелем меня не покидало.
Нелегкое дело – решать судьбу людей. Не способен я к дележу справедливости, при котором всегда кто-то хоть ненамного, а окажется обделенным. Я никогда не испытывал желания быть судьей людям – справедливо тут никогда не рассудишь.
И все-таки жизнь вынудила меня взять на себя эту роль, и я чувствую себя прокаженным, виноватым и перед собой, и перед другими.
Смутило меня и поведение Османа, когда он услышал мой рассказ. Беззаботно расхохотался и предоставил все божьей воле. Легко ему уповать на божье милосердие, в которое он, кстати сказать, так же слабо верит, как и я, находясь в полной безопасности за широкой спиной Шехаги. Значит ли это, что всех нас он бросает на произвол судьбы? Трудно поверить в такую подлость, хотя от него всего можно ожидать. Но это было бы слишком большим легкомыслием с его стороны – ведь и ему, и Шехаге тоже не поздоровилось бы, если бы все открылось.
Почему же он так несерьезно отнесся к моему известию? Тем более что он и сам отдает себе отчет, насколько Авдага становится опасен.
Прошло три тяжелых дня. Тияне я ничего не говорил. Как и все прочие, я превратился в осажденную крепость, мрачную и безгласную, ворота которой были на тяжелом замке. К чему говорить Тияне? Напрасно волновать только. Стали бы вздыхать вместе – разве этим делу поможешь? Хоть ее надо пощадить.
Я, как водится, напускал на себя веселый и беспечный вид. И, как водится, обмануть мне ее не удалось. То ли тревога придавала моему смеху привкус горечи, то ли я просто не умею притворяться, но Тияна мигом учуяла, что я не такой, как всегда.
– Что с тобой? – озабоченно спросила она.
– Со мной? Ничего.
Сперва она поверила, но вечером взялась за меня снова:
– Что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь? Что ты скрываешь от меня?
– Ничего я не скрываю. Нечего мне скрывать.
– Может, ты полюбил другую? И, жалея меня, не хочешь признаться?
Женщины, кажется, все на свете готовы объяснять любовью.
Я горько рассмеялся. Имя моей новой любви – сердар Авдага!
– Что ты говоришь? Выкинь, пожалуйста, из головы эти мысли!
– Ты можешь смело мне сказать. Лучше знать наверняка, чем мучиться и сомневаться. Да и неудивительно, я так подурнела, разве я сама не понимаю?
– Похорошела ты, а не подурнела. И я никогда не любил тебя так, как сейчас,– сказал я взволнованно, потому что это была правда. Она – единственное мое убежище, но и ей грозит опасность. Что с ней будет, если меня заберут?
Она успокоилась, поверила.
– Что ж с тобой все-таки? Ведь что-то случилось, я вижу.
– Работы найти не могу. Бездельничаю, как шалопай какой-нибудь. Сколько можно так жить?
Она приняла это объяснение и стала бодро корить меня за малодушие, пытаясь уверить, что я наверняка скоро найду работу. Пока можно жить спокойно. На деньги, которые у нас есть и которые она тратит, пропуская сквозь самое частое сито, мы сможем прожить, если понадобится, год. С голоду, во всяком случае, не умрем. Мы молоды, здоровы, что еще надо? Деньги ее меньше всего беспокоят.
Конечно, беспокоить это ее беспокоит, но она храбрится, чтоб подбодрить и успокоить меня, не зная, что сейчас и для меня это последняя забота. Рану мою она не исцелила, но преданность ее меня тронула до глубины души. Она целебна сама по себе, прекрасна и дорога не меньше любви.
И тут-то, когда можно было уже ничего не говорить, я рассказал ей об Авдаге.
Тияна задумалась ненадолго, но, видно, в тот вечер она решила быть мужественной до конца. Она умалила мою вину ввиду грозившей мне опасности и наверняка возвела бы ее в заслугу, если бы за нее давали награду.
Оправдала она меня с легкостью.
– Ты же, по сути, не знаешь, что и было-то. Как ты можешь быть виноватым?
Довод не очень убедительный, но он помог мне заснуть спокойнее.
Разрешилось все совершенно неожиданно.
Спустя три дня после этого мучительного разговора сердара Авдагу убили. Убили под Даривой. Молва говорила, что его подстерег в глухом ущелье разбойник Бечир Тоска, когда тот под вечер возвращался от коменданта крепости.
Я узнал об этом утром от пекарей и, забыв про хлеб, побежал к Махмуду.
Он встретил меня, ошалевший от счастья и радостного возбуждения.
– Правда, правда! – захлебываясь, ответил он на мой вопрос.– Иду я утром и думаю, неужели и сегодня сердар припожалует, и вдруг навстречу мне столяр Абаз. «Слыхал,– говорит,– сердара Авдагу убили?» Я так и сел, хочу спросить, сказать что-нибудь, а слова произнести не могу, в горле клокочет – и все тут. А Абаз продолжает: «Убили его под Даривой из ружья; говорят, Бечир Тоска убил и ушел себе спокойненько в горы. Комендант как раз об эту пору слышал топот коня». Абаз, значит, говорит, а я слушаю и мало-помалу в себя прихожу, так и хочется засмеяться от радости, обнять его. Сын родился – я не так обрадовался! Помчался в лабаз, заперся там и давай ходить между мешками с зерном и тюками шерсти. Смеюсь, сам с собой разговариваю: «Нет его больше!» Только это и твержу: «Нет его больше!» Совсем ополоумел от счастья. Потом спохватился, сел и возблагодарил бога: «Аллах, благодарю тебя за то, что прикончил ты изверга рода человеческого! Давно я о тебе не вспоминал, прости, знаю, ты не злопамятный, как некоторые, ты увидел, как измывается надо мной этот палач, и пришел мне на помощь в самое время. Долгонько ты раскачивался! Запоздай ты чуть, и мне уж ничья помощь была бы не нужна, даже и твоя». Есть правда на земле, Ахмед!
– Я услышал в пекарне – ушам своим не поверил!
– Только хотел к тебе бежать, мол, с тебя причитается за добрую весть, а ты сам тут как тут. Ну да ладно, поздравляю тебя!
– Откуда взялся Бечир Тоска возле самого города? И надо же, напоролся как раз на сердара Авдагу!
– А мне все равно! Разве это важно? Важно, важнее всего на свете, что мне не надо больше смотреть на дверь и умирать, когда кто-нибудь берется за ручку. Теперь пусть кто хочет приходит! Милости просим! Сегодня я во второй раз родился!
Пока я в некотором смущении размышлял о нашем удивительном мире, в котором смерть одного человека вызывает ликование другого, получающего тем самым свободу, в лавку вошел Осман Вук. Вид у него был серьезный.
– Слыхали про сердара Авдагу? – спросил он нас.
– Да, слава аллаху! – радостно отозвался Махмуд.
– Нехорошо радоваться смерти человека! – укорил его Осман.– Каким бы он ни был при жизни, сейчас он мертв, и пристало говорить лишь одно: «Упокой, господи, его душу!»
– Я и радуюсь тому, что могу сказать: «Упокой, господи, его душу!» Ахмед вот спрашивает: «Кто его убил?» А я говорю: «Божье милосердие! И богу и людям в тягость стал».
– Говорят, Бечир Тоска его убил. Как он оказался на его пути?
Осман метнул на меня быстрый взгляд холодных серых глаз. В голосе его прозвучала угроза, а не смирение:
– Так бог судил. Или на роду ему было так написано.
В эту минуту я почувствовал твердую уверенность, что Авдагу убил он. До сих пор я сомневался, теперь я знал точно. По словам, которые он произнес – обычным, но ему не свойственным,– по грозному предостережению, которое я уловил в его голосе, по холодному блеску его сузившихся зрачков, по отсутствию во мне даже тени сомнения на этот счет. Словно выбились из моего и его мозга два луча и скрестились на одной и той же мысли, появившейся разом у меня и у него. Между нами больше не существовало тайн. Махмуду он сказал, что сегодня придет еще партия шерсти и надо приготовить рогожу и веревки.
Я следил за ним – мне хотелось понять, как выглядит убийца. (На войне их называют героями.) Ничего особенного: красив, спокоен, деловит, будничен, поглощен сегодняшними заботами, вчерашние уже перестали его волновать. Не знаю, что у него в душе, но по его виду никак не заключить, что он взволнован или думает об убитом. Если же и думает, то с удовлетворением: сделано важное дело, убрана с дороги серьезная помеха, жизни больше не угрожает опасность.
Соедини свои силы десятеро таких непреклонных людей, они с легкостью завладели бы миром. Подавляющее большинство людей слабаки вроде меня. Где нам сладить с ними?
Жестокость Махмуда мнимая. С детской непосредственностью он чуть ли не плясал от счастья, которое ему принесло несчастье другого, и благодарил позабытого бога за то, что избавил его от напасти, от которой сам он был не способен избавиться. Осман больше верит в свои силы, чем в божье милосердие, не ждет сложа руки, пока случай придет ему на помощь, а сурово разрубает путы, которыми пытаются его скрутить, и спокойно идет дальше.
Убивал он не сам, но это его рук дело. Кто знает, сколько было посредников между ним и посланной им смертью. Между смертным приговором, вынесенным им, и тем человеком, который спустил курок, стоит целая вереница неведомых людей. Последний, может, никогда и не слышал про Османа. Но, не будь Османа, Авдага был бы жив. Осман – его судьба.
Когда я собрался уходить, он крикнул мне вдогонку:
– Шехага тебя спрашивал. Велел прийти!
Я вышел на улицу и зашагал, низко опустив голову, старательно обходя людей, чтоб не слышать пересудов об убийстве Авдаги. Я не хотел думать о нем, а думал не переставая.
Больше я не увижу в конце улицы его высокую, сухопарую фигуру, не увижу его тяжелого, пронизывающего взгляда, никогда он больше меня не остановит, не спросит, о чем я разговаривал со старым Омером Скакавацем, а я не буду по утрам просыпаться с мрачной мыслью о том, что день снова принесет мне встречу с ним.
Но радости нет, душу гложет мысль: а не я ли его убил?
Я хотел избавиться от страха и опасности, смерти я ему не желал.
Боясь запоздалого раскаяния, я без всякого милосердия допрашивал себя: не ожидал ли я все-таки в глубине души именно такого исхода? Ибо каким другим он мог быть? Мог ли Осман убедить Авдагу, подкупить его, запугать? Наверняка нет. Авдага с презрением отверг бы все. Что, собственно, оставалось такому человеку, как Осман? Уповать на удачу и божье милосердие, как он издевательски наставлял меня, замышляя убийство? Нет, такой путь не для Османа. Он сделал то, что сделал, другого выхода не было. Ни для Османа, ни для Авдаги. Будь Авдага умнее, он испугался бы; будь он менее честным, взял бы деньги; будь он более легкомысленным, махнул бы на все рукой. Но он был он, остановить его могла только смерть. А к такому выводу мог прийти только Осман.
И я это знал, хорошо представлял себе обоих. Чего же я в таком случае ждал, на что рассчитывал?
Копаюсь в себе, ковыряюсь, роюсь, ищу в себе эту тайную, подспудную мысль и не нахожу, еще и еще раз убеждаясь, что ее не было. Иного исхода быть не могло, сейчас я это понимаю, но я ни на мгновенье не думал о нем раньше. Я должен был его предусмотреть и не предусмотрел.
Можно ли до такой степени усыпить свою совесть? Оборвать мысль, как нитку, и, не желая думать о последствиях, запретить себе думать о них? Выходит, можно. Инстинкт самосохранения защищает нас полным забвением, избавляя от ответственности и угрызений совести. Я все отдал в чужие руки, руки Османа, предоставив ему решать судьбу Авдаги без меня, без моего участия!
Если это так – а другого объяснения я не вижу,– человек довольно-таки дрянное создание, даже когда не сознает всех последствий своих поступков. Ибо он не хочет их сознавать!
Однако хитрость удалась: подавленный и расстроенный, я все-таки не ощущаю своей личной ответственности за происшедшее. Как я могу нести ответственность за то, что не я придумал, не я осуществил? Мне даже пришла в голову мысль (в который уже раз!), что это могло произойти и без меня, ведь Осман и сам знал об Авдаге. Невероятно было бы предположить, что только после моего рассказа он решил убить его.
Так моя пристрастная мысль, моя упорная защитница, искала все новые облегчающие обстоятельства для моей совести. А совесть принимала защиту, правда с легкой долей сомнения и некоторой неловкостью, но было видно, что она на пути к полному успокоению.
Когда я рассказал Тияне о смерти Авдаги, она раздраженно сказала:
– До чего же люди глупы! Делают зло, чтоб им злом отплатили.
Когда-то она говорила: «Как несчастны люди!»
Сейчас она убеждена, что зло должно быть наказано. Создавая семью, она не может и не хочет думать иначе.
Одна смерть, а сколько различных о ней мнений! И каждого волнует не смерть сама по себе, а его отношение к ней.
Шехага Сочо предложил мне ехать вместе с ним в Венецию. Молодому человеку надо, мол, повидать мир, да и ему не по душе ехать одному, и вообще он не против взять меня на службу. Если я не захочу работать у него, хоть мне и пора чем-нибудь заняться, поездка мне не повредит, легче потом будет жить в нашей глухомани. Деньги для Тияны он мне даст, и она может или остаться в нашем жилище, или перейти к нему в дом. Он полагает, что последнее было бы лучше. У нее будет своя комната, услужение, забот никаких, а поговорить, если захочет и когда захочет, может с его женой. Они поладят, о Тияне отзываются хорошо (кто отзывается? Осман?), да и у него жена добрая, словно в другом мире родилась. Если заплачет по сыну (никак не забудет его, говорит с ним, как с живым), Тияна ее утешит, а и уйдет, он ни в чем ее попрекать не станет. И ему будет спокойнее, что рядом с женой близкая душа. Понравится Тияне – мы сможем насовсем остаться у них: и для ребенка лучше, двор большой, дом просторный, а есть и другой, поменьше, на заднем дворе, можно там поселиться. Им с женой мы мешать не будем, да и они, надеется, нам тоже. И ребенок, когда родится, им не будет мешать, пусть себе пищит-заливается, все лучше, чем пустой дом.
О сыне он упомянул, лишь говоря о жене, но я знал: он не может его забыть. И меня берет с собой вместо него, в его сознании мы как-то соединились: были на одной войне, ровесники, даже родились в одном месяце, и глупость сделали одинаковую, вот только последствия разные. А он, попытавшись утишить свое горе ненавистью, сейчас пытается смягчить его заботой о других. Не выйдет: боюсь, что сознание своего несчастья станет у него еще сильнее от близости нашего счастья, но он ищет лекарства от своего недуга, как безнадежный больной, которому уже нечего терять.
Я не допущу, чтоб он возненавидел меня, когда к нему снова придет разочарование, когда он увидит, что и это лекарство не помогает, вовремя отойду, но сейчас отказать ему я не в силах.
Тронуло меня его горе, которое он скрывает и не может скрыть, и безуспешные поиски утешения. И сейчас ему не найти его. Я не могу быть другим – человеком, живущим в его памяти, тень мертвого сына всегда ему будет милее и дороже его живого подобия. Но какое-то облегчение, пусть ненадолго, я ему принесу. И то хорошо.
Ну что ж, отправлюсь в эту дорогу надежды. Мое дело быть при нем, остальное он додумает сам. Все, что сочтет нужным.








