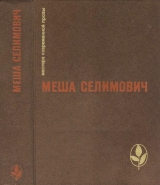
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 49 страниц)
Часть вторая
10Несчастен будет тот, кто душу свою запятнает.
Однажды, очень давно, ребенок рассказывал о своих детских страхах. Это походило на песенку:
На чердаке
есть балка, которая падает на голову,
есть ветер, который стучит ставней,
есть мышка, которая выглядывает из норки.
Ему было лет шесть, он веселыми голубыми глазенками восхищенно смотрел на солдат и на меня, молодого дервиша-аскера, мы были товарищи и друзья, не знаю, любил ли он так еще кого-нибудь в жизни, потому что я встречал его радостно и ничем не показывал, что я старше.
Стояло лето, на смену дождям приходила жара, мы жили в палатках на равнине, полной комаров и лягушек, в часе ходьбы от Савы, возле какого-то заброшенного хана, где теперь обитал мальчуган со своей матерью и полуслепой бабушкой.
С самой весны торчали мы здесь – шел уже третий месяц,– изредка атакуя неприятеля, укрепившегося на берегу реки. Вначале мы потеряли много людей и пали духом, понимая, что с оставшимися силами ничего не сделаем, а те, кто могли прийти на помощь, сражались бог знает на каких фронтах огромной империи, вот мы и застыли на равнине как препятствие и преграда друг для друга.
Становилось мучительно и скучно. Ночи были душные, равнина, как море, тихо дышала под лунным светом, бесчисленные лягушки в невидимых трясинах отделяли нас своими пронзительными голосами от остального мира, их ужасающие мелодии стихали лишь на заре, а белесые и сизые испарения тянулись у нас над головой, как при сотворении мира. Самым тяжелым было однообразие в этих переменах, их неизменность.
По утрам туманы окрашивались в розовый цвет, и наступала самая приятная часть дня, без влажной испарины, без комаров, без ночных мучений, когда с трудом удавалось сомкнуть глаза. И тогда, как в колодец, погружались мы в глубокий сон.
Невмоготу было, когда начинался дождь, горизонт затягивало, мы корчились, прижимаясь друг к другу, молчали, измученные холодом, который донимал, как зимой, иногда болтали бог знает о чем, иногда пели, раздраженные и лютые, как волки. Палатки пропускали влагу, и на нас сыпался серый дождь, вода проступала под настилом, земля превращалась в непроходимую топь, мы сидели, как всегда, одни со своей бедой.
Солдаты пили, играли в кости, накрывшись одеялами, ругались, дрались, это было паскудное существование, я внешне держался стойко, ничем не обнаруживая, как мне тяжело, сидел неподвижно даже тогда, когда лил на меня дождь, сидел не шелохнувшись даже тогда, когда палатка превращалась в сумасшедший дом, в клетку с дикими зверями, я заставлял себя молча выдерживать все, что было отвратительным и невыносимым, я был молод и считал это частью искупления, понимая, насколько это отвратительно и невыносимо. Я, крестьянин, учившийся в медресе, вздрагивал при каждом ругательстве и каждом бранном слове, пока не понял, что солдаты употребляют их, не видя в них ничего непристойного. А когда они хотели выругаться по-настоящему, когда хотели отвести душу, наслаждаясь и предвкушая удовольствие, тогда на самом деле становилось невыносимо. Они делали это с безмятежной злобой, с дерзким наслаждением, потом умолкали и вызывающе ждали отклика на это неестественное соединение слов. Случалось, у меня подступали к горлу слезы.
Я услышал многое о жизни и о людях, чего до сих пор не знал. К чему-то относился с любопытством, к чему-то – с ужасом и таким образом приобретал опыт, теряя наивность и не переставая сожалеть об этом.
Я сидел вместе с солдатами, пока мог выносить, и позволял себе уходить только тогда, когда успокаивался, тупел или отвлекал себя мыслями, воспринимая все как необходимость, что зовется жизнью, которая не всегда прекрасна. Изредка я пытался вразумить их. Несколько раз они жестоко высмеивали меня (я был такой же, как они, я носил духовное звание, но у меня не было чина, который мог бы защитить), и ради себя и ради них я отказался от вмешательства в их дела, ограничившись молитвами, которые входят в число солдатских обязанностей наряду с маршами и караулом. Странная, лишающая мужества мысль приходила мне тогда в голову, что в тяжком положении оказывается человек, который духовно более развит в сравнении с остальными, коль скоро его не защищает положение и страх, с этим положением связанный. Такой человек замыкается в себе, его критерии совсем иные, они никому не приносят пользы, но из-за них он отчужден.
Таким образом, я чаще всего оставался наедине с книгой или со своими мыслями, и мне не удавалось найти ни одного человека, с которым хотелось бы сблизиться. На всех я смотрел как на одно целое, как на скопление людей, необычное, жестокое, сильное, даже любопытное. В отдельности же каждый оказывался непостижимо незначительным. Я не презирал их, думал о них как о толпе и даже немного любил это стоглавое существо, крутое и могучее, но в отдельности я их не терпел. Моя любовь, или нечто чуть поменьше этого, касалась всех, а не одного, и для меня ее было достаточно.
Однажды, когда я сидел в поле, на трухлявом пне, в жесткой, доходящей до колен траве, одинокий, оглушенный треском цикад под жарким солнцем (все время что-то верещало, трещало, пело на этой равнине), ошеломленный тем, что́ услышал от солдат о молодухе из хана, я вдруг увидел мальчика – он замер в траве, скрытый в ней почти по горло. Он с доверием пошел ко мне. Мы были уже знакомы.
Лучше бы он меня не видел тогда. Я боялся, как бы он не прочел в моем взгляде то, что я слышал о его матери.
Болтовня солдат вполне могла быть достоверной. Она была единственной молодой женщиной возле нас, первые села виднелись лишь на далеком краю равнины, наши ходили туда тоже, главным образом по ночам, я понимал, что из-за женщин, а ведь никто не бывает столь бесстыден, как солдат, который знает, что может в любую минуту погибнуть, ему не хочется думать о смерти, не хочется ни о чем думать, и он спокойно оставляет позади себя пустыню. Да и женщины с ними уступчивее по своей извечной жалости к солдату, к тому же и бабий их грех развеет ветер на дальних солдатских дорогах. Там, где войско пройдет, трава не растет, но дети подрастают. Трудно мне было все это связать с матерью мальчугана. Любая женщина, только не эта. Я настолько обобщил мир, что терял его из виду.
Маленькая, хрупкая на вид, совсем молодая, она не сразу бросалась в глаза, однако ее сдержанность, ее спокойствие, ее уверенность не позволяли равнодушно пройти мимо. И тогда можно было рассмотреть глаза, что не глядели рассеянно, красивый рот, чуть насмешливый и упрямый, ловкие движения, свойственные здоровому и гибкому телу. Она мужественно боролась с тяготами жизни. Овдовев, решила сохранить хан и хозяйство, которое постепенно разрушалось войной и теперь напоминало кладбище, пустошь. Она осталась, оберегала то, чем владела, пытаясь из общей беды извлечь свою выгоду. Продавала солдатам еду и напитки, позволяла играть в кости в хане, вытягивая горемычную солдатскую денежку и давая им то, чего они были лишены. Она старалась, как только могла, чтобы сын был подальше от дома и от солдат, но могла-то она не всегда. Я разговаривал с ней об этом. «Для него и работаю,– спокойно сказала она.– Трудно ему придется, если начнет на пустом месте».
И вот теперь я узнал, что она бывает с солдатами. Может быть, вынуждена, может быть, не могла защититься, может быть, раз уступила, а потом ее стали запугивать и она смирилась – не знаю, я не любопытствовал, но меня мучило то, что я узнал. Из-за мальчугана. Знает ли он или узнает? И еще из-за себя. Не подозревая ни о чем, я высоко ценил ее мужество, а потом, ведь я думал так же, как и любой юноша, хотя и стыдился подобных своих мыслей. Теперь же это стало водой, что свободно течет, едой, которую предлагают, вот она, бери. Ничто ее больше не защищало, кроме моего стыда, а я уже знал, что стыд не очень большое препятствие. Поэтому я еще больше привязался к мальчугану, чтоб защитить и себя и его.
Я позволял ему уводить меня по его детским дорогам, разговаривал с ним на его языке, оба мы думали по-детски, и я был счастлив, когда мне это удавалось, тогда я чувствовал себя обогащенным. Мы делали дудочки из камыша и наслаждались пронзительным звуком, взлетавшим ввысь, когда по зеленой былинке проходил воздух изо рта. Мы тщательно разделывали бузину, выскребая влажную сердцевину, чтоб получить пустоту, полную таинственных голосов. Мы сплетали венки из голубых и желтых цветов осоки, и он относил их матери, а потом я уговорил его украшать венками ветки тополя, я не хотел, чтоб он думал о чем-то дурном.
– А на ветках вырастут цветы? – спрашивал он.
– Может, и вырастут,– отвечал я, и сам немножко веря, что расцветет серое дерево.
– Где солнце? – спросил он меня однажды.
– За облаками.
– Оно всегда там? И когда тучи?
– Всегда.
– А можно его увидеть, если мы заберемся на верхушку тополя?
– Нельзя.
– А на минарет?
– Нельзя. Над минаретом облако.
– А если дырку пробить в облаке?
В самом деле, почему люди не пробьют дырку в облаке ради мальчугана, который любит солнце?
Когда шел дождь, мы сидели с ним в одной из комнат просторного дома, он водил меня на чердак, и какая-то балка в самом деле ударила меня по голове, он рассказывал свои милые сказки о большой-большой лодке, с этот дом, что плывет по реке-равнине, о любимом голубе, который знойными ночами парит над его постелькой, пока он спит, о бабушке, которая ничего не видит, но знает все сказки на свете.
– И о золотой птице?
– И о золотой птице.
– А что это за золотая птица?
– Неужели не знаешь? – удивлялся мой маленький учитель.– Это птица из золота. Ее трудно увидеть.
Потом я стал заходить к ним реже, мысли мои не были чистыми, и я с трудом мог говорить на языке мальчика. А зайдя, чувствовал себя неловко. Мы сидели в кухне, его мать входила и выходила, улыбаясь нам, словно своим детям. Я прятал глаза. Я не хотел ни есть, ни пить, я отказывался, когда она меня угощала, я хотел быть не таким, как все остальные, потому что был таким же.
– Оставайся у нас,– предложил мне мальчуган.– Зачем тебе идти под дождем?
Женщина засмеялась, заметив, как я покраснел.
Однажды ночью, на рассвете, враг напал и вытеснил нас из наших палаток. Застигнутые врасплох, мы оказали слабое сопротивление, с трудом собрали оружие, самое необходимое снаряжение и побежали по равнине в белых рубахах, сжимая в руках убогий солдатский скарб, остановившись лишь тогда, когда занялся день и нас уже никто не преследовал.
Враг занял наши позиции и постоялый двор. Окопался и безбоязненно поджидал нас.
Мы вернулись на берег реки лишь спустя семь дней и вновь овладели местностью, где был хан.
И тогда из дома вышли два наших солдата: внезапная атака застигла их в хане, они спрятались и в укрытии провели семь мучительных дней, пока неприятель кружил возле хана и по округе. Женщина их кормила.
Мы были ей благодарны, но потом они рассказали, что она проводила ночи и с солдатами неприятеля.
Воцарилось молчание.
Я упросил начальников отправить мальчугана и его слепую бабку на телеге в ближайшее село.
– А мама? – спросил мальчик.
– Она придет потом.
Женщину расстреляли, едва телега превратилась в пятнышко на бескрайней равнине.
Наверняка он узнал, как поступили с его матерью, и наверняка его песенка о чердаке стала еще более горькой.
Я вспомнил о мальчугане и его страхах, сидя в одиночестве и мысленно возвращаясь назад, ко дням своего детства.
У нас дома тоже был чердак. Я усаживался в старое, ненужное седло, один в мире отвергнутых вещей, которые потеряли прежнюю форму и приобретали новую в зависимости от поры суток и моих настроений, в зависимости от света, который преображал их, в зависимости от того, радовался я или грустил. Я мчался вперед навстречу событиям, жаждал, чтоб хоть что-нибудь произошло, чтоб хоть что-нибудь случилось в туманных детских грезах, которые причудливо изменялись, нереальные, подобно вещам в полутьме чердака.
Этот чердак создавал меня, как создавали многие иные места и обстоятельства, встречи, люди, я возникал в тысячах изменений, и мне казалось, что с каждой новой переменой все прежнее исчезает, растворяется, лишенное значения, в туманах ушедшего. А потом, всегда вновь и неожиданно, я обнаруживал следы того, что было, словно живые раскопки, словно свои собственные отложения, они становились дорогими и прекрасными, хотя были старыми и некрасивыми. Эту заново открываемую, нерастраченную часть собственного существа, которая не была только воспоминанием, украшало время и возвращало назад из неведомых далей, вновь соединяя меня с ней. И она существовала двояко, как частица моего теперешнего «я» и как воспоминание. Как настоящее и как исходное.
На чердаке, где я искал одиночества, познавая себя, искал прибежища от необъятных просторов родного края, хотя я любил их сильнее, чем родную мать, я часто думал о золотой птице из ее сказок. Я не знал, как она выглядит, но, слушая, как стучит дождь по крыше из дранки, как хлопает на ветру ставень, и видя в углах бесчисленные глазки, я представлял себе, как нахожу эту свою золотую птицу, я – герой ее убаюкивающих сказаний, зная, что именно так, каким-то странным, непостижимым образом достигается счастье.
Позже я позабыл о ней, жизнь распылила грезы юности, которые могут существовать лишь в жарком огне беспредельной фантазии, в безграничной свободе желаний, рожденных отсутствием опыта. И она снова возникла, как насмешка, когда мне стало невыносимо.
Жил однажды мальчуган в отцовском доме, над рекою, видевший золотые сны, ибо ничего не знал о жизни.
Жил и другой мальчуган, в хане, на равнине, мечтавший о золотой птице. У него убили мать, она была грешницей, а его вышвырнули в мир.
Нас было четверо братьев, и все четверо искали золотую птицу счастья. Один погиб на войне, другой умер от чахотки, третьего убили в крепости. Я своего счастья больше не ищу.
Где они, золотые птицы человеческих снов, через какие многоводные моря и скалистые горы добираются до них? Неужели глубокая тоска детской наивности непременно является нам лишь печальным символом, вышитым на платках и на сафьяновом переплете ненужных книг?
Я пытался читать Абу-ль-Фараджа, принуждая себя, без особого желания, без внутренней необходимости, я хотел услышать и чужие мысли, а не только свои.
Наугад раскрыв книгу, я набрел на рассказ об Александре Македонском. Царь, говорилось в нем, получил в подарок два чудесных стеклянных сосуда. Дар этот привел его в восхищение, и он тут же разбил их.
– Почему? Ведь это прекрасно? – спрашивали его.
– Именно поэтому,– ответил он.– Они настолько прекрасны, что мне будет трудно с ними расстаться. Со временем они все равно бы разбились, один за другим, и я бы жалел больше, чем теперь.
Это звучало наивно, но поразило меня. Смысл был горький: человек должен отказаться от всего, что может полюбить, поскольку утрата и разочарование неизбежны. Мы должны отказаться от любви, дабы не потерять ее. Мы должны сами уничтожить свою любовь, чтоб ее не подавили другие. Мы должны отказаться от всего, что может связать нас, во избежание позднейшей скорби.
Безжалостная мысль не оставляет надежды. Мы не можем уничтожить то, что любим; всегда существует вероятность того, что нас уничтожат другие.
Почему же считается, будто книги разумны, если они содержат в себе горечь?
Ничья мудрость не может помочь мне. Я охотнее возвращаюсь к началу. Делаю это без усилий, не заставляя себя. Не ищу ничего, оно само обнаруживается и находится.
Целыми днями идет дождь, сердито постукивает по черепице старой крыши, горизонт исчез, растворился, по чердаку над головой ходят невидимые ноги, есть одна балка, которая падает на голову, есть ветер, который стучит ставнем, и мышь, которая выглядывает из норки. Есть детство, которое печальными глазами смотрит из тьмы.
Какой-то миг я думал, как тот далекий одинокий мальчуган, и чувствовал и тосковал, как он. Все лишь красивая тайна, и все имеет только будущее или какое-то безграничное продолжение, вокруг всего пламенные отблески, глубокая радость или глубокая печаль. Это не события, но настроения, иногда они приходили сами, как ласковый ветер, как тихие сумерки, как неясные блики, как дурман. Иногда рождались мимолетные образы, лица и мгновенно исчезали во тьме, чей-то смех солнечным утром, лунный круг на такой реке, корявое дерево в излучине, я даже не подозревал, что во мне хранятся частицы минувшей жизни, и не мог объяснить, почему они так долго живут. Возможно, когда-то они много значили и поэтому удержались в памяти, их куда-то засунули, как старые игрушки. Я позабыл бывшего себя, погрузившегося во время, и теперь всплывали обломки и щепки.
Это я, раздробленный, весь из кусочков, из отражений, проблесков, весь из случайностей, из невыясненных причин, из смысла, что существовал, а потом исчез, и теперь я уж больше и не знаю, что я такое в этом хаосе.
Я стал походить на лунатика.
Глубоко за полночь я сидел неподвижно, две свечи горели в двух углах комнаты, чтоб прогнать тьму. Притаившийся, стихший, как окружающая меня ночь, как мир в ночи, я смотрел в черное стекло окна, которое отделяло меня от тьмы, в серые стены, которые отделяли меня от всего, не осмеливаясь перевести взгляд, боясь, что стены разомкнутся в какое-то одно-единственное мгновение, когда я буду невнимателен. Не вставая, не вылезая из угла, где я сидел, чтоб видеть всю комнату, я слушал, как льет дождь, приглушенно гремит деревянный желоб и голуби, воркуя, стучат лапками, переговариваясь в дреме, и все эти тихие однообразные голоса являлись частью ночи, которая не кончалась, и мира, который лишился жизни.
Я не искал больше причин, не искал целого, вечных токов.
В конце всего, что я пытался определить, соединить, ограничить смыслом, стояла длинная черная ночь и вода, что непрерывно поднималась.
И мучительным знамением виделся мальчик с равнины.
Позже я разыскал его и устроил в медресе и в текию. Мы едва узнали друг друга, потому что души наши переменились.
Бабушка его умерла, он был один на всем белом свете. Пастух в селе, где его бросили, сирота, мать которого погибла во время военных действий, оставив ему на память свои сомнительные заслуги. И черный груз на душе.
Он был похож на цветок осоки, перенесенный в горы, похож на кузнечика, которому ребятишки оборвали крылья, похож на мальчика с равнины, которого люди лишили беззаботности. Все принадлежало ему: и лицо, и тело, и голос – но это был не он.
Я никогда не забуду, как он сидел напротив меня на камне, угасший, безмолвный, далекий, без следа той птичьей радости, которую излучал прежде, лишенный даже печали, лишенный всего, сломленный. Ты будешь со мной, я буду заботиться о тебе, ты пойдешь в школу, говорил я, но мне хотелось крикнуть: улыбнись, беги за бабочкой, заговори о голубе, что хранит твой сон. Но он ни о чем больше не говорил.
Сейчас, когда шел дождь, когда меня со всех сторон окружала пустота, обрушиваясь в бездну, я искал спасения в воспоминаниях о детстве, в книгах, в видениях прошлого, а он тихо входил в мою комнату, иногда я заставал его у дверей, и тогда мне вдруг начинало казаться, будто тишина стала иной.
Он молча становился к стене.
– Садись, молла Юсуф.
– Как скажешь.
– Чего ты хочешь?
Тебе ничего не надо переписать?
– Нет.
Он оставался в комнате еще какое-то время, мы не знали, о чем говорить – ему и мне было тягостно,– и потом уходил без единого слова.
Мне трудно сказать, что встало между нами, какие связи еще соединяли нас, а какие страдания разделяли. Когда-то я любил его, и он меня также, теперь мы безжизненно глядели друг на друга. Нас связывала равнина, пока не было той беды, радость, что, подобно солнечному свету, озаряла ту пору. И в то же время мы непрерывно напоминали друг другу, что радость не может длиться вечно.
Он никогда не заговаривал о своем детстве, о равнине, о постоялом дворе, но, когда он смотрел на меня, мне всегда казалось, что в его глазах я вижу воспоминание о смерти матери. Будто я стал неотделим от этого его самого страшного воспоминания. Возможно, он уже позабыл, как все было, и меня тоже считал виновником, ведь я был как остальные. Однажды я попытался объяснить ему, но он испуганно прервал меня:
– Знаю.
Он никому не позволял входить в заветные пределы, нарушать мрачный порядок, который сам установил в душе. Мы все больше отдалялись друг от друга, скрывая свое огорчение, он – вследствие своих подозрений, озлобленности, несчастья, я – из-за его неблагодарности.
Хасан помирился с отцом и шутливо рассказывал, что, дескать, он приобрел опекуна, свекровь и избалованного ребенка в одном лице, но тем не менее излучал радость. Он договорился с отцом отдать в вакуф его и свою часть имущества для спасения души и доброго дела, на благо бедняков и бездомных, и целыми днями бегал, заканчивая переговоры по этому делу, получал судебные решения, искал подходящего человека на должность мутевели, честного, умного и разбитного, если такие бывают, и обо всем этом говорил со смехом. Я не знал, что его больше радовало: то, что помирился с отцом, или то, что зять, Айни-эфенди, лишился столь лакомого куска.
– Если у него теперь сердце не разорвется,– весело говорил он,– значит, оно из камня.
Он приобрел Коран, который переписывал молла Юсуф, в подарок отцу. Юсуф отказывался принять деньги, но доводы Хасана звучали веско.
– Два года труда на ветер не бросают.
– Зачем мне деньги?
– Отдай их тому, кому они нужны.
И удивлялся, рассматривая Коран:
– Он же художник, шейх Ахмед, а ты молчишь и прячешь его, боишься, как бы его у тебя не отняли. Он напоминает мне знаменитого Муберида [9]9
Муберид – известный на Востоке в средние века художник.
[Закрыть]. А может, у него получается даже лучше. Более страстно, более искренне. Ты слыхал о Мубериде, молла Юсуф?
– Нет.
– Талант принес ему славу и богатство. У тебя талант не меньше, а в нашем городке о тебе никто не знает. Даже те, кто бывает в текии. Наши таланты уходят в Стамбул или Мисир, и другие воздают им славу. Мы их не знаем, нас это не касается, или мы сами не верим в себя.
– Какая здесь может быть слава,– сказал я, отклоняя упрек.– Я хотел было отправить его в Стамбул, но он не согласился.
Юноша смутился, как и в первый раз. Только уже без примеси страха.
– Я делаю это для себя,– тихо произнес он.– И даже не думал о том, обладает ли это ценностью.
– Если ты говоришь это искренне, мы можем только преклоняться перед тобой,– засмеялся Хасан.
Юноша ушел, смущенный похвалами.
– Не перевелись еще на свете застенчивые и чувствительные люди, друг мой. Разве это не удивительно? – сказал Хасан, глядя ему вслед.
– Они всегда будут.
– Слава богу. Слишком многие из нас не знают, что это такое. А этих следует беречь на развод. Кажется, он мало тебя интересует,– добавил он неожиданно.
– Молчаливый он, замкнутый.
– Застенчивый, молчаливый, замкнутый. Да поможет ему аллах.
– Почему?
– Странным делом занимаетесь вы, дервиши. Продаете слова, которые люди покупают из страха или по привычке. Он не хочет или не умеет продавать слова. Не умеет продавать и молчание. И талант. И его не интересует успех. Что же его тогда интересует?
Невозможно, трудно остановить Хасана, когда кто-нибудь привлечет его внимание. Часто это бывает без причины или по причине, которая важна только для него.
– Почему ты расспрашиваешь о нем?
– Я не расспрашиваю. Мы беседуем.
– Ты обладаешь странной способностью распознавать несчастных.
– Разве он несчастный?
Я рассказал ему все, что знал сам, или почти все, рассказал о равнине, о мальчугане, о его матери и, пока рассказывал, все отчетливее понимал, что этот юноша – жертва. Как и я. И я не знал, чьи страдания тяжелее: он узнал их в начале жизни, я – в конце. Я не сказал этого, но все сильнее и сильнее переживал это несчастье: я удваивал его, имея в виду и себя самого.
Хасан слушал, глядя в сторону, и не прерывал, взволнованность не помешала ему уловить суть.
– Кажется, ты только сейчас его понял. Надо было ему помочь.
– Он не принимает ничьей помощи, никого не подпускает к себе, никому не доверяет.
– Он доверится любви. Он был ребенком.
– Я любил его. Я и привел его сюда.
– Я не виню тебя. Все мы такие. Прячем любовь и тем душим ее. Мне жаль вас обоих.
Я понимал, что он имел в виду: он мог бы заменить мне брата. Но брата никто мне не сможет заменить. Я не помог Юсуфу! А кто помог мне?
Я говорил о себе, он слышал только его имя. Укрывшись за ним, я спрятал себя в тень. Потому ли, что Юсуф молод? Или потому, что во мне есть гордость и сила? Сильных не жалеют.
– А теперь? Как теперь? Вы оба молчите?
– В несчастье люди очень чувствительны. Мы можем причинить друг другу боль.
Не было смысла говорить о том, что трудно объяснить, о том, что я люблю память о равнине, но ненавижу холодную отчужденность Юсуфа, его хмурое молчание, убивающее надежду. Я упростил всю сложность ситуации, сказав полуправду, потому что, хоть мы и отошли друг от друга, связь между нами по-прежнему сильна, ведь нелегко уходить от того, кому ты помог и о кому тебя остались добрые воспоминания. Мы с Юсуфом почти как родственники, недоразумения между нами родственные, они всегда недалеки от любви.
– Существует и родственная ненависть,– улыбнулся Хасан.
Я не удивился. Слишком долго он был серьезным.
– До этого мы пока не дошли,– отшутился я.
С тех пор они стали встречаться чаще. Хасан приходил в текию или звал Юсуфа к себе домой. Они вместе ходили по делам Хасана, составляли договоры и занимались подсчетами, гуляли в сумерках вдоль реки. Молла Юсуф менялся на глазах: обаяние Хасана окутывало его, словно туманом. На лице его по-прежнему оставалось выражение потерянности, оно особенно отличало его от остальных, но он уже не был таким подавленным и унылым, как прежде. Будто возрождался тот далекий мальчуган, возрождался медленно, словно еще прикрытый тенью.
Он беспокоился, если Хасана не было, восторженно смотрел на него, когда тот появлялся, радовался его бодрости и дружескому участию, не уходил, как бывало, если Хасан и я начинали беседу, оставался с нами, почти позабыв о всякой осмотрительности, пользуясь правом, которое ему давала новая дружба. Хасана тоже радовала безмолвная привязанность юноши, сердечность, с которой тот его встречал.
А потом вдруг все переменилось. Слишком резко, слишком внезапно. Хасан перестал приходить в текию, не приглашал к себе больше Юсуфа, они больше не встречались.
– Что с Хасаном? – удивленно спрашивал я.
– Не знаю,– смущенно отвечал Юсуф.
– Давно не приходил?
– Уже пять дней.
Юсуф выглядел подавленным. Взгляд его снова стал неуверенным, тяжелая тень легла на лицо, которое начало было проясняться.
– Почему ты не сходишь к нему?
Он опустил голову и с трудом произнес:
– Я ходил. Меня не впустили.
Мне самому едва удалось повидать Хасана.
Маленькая женщина с рассеянным взглядом улыбалась, то ли о чем-то вспоминая, то ли чего-то ожидая, в волосах у нее был цветок, она принарядилась, умастила себя маслами – муж наверняка находился в счастливом заблуждении, что это ради него. Она опасливо впустила меня и попросила сказать, будто я нашел дверь незапертой: легче оправдаться тем, что позабыла запереть, нежели тем, что меня пустила. Три дня и три ночи Хасан не выходит, сказала она, и в голосе ее не было тревоги. Она все воспринимала легко.
Я нашел Хасана с друзьями в просторной гостиной. Они играли в кости.
Комната была не прибрана, клубы табачного дыма вились в полутьме, толстые шторы были спущены, горели свечи, хотя уже наступило утро, гости выглядели бледными, измученными. Возле каждого стояли медные чашки и бокалы. И лежали кучи денег.
Лицо Хасана было жестоким, угрюмым, почти злым.
Он удивленно, не пытаясь быть гостеприимным, посмотрел на меня. Я пожалел, что пришел.
– Мне хотелось поговорить с тобой.
– Я сейчас занят.
В руках он держал кубик из слоновой кости и, продолжая игру, кинул его.
– Садись, если хочешь.
– У меня нет времени.
– О чем ты хотел говорить?
– Неважно. В другой раз.
Я вышел оскорбленный. И удивленный. Что за человек? Пустозвон? Неверное апрельское солнышко? Ленивец, которого одолевают пороки?
Настроение у меня было испорчено, тяжело было думать о том, как люди переменчивы. Наговорят с три короба и тут же обо всем позабудут.
Когда я дошел до конца длинного коридора, Хасан окликнул меня из комнаты.
Впервые я видел его таким неряшливым, не заботившимся о своем внешнем виде. Словно это и не он. Глубоко запавшие глаза помутнели, потускнели от пьянства и бессонных ночей. Неважно выглядел он при свете.
Без улыбки смотрели мы друг на друга.
– Прости,– угрюмо произнес он.– Не вовремя ты пришел.
– Вижу.
– Тебе не вредно знать обо мне все.
– Ты не показывался у нас несколько дней. Я хотел узнать, что с тобой.
– Дела были. Кроме этих.
– Я пришел из-за Юсуфа тоже. Что-нибудь произошло? Он приходил к тебе, ты не впустил его в дом.
– Не всегда бывает настроение разговаривать.
– Он привык к тебе. Полюбил тебя.
– Полюбил? Это слишком. А привычка – пустяки. Ни в том, ни в другом я не виноват.
– Ты протянул ему руку, избавил от одиночества и бросил. Почему?
– Я ни к кому не могу привязываться навечно. И в этом мое несчастье. Стараюсь, но не получается. Что в этом удивительного?
– Я хотел бы знать причину.
– Причина во мне.
– Ну хорошо. Прости.
– Ты говорил, что любил его. Ты в этом уверен?
– Не знаю.
– Значит, нет. Зачем ты привел его, если не хотел принимать?
– Я его принял.
– Ты выполнял свой долг, ожидая от него благодарности. А он отчуждался и все больше укреплялся в ненависти.
– В ненависти? К кому?
– К каждому. Может быть, и к тебе.
– За что ему ненавидеть меня? – спросил я, растерявшись от одной только мысли об этом, хотя не раз задумывался, страшась ее.
– Ты должен был сделать его своим другом или прогнать. А так вы сплелись, словно две змеи, из которых каждая проглотила хвост другой.
– Я надеялся, тебе удастся то, что не получилось у меня.
– И мне бы хотелось, чтоб это сделал кто-то другой. Все думают одинаково. Поэтому мы ничего и не делаем. Не хватит ли на сегодня? Меня ждут.
Запах водки и табака исходил от него, он был груб и резок, готов к ссоре, неприятен.
– Это тебе Юсуф рассказал? – спросил я.
Он молча повернулся и ушел.
Хорошо, что я видел его и таким.
Хасан непоследователен. Хасан не знает, чего он хочет, или знает, но не может ничего сделать. Хасан полон добрых намерений, но он слабоволен, Хасан пытается, но ему не удается, и, может быть, беда его и заключается в этих безнадежных начинаниях, он строит мосты, по которым не ходят. Это проклятое его желание, оно не ослабевает и не сбывается. Он непрестанно ищет, ищет увлеченно, но быстро остывает, оставаясь неоплодотворенным. Мысль как бы влечет его, но сил у него не хватает. Это выглядит странным и огорчительным, не оттого, что он отказывается, но потому, что все время пытается начать заново. Значит, все заключается в нем самом, а не в другом.








