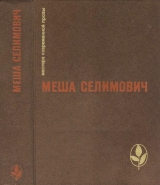
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Меша Селимович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 49 страниц)
– Значит, его убили! – взволнованно воскликнул Шехага.– Неужто и его?!
Неужто и его?! И сына, и друга. Тех, кого он любил больше всего в жизни, именно их убили. Ничего другого он не видел, ничто другое его не волновало.
Мне хотелось напомнить ему, что не только они погибли. Есть беды и кроме его бед. Мир полон несчастья и горя. Знаю, нас трогают лишь наши, но разве чужие беды не наши?
– Многих убили, и многих еще убьют,– сказал я, думая о Рамизе.
Но он словно не слышал меня. Прижав стиснутые кулаки к груди, точно надавливая на больное место, бледный, с искаженным лицом, он весь устремился к одной-единственной мысли.
– О злодеи! – сипел он сквозь зубы.– Я отплачу вам! Я найду убийцу. Весь мир переверну, а найду!
– Отомстить отомстишь, а хафиза Абдуллаха все равно не вернешь.
– Я умер бы от стыда, если бы забыл друга.
– Сделай что-нибудь более полезное. Молодого Рамиза убьют.
– Они всех честных людей поубивают. Самой лютой смерти им мало.
– Ты не спас сына. Спаси Рамиза.
Такого поворота он не ожидал. Да и я сам тоже.
Он остановился, с изумлением глядя на меня. Без всякого милосердия я ударил по его кровоточащей ране.
Он стиснул кулаки, подобрался, вот-вот кинется на меня. Как я осмелился сказать ему такое?
Но он не кинулся на меня. Что-то остановило его. Может быть, мысль, никогда раньше не приходившая ему в голову: в память о покойном сыне помочь кому-то живому. Мысль эта привела его в смятение; пожалуй, поначалу она показалась ему даже кощунственной, несовместимой с его яростью и ненавистью. Но просто отбросить ее он не мог.
То ли подумал о том, как было бы хорошо, если бы кто-то попытался спасти его сына. То ли в тумане растерянности вдруг увидел путь, следуя по которому он мог придать своим горьким воспоминаниям больше смысла.
Я рискнул разрешить его колебания.
– Погибнет невинный.
Он еще сопротивлялся.
– А мой сын был виноват?
– Потому и говорю. Тебе легче понять. У Рамиза отца нет, погиб на войне, одна мать. Разве она сумеет ему помочь?
– А как я помогу?
– Не знаю. Попроси вали освободить его.
– Не посмеет. Они боятся друг друга.
– Ну, тогда нет ему спасения!
– Мать, говоришь, у него. Что ж он о ней не подумал? Дети думают только о себе, о родителях не помнят.
– Побойся бога, Шехага, неужто даже мертвому сыну простить не можешь, что думал не так, как ты?
Этого он уже не стерпел, я поразил его в самое сердце – почему, понять не могу. Он закричал, глаза его налились кровью:
– Сукин сын! Что тебе от меня надо?
И тут же опустил голову, ломая пальцы. Потом тихо сказал, не глядя на меня:
– Ты не должен был этого говорить.
– Ради тебя говорю. Помирись с ним. Прими мертвого с печалью, а не с яростью. Молодые часто делают глупости, им хочется невозможного. Как твоему сыну, как Рамизу.
– Вы с ним друзья?
– Нет. Мы едва знакомы.
– Почему ты за него заступаешься?
– Потому что за него некому заступиться, потому что он один, потому что он честный человек.
– Тебе тоже нужна помощь, я думал, ты будешь говорить о себе.
– Мне грозит нищета, ему – смерть. Его участь горше.
– Боже мой, еще один безумец! У нас все, кто хоть чего-нибудь стоит, безумцы. И мой сын, и ты, и этот Рамиз.
– Потому безумец, что думает не о себе, а о других? И за это он должен умереть?
– Властям он нужен?
– Очень. Взбесили их его речи.
Вдруг на лице его появилось злорадное выражение:
– А что, если мы его выкрадем? Ведь сдохнут от ярости!
Вот те на! Только я подумал, что изгнал из него дьявола мести, а он опять за свое. От своего горя он признает одно лекарство – причинить горе другому.
– Да, не очень им это будет по душе,– согласился я, увидев неожиданную возможность спасти Рамиза. Шехагины резоны меня не касаются.
Удивительно, как внезапно он меняется: с лица уже сошло зловеще-мрачное выражение, он собран и решителен, тонкая усмешка в уголках рта выдает ликование, руки лежат спокойно одна подле другой, спина выпрямилась. Это новый Шехага, человек, замышляющий месть.
В такие минуты он наверняка забывает про свою боль. Но сейчас в его злорадных замыслах заключено не только мщение. Они помогут спасти человека.
Теперь Шехагу не остановить. Затронь я случайно в нем добрую струну, она прозвучала бы слабо и еле слышно.
Насколько зло живее и активней! Да поможет нам бог! Он хлопнул в ладоши, руки делали свое дело с готовностью, не мучаясь, не корчась.
Вошла молоденькая девушка.
– Кликни ко мне Османа!
Тут же вошел Осман, словно стоял под дверью, и, возможно, с этой самой молоденькой девушкой. У обоих глаза горели, как лампады.
Шехага потирал ожившие руки.
– Садись! Надо вызволить одного человека из крепости.
– Есть несколько способов,– не задумываясь ответил Осман.– Я за самый дорогой.
– Договорились,– отозвался Шехага.
И это все!
Осман Вук весело посмотрел на меня и спросил Шехагу:
– Молока принести?
– Потом.
Пора идти, дать им с глазу на глаз все обсудить. Я пробыл здесь дольше, чем рассчитывал, и гораздо дольше, чем предполагала Тияна.
Она спросит, для чего Шехага звал меня. А он и не звал.
Спросит, о чем мы говорили. Не обо мне.
Спросит, поможет ли? Ни он, ни я об этом даже не вспомнили.
Спросит, чему же я тогда радуюсь? И я не сумею объяснить ей, чему я радуюсь.
13. Похищение
Ночь в канун байрама была бурная.
Последний день поста Осман Вук сидел в трактире Зайко, трезвый, спокойный, почти торжественный. На сей раз трактир открыт и для прочих гостей (обычно по требованию Османа его закрывали), однако все знали: сегодня здесь гуляет Осман, празднует конец поста, окончание долгого рамазана, завтрашний байрам, да и просто, видно, пришла охота покутить, а причин Османовых кутежей никто не доискивался, слишком часто пришлось бы над ними голову ломать. Веселиться он умел, как никто другой, все поднимал вверх дном, разгоняя скучную застоялую тишину города. Отцы взрослых сыновей и мужья молодых жен теряли покой – сыновья выходили из повиновения, а молодые жены мучились бессонницей и, жалуясь на головную боль, далеко за полночь сидели у окон и вздыхали, за что многие получали всамделишную головную боль от нежного рукоприкладства мужей, считавших своим долгом на всякий случай выбить дурь из бабьих голов, всегда склонных к опасным мыслям.
Сеймены в эту пору старались не выпускать Османа из виду, ходили за ним как пришитые, с трепетом ожидая, что он еще выкинет. Но держались на расстоянии, остерегаясь его безудержного гнева.
К вечеру, уже в сумерках, в трактире приготовили стол с закусками и охлажденным вином. Хозяин трактира Зайко, важный, подтянутый, и двое слуг в праздничных одеяниях тихо и расторопно делали последние приготовления для этого бесшабашного богослужения, а старый цыган Камо, лучший в городе скрипач и певец, и его пятеро сыновей были уже наготове и подобострастно ели глазами Османа и его друзей – гуляк, игроков, скандалистов, шутов, пьяниц, главных дебоширов города.
Как только в крепости раздался пушечный выстрел, возвестивший конец поста, Осман поднялся, оскоромился, так сказать, кусочком хлеба и чаркой ракии, поздравил всех с праздником – бог знает, вспомнят ли они о нем завтра,– и пошло веселье.
Сеймены и ночные караульщики всю ночь кружили вокруг трактира, но оттуда доносились лишь песни, музыка, смех, крики, ни один человек за порог не вышел.
Все это мне рассказал Махмуд Неретляк, ночь напролет гулявший с Османом и его компанией; прикорнув утром на час-два, он вылетел из дома, желтый как лимон, но радостный и счастливый, словно сбылись все мечты его жизни. Он гулял с самим Османом Вуком! Об этом все должны знать.
Никогда не добраться бы ему до Османа и трактира Зайко – для него это все равно что попасть во дворец к паше,– если бы не счастливый случай. Осман Вук пришел звать меня, но зловеще сведенные брови Тияны убили во мне всякую охоту веселиться. «Никогда не ходил, не пойду и сейчас»,– утешал я себя, а что другое мне оставалось?
Махмуд слушал как зачарованный и наверняка думал, что я болван, который не знает и никогда не узнает, что такое настоящий кутеж, раз я отказываюсь от приглашения, которое каждый истинный мужчина непременно принял бы. Но я, видно, не истинный мужчина и потому предложил Осману вместо себя моего приятеля Махмуда, он, мол, знает толк в таких вещах, и в компании от него будет больше пользы, чем от меня.
Махмуд с благодарностью взглянул на меня и с надеждой – на Османа, трепеща, как девушка на смотринах – возьмут замуж или не возьмут, а когда Осман согласился, у него даже в горле заклокотало и дыхание перехватило от такой чести, но он быстро пришел в себя и с достоинством поблагодарил за приглашение.
Откровенно говоря, я удивился, что Осман его позвал, однако не это была моя главная забота. Я вышел с ним, чтобы спросить, не собирается ли он сегодня вызволить Рамиза – ночь больно подходящая, все гуляют. Он улыбнулся:
– Я тоже гуляю!
Я остался стоять в растерянности, а Осман, хохоча во все горло, ушел.
На следующий день Махмуд рассказывал, что пьянка удалась на славу: и то сказать, для такого дела нужны настоящие люди! Удальцы, право слово, все как на подбор, особенно Осман, да и его, Махмуда, не зря позвали. Он им показал, как надо пить – медленно, долгими глотками, покатав ракию на языке, а не опрокидывать в горло залпом: это слишком просто и долго не продержаться. Правда, потом и он пил залпом и хлебал ракию из тарелки, но это уже на заре, когда все напились до беспамятства, кроме Османа, конечно. Махмуд и скрипачей научил, как следует играть – тихо, благородно, чтоб за двери музыка не выходила, а пробирала до сердца, чтоб горло сжимало, а ты и понять не мог, с чего бы это. Осман Вук отдал ему должное, сам признал, что с Махмудом веселее пир пировать, и все обнимал его, словно родного брата или лучшего друга. Да Осман Вук [13]13
Волк (сербскохорв.).
[Закрыть] не волк вовсе, а истинный лев, он может все, что могут другие, зато другие могут далеко не все, что может он. С ним не соскучишься: лихой, веселый, мужественный. У Махмуда челюсти заболели от смеха и удивления; умри он вчера, и не узнал бы, какие люди на свете есть. Осман самый веселый, самый занятный, самый лучший, умный, храбрый человек из всех, кого он встречал в своей жизни. Никаким даром не обделила его судьба! Играл на домре, а Рамо пел, потом он пел, а Рамо играл, затем плясал какой-то черкесский танец – ничего лучше Махмуд в жизни не видел, потом – румынский с Зайко. Незадолго до полуночи явились какие-то неотесанные чурбаны и давай портить веселье, требовать, чтоб Рамо играл для них, чтоб прекратили пляску. Осман им и так и эдак объясняет: сидите, мол, и пейте, не портите нам праздник, и мы вам мешать не станем. А они и слушать не хотят и нахально так отвечают: «Мы, мол, давно опекуна похоронили. Не нравится – скатертью дорожка» – и все такое прочее, слушать – с души воротит, ну, думаю, что-то будет. Но с Османом шутки плохи. Он тихонько встает и вразвалочку, не спеша, словно торопиться ему некуда, подходит к одному чурбану – даром что тот ростом под потолок, еле в дверь протиснулся,– дал ему по правой щеке, дал по левой, да наотмашь, изо всей силы, у того колени и подкосились. Осман подошел к другому, надавал и ему оплеух, у бедняги голова знай мотается из стороны в сторону и вовсе слетела бы с плеч долой, если б на шее не держалась, рука у Османа что твоя палица, тот уж и не знает, на каком он свете. Потом Осман приказал открыть двери и выставил обоих, велев на глаза не показываться, покуда живы. Те втянули головы в плечи, словно нашкодившие мальчишки, и давай бог ноги. А Осман вернулся к застолью и как ни в чем не бывало спросил:
– Ну, на чем мы остановились?
Тут Мухарем Пево на радостях заказал музыкантам песню и сунул было руку в карман за деньгами. Осман глаза выпучил, а из них прямо пламя пышет – смотреть страшно, кровь в жилах стынет, но через минуту снова будто солнышко проглянуло, и он сказал Пево:
– Ты сегодня в карман не лезь!
А сколько он заплатил Зайко, сколько заплатил музыкантам, слугам, одному ему ведомо, платил с глазу на глаз, по-благородному, только, видно, деньги огромные, так уж они все на него смотрели, улыбались, кланялись, готовы были три дня и три ночи не присесть, чтоб ему услужить. Но как только муэдзин стал сзывать на утреннюю молитву, Осман поднялся и сказал:
– Счастливого вам байрама, братья! И спасибо, что оказали мне честь встретить праздник как подобает.
И трезвый как стеклышко, будто и не пил ночь напролет, простился с Зайко, музыкантам велел не провожать далеко, праздник, мол, байрам, люди уже идут на молитву, не надо им мешать. Проводили музыканты Османа и его друзей до моста, на мосту сыграли последнюю песню, прохожие останавливались, а он прижимал руки к груди, кланялся и поздравлял их с праздником. Потом со всеми перецеловался, и с Махмудом тоже, двукратно, в обе щеки, и пошел домой. От волнения Махмуд не мог заснуть, вылил на голову два ведра воды, чтобы прийти в себя от ракии и от счастья, и долго после этого рассказывал об Османе и о незабываемой ночи, проведенной с ним.
Не очень-то это походило на Османа Вука, правда, мне не доводилось видеть его кутежи, но сдержанность и уравновешенность совсем не в его характере и обычаях. Или Махмуд что-то переврал, или я ровно ничего не знаю об Османе Вуке.
Лишь когда я услышал, что́ произошло той ночью в крепости, я начал кое-что понимать.
А в ту самую ночь, накануне байрама, из крепости похитили и увезли Рамиза.
После яции несколько всадников подскакали к воротам крепости, громко ударили кольцом и приказали караульному позвать коменданта – привезли, мол, важное распоряжение вали. Комендант вышел к воротам, ему показали письмо, и он впустил двоих в крепость, прочие же остались ждать за закрытыми воротами.
Что случилось потом, никто точно не знал, и об этом можно было только строить догадки, чем и занимались даже участники и свидетели происшедшего. Двое незнакомцев набросились на коменданта в его башне, хватили алебардой по голове и истекающего кровью оставили лежать на полу. Ключаря скрутили в караульном помещении у входа в подземелье. Потом вернулись к воротам, будто собрались уходить, караульный открыл им ворота, и не успел он обернуться, как тоже получил алебардой по голове. Он-то первым и очнулся – то ли потому, что был моложе, то ли голова оказалась крепче, то ли стукнули его не так сильно,– запер распахнутые ворота, поднял тревогу, разбудил стражников, те нашли ключаря, который хоть и пришел в себя, но понятия не имел, что с ним случилось, и сильнее всех пострадавшего коменданта. Коменданта долго не могли привести в чувство, поливали водой, растирали, и все впустую, пока наконец не догадались поднести под нос ракию и немного влить в рот – тут к нему вернулось сознание, но подняться он так и не сумел. На голове был большущий желвак, его тошнило, в теле слабость, в голове туман.
Рамиз из крепости исчез. Наступивший байрам запомнился людям этим событием.
Всюду говорили только о похищении, одни восприняли это как чудо, другие – как конец света, третьи – как геройский подвиг. Пронесся слух, что это сделал Бечир Тоска со своими гайдуками, другие утверждали, что это дело рук дервишей Хамзевийского ордена, третьи просто диву давались, потому что Рамиз был первым заключенным, похищенным из крепости. Одним это дало повод думать, что люди стали хуже, другим – что люди стали храбрее. Наверное, и то и другое было правдой.
Власти заволновались. Позор! Бандиты беспрепятственно проникли в крепость, но еще хуже то, что о преступлении Рамиза успели известить не только вали, но и Порту. Как теперь доложить об исчезновении преступника? Что же это за крепость такая, что это за стража, что это за власти?
Допрашивали коменданта и крепостной гарнизон, однако они знали ровно столько, сколько сказали сразу и сколько знал уже весь город. Комендант, еле ворочая языком от боли в голове, показал, что письмо в самом деле было от вали и с его печатью. Он, правда, письма не дочитал до конца, потому что злодеи ударили его по голове. Помнит только начало: «Почтенному коменданту…» – и больше ничего, а лучше бы ему и того не помнить. Ему принесли письмо, которое дерзкие бандиты оставили в его башне, и спросили, как он мог принять его всерьез, когда и слепому ясно, что печать подделана, и даже не очень умело, на что комендант ответил, что сейчас и он это видит, а тогда не видел, потому что не сомневался, да и свет был слабый.
Было известно, что власти спрашивали коменданта, почему он впустил незнакомых людей в крепость, почему не оставил их ждать за воротами, а письмо (в нем содержалось требование выдать Рамиза) не прочитал в своей башне. Он отвечал, что злодеи были одеты как сеймены – это подтвердили и остальные – и они хотели дать какие-то еще устные наставления; к тому же его ввело в заблуждение то, что они приказали закрыть ворота, пока будут в крепости. И разве мог он подумать что-нибудь плохое, когда их было всего двое, а в крепости десятеро вооруженных стражников, не считая его самого. Но больше всего обманула его непостижимая наглость этих людей. «Больше всего тебя обманула собственная глупость»,– любезно заметили ему.
Так никто ничего толком и не узнал. И я в том числе, хоть мне и было известно, откуда все пошло. Но дальше был полный мрак.
Когда я пришел к Шехаге поздравить его с байрамом, я спросил, где укрыли Рамиза.
Он взглянул на меня неприязненно, как на врага, и презрительно, как на дурака.
– Откуда мне знать? Почему ты меня спрашиваешь?
Я понял, что я и правда глуп как пробка, мне ли тягаться с ними!
Я не полез бы спрашивать Шехагу, если бы Осман Вук не избегал меня как прокаженного, словно мы с ним ни разу в жизни не встречались или ему наговорили про меня всяких ужасов.
До всего пришлось доходить своим умом. Ладно, Шехага дал деньги, а Осман нанял людей, кто знает кого – старых солдат, храбрых, но нищих, или лесных гайдуков, или бандитов, которые ни перед чем не остановятся, когда речь идет о деньгах. Потом он устроил пирушку в корчме Зайко, созвал гостей, пригласил музыкантов, был там и Махмуд, который разнес все подробности гулянки, сеймены ночь напролет кружили вокруг трактира, заглядывали внутрь, им подносили чарки, ночные караульщики тоже не проходили мимо; пьяницы, бродяги – все могли подтвердить, что Осман не выходил из трактира с заката солнца до рассвета, и снять с него и тень подозрения, если бы кому взбрело в голову заподозрить его.
Но кого он подкупил в крепости? Караульного? Нет, от него мало что зависит, и в ту ночь он вообще мог не оказаться у ворот, а если бы и был, не рискнул бы открыть ворота без разрешения коменданта. Нет, видно, удар по голове он получил задаром.
Тогда коменданта? Нищенское жалованье и докучливая служба наверняка осточертели старому служаке, и, наверное, он был готов пойти на все, если бы приличное вознаграждение позволило ему освободиться от крепости, где жизнь его мало чем отличалась от жизни заключенных, а то и жениться по примеру прочих людей, чего до сих пор он не мог себе позволить. Ему не было надобности знать людей, нагрянувших в крепость, и он, разумеется, говорил совершенно искренне, что видел их впервые. Договариваясь с Османом, он, вероятно, высказывал пожелание, чтоб похищение выглядело как можно достовернее, и согласился, а скорее всего, сам потребовал, чтоб похитители его стукнули не слишком сильно, но так, чтоб это послужило ему оправданием. Но тогда почему ему нанесли такой зверский удар? То ли они иначе не умеют, то ли стремились к вящей убедительности, а может, заплатили ему старый долг, только комендант едва жив остался; знай он, как тяжела рука злодеев, глядишь, и не пошел бы на такое дело. А может, и пошел бы – многого ли стоит здоровенный желвак и головная боль по сравнению с благополучием, купленным такой ценой. Думаю, он получил от Османа столько, сколько не заработал за всю свою жизнь, а для него уже пришла пора понять, что честным трудом не разбогатеешь. Правда, когда он, пролежав целую неделю, встал с постели, голова болела, как в сырой, пасмурный день. Болела она и когда он начинал думать. Но зато перестала болеть из-за многих других вещей, гораздо более важных. От раздумий он легко отказался, тем более что и нужды особой в них не было, да к тому же скоро сообразил, что раздумья никогда ни к чему хорошему не приводили. Спустя несколько месяцев он вышел в отставку – умер его дядюшка, оставивший ему, как он утверждал, наследство, хотя всем показался странным этот дядька, так ловко скрывавший, что у него есть что оставить. Но кто присягнет, что ему все про всех известно? Комендант купил именье у Козьего моста, женился на молодой бездетной вдове и, обрабатывая тощую землю и во всем опираясь на плодовитую жену, нажил небольшое состояние и множество детей. Прикладывая ломтики сырого картофеля ко лбу, когда в память о той счастливой ночи у него начинала болеть голова, он благодарил бога, что судьба наконец проявила к нему благосклонность и вознаградила за долголетнюю честную службу стране и султану.
Тияна во дворе услышала о побеге Рамиза, и я рассказал ей все, что знал. Она сразу встревожилась:
– А тебя не впутают?
– Кто станет меня впутывать? Я-то здесь при чем? И как можно меня впутать? Я понятия не имею, как это произошло.
– Ты уверен, что тебе ничего не будет?
– Уверен. Эту игру ведут люди побольше нас.
– Большие играют, маленькие слезы льют.
– На этот раз ты не права.
– Дай-то бог. Ты уж никому не рассказывай то, что знаешь.
– Дурак я, что ли!
Тут она вспомнила про Османа Вука и пустилась в рассуждения:
– Он и по виду настоящий гайдук! Такое только он мог сделать.
Меня смутили ее слова, надо было немедленно отвести от Османа подозрение.
– Что-то пришелся тебе по вкусу этот гайдук. А все потому, что назвал тебя красавицей.
– Оставь. Не говори глупости.
– Он это каждой женщине говорит.
– Мне-то что за дело!
– А побег устроил не он. Он ночь напролет пил.
– Мог выйти и вернуться.
– Он из корчмы шагу не ступил до самой зари.
– Кто ж тогда?
– Не знаю.
Не он похитил Рамиза из крепости, но все выполнено по его замыслу. Говорить ей это мне не хотелось, меня задело ее восторженное отношение к Осману, пусть и справедливое. Он делает что хочет, берет от жизни все, что ему нравится, он достаточно умен, чтоб все рассчитать как следует, и достаточно легкомыслен, чтоб не задумываться о причинах и следствиях. Если бы похищение не удалось и его люди погибли, его нисколько бы это не взволновало. Он думает только о себе. Жизнь для него – радость, наслаждение, занятное приключение. Он как ветер, как полуденное солнце, как весенний дождь, делает свое, живет, как живет природа, ни на кого не оглядываясь, люди получают от него, что могут и что он позволяет, а он знай идет своим путем, который никуда не ведет. Ему неведомы мечты и грезы, он твердо стоит на земле, пользуясь всеми ее благами, он не мечтает, а берет, не обороняется, а нападает.
Однако почему он освободил Рамиза?
Он придумал, как это сделать, устроил себе прочный заслон из сотни пар глаз, сознательно направив их в ту ночь на себя, и все произошло согласно его воле. Никому ничего и в голову не могло прийти, он с Рамизом и знаком не был, зачем ему было подвергать себя опасности?
А предприятие и впрямь было опасное. Если бы похитителей поймали, его роль непременно открылась бы, и тогда ему не помог бы и Шехага.
Почему он сделал это? Корысти ему никакой, Рамиз сам по себе его не волнует, да я и не верю, что он способен на какую-либо жертву. Поступает он, как ему заблагорассудится, слушается лишь своих желаний. Возможно, его толкнуло на это чистое упрямство, мятежный дух, жажда необычного и рискованного, желание посмеяться над смятением преследователей, устремившихся по ложному следу. Или вообще лишить их малейшего следа, оставить во мраке неведения, словно похищение было совершено не людьми, а бесплотными духами.
Мне было кое-что известно о героях, трусах, мошенниках, злодеях, мечтателях, малодушных чиновниках, тщеславных писарях, но об этом городском гайдуке я не знал ровным счетом ничего. Любое предположение, касающееся его, не отличалось ни полнотой, ни убедительностью и всякий раз могло быть опровергнуто другим.
В первое утро байрама я проснулся поздно, ночью долго ворочался без сна, слушая пьяные песни пекарей внизу и гул ветра с Требевича. Сна лишили меня Рамиз и Осман. Я не сомневался: Осман морочил мне голову, говоря, что собирается этой ночью как следует покутить. Начнет пиршество, а потом ненадолго оставит собутыльников, чтоб выполнить порученное ему Шехагой дело. Вернется, дружки подтвердят, что он не отлучался. Так, собственно, думала и Тияна.
Гадая, когда Осман мог появиться перед крепостными воротами, и воображая сотни препятствий на его пути, я все время отодвигал эту минуту. Вот сейчас! Но тут на улице раздавались голоса, песни и вынуждали меня снова оттягивать время. В полночь я услышал призыв муэдзина с Беговой мечети. Призывал к молению Салих Табакович, призывал не в урочный час и неизвестно кого, выкрикивал слова как-то необычно, словно жаловался в темной ночи на свой страх и одиночество. Выл как собака от ужаса, ведомого только ему одному, и делал это много раз в году, как Шехага пил, напоминая людям о несчастьях, о тщете жизни, о смерти. Этот жуткий крик, стонущий ветер, налетавший порывами, делали предпраздничную ночь непохожей на другие и придавали ей особый смысл. Сейчас самая пора – полночь, ветер, тьма, пустынные улицы, страх, заливший город. Ударит Осман кольцом по тяжелым воротам? Я обмер от этого воображаемого звука, единственного, произведенного рукой человека в это мгновение ночи. Предупрежден караульный о его приходе или его могут схватить?
В моем полудремотном мозгу начал возникать запутанный клубок опасностей – топот ног, крики, тревога, геройство, однако из всего этого клубка, который я не решался до конца распутывать, Осман и Рамиз каким-то образом выбирались, исчезали в ночи, мчась на конях, плывя на облаках, утопая во тьме.
И я снова возвращался к началу. Караульный поднял тревогу, прежде чем Осман успел что-либо сделать, в крепости зажглись огни, в городе одинокий человек кричал в черное небо о своем страхе, а я, счастливый, погружался в сон, унося с собой с этого света лишь тени двух смелых всадников.
Проснувшись, я вспомнил, что Осман ничего не сделал для спасения Рамиза, предпочел провести эту ночь в пьяном веселье. И тут же узнал, что похищение свершилось!
Только мы позавтракали, пришел Махмуд. Он не знал ни о Рамизе, ни о его побеге из крепости, да и не очень взволновался, когда мы ему об этом сказали. Его занимало более важное. И прежде всего пирушка в корчме Зайко. Выходил Осман ночью? Нет, никуда он не выходил. Зачем ему было выходить?
Я совсем растерялся. Всю ночь я продрожал за Османа, а он, оказывается, всю ночь просидел себе в корчме! Жалко, Тияна не слышала, она как раз вышла, чтоб принять праздничные гостинцы, которые принесли в двух корзинах слуги Шехаги. Корзины она вернула, подносы оставила.
– Шехага прислал,– сказала она, смущенная, видимо, неожиданным вниманием.
Махмуд растроганно кивнул головой, хотя и это его нимало не взволновало.
– Наверняка Осман вспомнил,– заметил он и продолжил свой рассказ все о том же Османе – какой это человек, какой друг, ведь несколько раз повторил, как ему приятно познакомиться с Махмудом, как они целовались на прощанье – в обе щеки, в обе!
Но, рассказывая и без конца возвращаясь к тому, что уже говорил, он мало-помалу становился все тише и словно бы печальнее. Во взгляде появилась задумчивость, голос сник.
– Ты что, устал? – спросил я его.– Или чем расстроен?
– Расстроен? Что ты! С чего мне расстраиваться?
– После такого веселья не мудрено и взгрустнуть.
– Да, но мне нечего грустить.
Даже и улыбнулся, показывая, в каком он хорошем расположении духа, и тут же, без всякого перехода, сказал, что сегодня утром пошел к Осману поздравить его с байрамом, а слуги не пустили.
– Скажите Осману, что пришел Махмуд Неретляк,– велел он им.
Один из слуг пошел и скоро вернулся.
– Нет Османа,– говорит.
– Как нет? Я слышу его голос!
– Нет его, нет дома.
– Ах вы наглецы, такие-разэтакие,– осердясь, набросился он на них.– Все расскажу Осману, вот увидите. Пусть знает, что у него за слуги! Лучших друзей не пускают!
Что проку, все равно не пустили. Да еще усмехались, стервецы!
Он долго вышагивал перед воротами, все ждал, вот Осман выйдет – и он с ним увидится, закоченел от холода, но так и не дождался.
Люди приходили с поздравлениями, слуги встречали их, прижав руки к груди, он слышал голос Османа, а повидаться с ним не смог.
Сунулся еще раз. Прогнали.
Так и ушел несолоно хлебавши, раздосадованный наглостью слуг.
Неприятно, Осман сочтет его невеждой, решит, что он позабыл друга, а что он может, разве он виноват? Придется объяснить ему, извиниться, авось не рассердится.
Значит, я не ошибся, он в самом деле расстроен.
Не понимает, что его сам Осман прогнал. Не хочет понимать.
Неужто он до могилы останется ребенком и будет грезить о дружбе с людьми, которые не снисходят до таких, как он? Мы его не устраиваем, своей нищетой мы постоянно напоминаем ему о его собственной бедности. О дружбе с блестящим Османом, хозяином жизни, до вчерашнего дня он мог только мечтать. Вчера они стали приятелями. Что произошло утром? Он проверял свою память и убедился: все было на самом деле, он ничего не выдумал, ему ничего не примерещилось. Осман и впрямь обнимал его, называл приятелем, расцеловал в обе щеки. А утром слуги не пустили его поздравить приятеля с праздником, обидели его, и все из зависти, злобы и ненависти, которые слуги питают к любому.
Осман здесь не виноват.
Для человека, сохранившего хоть каплю здравого разума, все было бы ясно с самого начала, и, будь у него малейшее чувство собственного достоинства, он послал бы Османа ко всем чертям. Но Махмуд в плену своих призрачных грез, своего желания, чтоб все было так, как ему хочется. И ему важно сохранить не достоинство, а дружбу.
И надо же было ему нарваться на Османа, который очаровывает людей, использует их и отбрасывает, чуть только пропадает в них нужда!
Осман – холодная скала, Махмуд – кот с перебитым хребтом, жаждущий тепла. Один не помнит, другой не забывает. Одному безразлично, другому – мука.
Что сказать ему? Дурень, приди в себя! Или: бедняга, забудь!
Смешон он и жалок, и не знаешь, то ли отругать его, то ли пожалеть.
– Лишь бы Осман не рассердился,– озабоченно повторил он.
Ушел он вроде веселый, но меня не обманешь: грызет его сомнение, как бы он ни старался его подавить.








