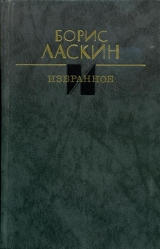
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Борис Ласкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 43 страниц)
Трудно сказать, где они познакомились. Вероятней всего, в какой-нибудь очередной командировке.
Братья Клюевы и Тархунский работали в разных организациях, но их объединяла общая профессия. Все трое именовались «толкачами».
Изобретатель этой странной профессии не оставил следа в истории, благоразумно пожелав остаться неизвестным, но самое изобретение оказалось удивительно живучим.
Мы просим любезного читателя представить себя в роли директора предприятия.
Предприятие ждет не дождется груза из пункта Н. Однако в пункте Н. с отправкой груза не торопятся. И здесь на сцене появляется «толкач». С долгосрочной командировкой в кармане «толкач» отбывает в пункт Н., имея целью: подтолкнуть, поднажать, провернуть, продвинуть.
Дальнейший успех операции зависит исключительно от способностей «толкача».
Здесь мы вынуждены приоткрыть завесу над отдельными моментами личной жизни командированных «толкачей».
Обладая большим количеством свободного времени, «толкачи» распоряжаются таковым по-разному. Одни, имеющие тяготение к культуре, посещают театры, стадионы и концертные залы. Другие же (меньшая часть), пользуясь свободным временем, совершают переезды в низменных, точнее сказать, в корыстных целях.
Лица, упомянутые в начале нашего повествования, относились ко второй группе.
Занесенные командировкой в некий благодатный городок, братья Клюевы и Тархунский совещались в тесном гостиничном номере.
– Друзья, – сказал Тархунский, – пункт Н. задыхается без чайной посуды. Этому же пункту необходима мануфактура. Габардин и сервизы мы отгрузим отсюда и отправим, скажем, в…
– Минуточку, – сказал Клюев-старший, – интересно, как мы это будем грузить?
– Погрузим нормально.
– Нормально?.. Патефонные пластинки мы уже грузили нормально. А что было потом?
– Да… – вздохнул Тархунский.
История с пластинками еще жила в его памяти. При проверке железнодорожники обнаружили в поклаже братьев Клюевых и Тархунского три сотни пластинок одного наименования. Попытка объяснить сие страстной любовью к музыке вообще и к данной мелодии в частности успеха не имела. Пластинки были изъяты, и меломаны чудом избежали возмездия.
– Как же мы будем грузить товар? – повторил вопрос Клюев-старший.
– А если «подмазать» багажную инспекцию? – грубо предложил Клюев-младший.
– Это не выход, – сказал Тархунский. – Забыл, что случилось, когда ты пытался сунуть багажному работнику в Сызрани флакон одеколона? А?..
– Да, – горестно усмехнулся Клюев-младший. – Было довольно неприятно…
– Что же нам делать? – спросил Клюев-старший, отличавшийся скудостью фантазии.
– Греют сейчас за спекуляцию, – скорбно заметил Клюев-младший, – просто кошмар!..
– Не надо ставить точки над «и», – сказал Тархунский. – Я придумал. Братья, мог у вас быть дядя?
– При чем здесь дядя?
– Мог ваш дядя скоропостижно скончаться? Мог!.. Так повезем вашего покойного дядю хоронить на родину.
– Что-то я ничего не пойму, – сказал Клюев-старший.
– А, я все понял, – сказал Клюев-младший. – Здорово придумано. – Он подмигнул Тархунскому, глаза которого горели неистовым огнем.
– Решено! – властно сказал Тархунский. – Повезем хоронить вашего покойного дядю.
– А почему именно нашего? – осторожно спросил Клюев-старший. – Может быть, лучше твоего? – добавил он, разобравшись наконец в хитроумной комбинации Тархунского и надеясь свалить всю ответственность на плечи инициатора.
– Один сирота – пустяк, а двое – это уже большое горе. Даже железнодорожники – и те плакать будут.
– Ну, кто будет плакать, это пока неизвестно, – неуверенно сказал Клюев-младший, – но все же покойный дядя, я считаю, должен пройти.
На следующее утро на вокзале появилась скорбная процессия. Братья Клюевы несли большой гроб. Они сгибались от усилий, и человеку со стороны было трудно понять, что больше тяготит несчастных: тяжесть праха или горечь утраты? За гробом с венком шел печальный Тархунский. Венок украшала муаровая лента с трогательной надписью:
«Спи спокойно, дорогой дядя! Мы вечно будем тебя помнить. Спи спокойно. Наша любовь с тобой. Спи спокойно».
Назойливое повторение фразы «спи спокойно» свидетельствовало, с одной стороны, о явном беспокойстве осиротевших братьев, а с другой стороны – об отмеченной уже нами скудной фантазии Клюева-старшего, который являлся автором эпитафии.
Когда процессия подошла к товарному вагону, Тархунский взглянул на гроб и вздрогнул.
– Степа, – тихо сказал он Клюеву-старшему, – интересно, кто это написал?
Братья опустили драгоценную ношу. На боковой стенке гроба рукой Степана Клюева было написано: «Не кантовать», – а на крышке начертано: «Верх». Это являлось явной перестраховкой, так как вряд ли кому-нибудь могла прийти в голову сумасбродная мысль ставить прах «на попа».
Тархунский не стал ждать объяснений и прикрыл надпись венком.
Гроб установили в товарном вагоне. Весь день и всю ночь несли бессменную вахту у гроба «осиротевшие» братья.
Тархунский находился в соседнем вагоне. На одной из стоянок он вдруг услышал пение. Клюев-старший проникновенно вопрошал:
– «Где ж вы, где ж вы, очи карие?..»
Тархунскому пришлось срочно вмешаться и пресечь кощунственное песнопение, попутно объяснив удивленному проводнику, что горе по поводу тяжелой утраты помутило разум старшего из сирот.
На станции назначения дверь вагона открыли и гроб вынесли на платформу. Горе братьев не поддавалось описанию. Вспышка родственной скорби была особенно шумной, когда у гроба остановился человек в железнодорожной форме, лицо которого показалось Тархунскому знакомым.
«Где-то я его видел или он меня?» – подумал Тархунский.
Железнодорожник ознакомился с надписью на ленте и снял фуражку.
– Молодой человек был? – спросил он с участием.
– Безвременно скончался, – грустно сказал Тархунский.
– Девяносто лет, – бухнул Клюев-старший и, поняв, что дал маху, на всякий случай заплакал.
– Отчего умер? – спросил железнодорожник, надевая фуражку.
– От гриппа, – сообщил Тархунский.
Железнодорожник покачал головой и, удивившись размерам гроба, спросил:
– Видать, крупной был комплекции?
– Гигант, – уверенно сказал Тархунский, вспомнив о тяжести гроба, – богатырь.
– Понятно, – сказал железнодорожник, – понятно… – Он вдруг наклонился и, багровея от усилий, приподнял гроб. – Тяжелый дядя, – сказал он, и в глазах его сверкнули холодные огоньки.
– А у него под конец водянка была, – пояснил Тархунский. – Страшно мучился парень.
– Какой парень?
– Дядя, – пролепетал Тархунский, чувствуя близость катастрофы, – мы его в шутку парнем звали, до того был молод душой…
– Понимаю, – сухо сказал железнодорожник, – вы его племянник будете?
– Нет, племянники они. Я так, – сказал Тархунский, не глядя в глаза братьям, – дальний родственник.
– Попрошу покойничка на весы, – сказал железнодорожник.
– Как? Как вы можете так обращаться с прахом? – возмутился Тархунский.
Говорить приходилось ему одному, так как перспектива вторично потерять дядю на этот раз уже окончательно лишила братьев дара речи.
В багажную кладовую гроб доставили веселые носильщики. Не выдержав душевных потрясений, братья были уже не в силах нести драгоценный прах.
Изъятие останков состоялось через четверть часа.
Братья Клюевы проследовали в транспортное отделение милиции.
А в багажной кладовой сидел одинокий Тархунский и тихо плакал над гробом.
Гроб был пуст.
1947
ГЛАВНАЯ РАДОСТЬОна очень мало знала его. И было трудно понять, успела ли она его полюбить. Услышав о том, что он едет на войну, она захлопала в ладоши и сказала:
– Киса… Баба…
Он не ждал объяснений и длинных фраз и не стал упрекать ее в легкомыслии. У него не было времени.
В сорок первом ей исполнилось два года. А ему было уже двадцать шесть.
…В золотой осенний день сорок пятого года Зоя появилась во дворе. Она была так взволнована, что не стала даже прыгать через веревочку, а прошла прямо в садик, где обычно собиралась вся компания.
И Зоя сказала:
– Девочки, ребята, слушайте, чего я скажу. Мой папа приезжает…
Алешка с интересом посмотрел на Зою.
– Это хорошо. А чего он тебе привезет?
Вопрос был задан неспроста, ибо не далее как месяц назад Алешка получил в подарок от приехавшего отца роскошный аккордеон. И теперь Алешка почти не расставался с подарком. Играть он, разумеется, не умел, но зато здорово делал вид, что собирается играть. Он садился, накидывал на плечо ремень и обращался к галдевшей от нетерпения аудитории:
– А потише никак нельзя?
Тогда наступала тишина, и Алешка брал аккорд. По мелодичности этот звук мог сравниться лишь с визгом трамвайных колес на крутом повороте. Все с трепетом ждали продолжения мелодии. Но продолжения обычно не было. Алешка снимал аккордеон и печально говорил:
– Раз вы музыку не понимаете и шумите, я играть не буду.
Затем он резво относил аккордеон домой и возвращался повеселевшим и отряхнувшим с плеч непосильный груз ответственности за сохранность своего перламутрового чуда.
– Чего же он тебе привезет? – повторил вопрос Алешка.
– А я не знаю, – ответила Зоя.
– Он тебе губную гармошку привезет, – заявил Светик, пятилетний сын инженера Макарова, немыслимый фантазер и задира. У Светика папа на фронте не был, и он выдумал какого-то дядю Васю, который провоевал всю войну «в столице Вены Австрии».
– А почему губную гармошку? – спросила Зоя.
– А чего ж он тебе привезет? Вот мой дядя Вася мне письмо написал, что он мне знаешь чего привезет?..
– Чего?
– Знаешь чего?.. – Светик лихорадочно придумывал для себя подарок.. – Он мне, знаешь, он мне привезет…
– Ну и пожалуйста, – перебила Зоя.
– А твой папа – офицер? – спросила Наташа Белкина.
– Ага. Он майор.
– А мой папа – капитан. Нам Зинаида Павловна сказала, что мы все должны гордиться нашим папой, потому что он воин.
– А ты уже гордилась?
– Ага.
– Когда мой папа приедет, приходи ко мне гордиться. Ладно?
– Ладно. Мы сперва у тебя погордимся, а потом к нам пойдем.
– А мой дядя Вася, – начал Светик, – знаешь кто? Он генерал старший лейтенант. Вот он кто!
– Ты только давай не болтай, – усмехнулся Алешка, – таких не бывает.
– У тебя не бывает, а у дяди Васи бывает.
– Ну, ладно. Довольно глупости говорить, – сказал Алешка. – Зоя, вот когда папа приедет, ты чего ему скажешь?
– Я скажу: здравствуй, папа!
– А еще чего?
– А больше я не знаю.
– Ну вот, давай, я как будто твой папа. Как будто я приехал. А ты меня встречай и говори. Ладно?
Алешка куда-то ушел и вскоре вернулся с деревянным автоматом на плече.
– Здравствуй, дочка Зоя! – сказал он басом.
– Здравствуй, папа. С приездом!
– Спасибо.
– На здоровье.
– Ну, как ты здесь в тылу жила?
– А я не в тылу, я дома жила.
– Это хорошо, – сказал Алешка, сворачивая козью ножку и начиняя ее песком. – Ну, а вообще как живешь?
– Хорошо. Я маме помогаю, Алешка. Я сама сплю.
– Он не Алешка. Он теперь твой папа, – напомнил Светик.
– Светик, не мешай, – сказала Наташа Белкина.
– А как ты, папа, живешь? – спросила Зоя.
– Ничего. Хорошо. Разбил всех захватчиков и вернулся…
– С приездом, папа!
– Это ты уже один раз говорила.
– Ты у него спроси, Зойка, как он воевал, – не без ехидства предложил Светик.
– Папа, ты как воевал?
– Неплохо воевал. На «отлично». – Алешка затянулся из козьей ножки. – Я за вас там дрался, малыши.
– А вчера ты за кого дрался, когда тебе от мамы попало? – спросил Светик.
– Светик, не мешай.
– Еще слово скажешь, – кивнул Алешка, – и я тебе…
– Ладно, я не буду, папа! – испуганно прошептал Светик.
– Воевали мы неплохо, – продолжал Алешка. – Как-то лег на курс. Утром встаю, вижу: три «мессера». Ну, я – раз! И всех сбил.
– С ног? – спросил Светик.
– Скажи, скажи еще слово!
– Папа! – Зоя поправила пальтишко. – Мама сказала, что ты можешь приехать с минуты на минуту. Почему ты только на минуту можешь приехать? Тебе обратно надо на войну, да?
– Нет, дочка Зоя, – солидно разъяснил Алешка, – вся война кончилась. У нас теперь победа и мир. А сейчас бы неплохо по такому случаю хлопнуть по маленькой…
– Иди, – сказала Светику Наташа Белкина, – он по тебе сейчас хлопнет. Ты у нас самый маленький.
Светик на всякий случай отступил на несколько шагов и тут же вернулся:
– Зойка!.. Твоя мама идет, а с ней еще кто-то… Это, наверное, папа.
Зоя увидела маму. Она улыбалась. А рядом с мамой стоял незнакомый человек в военной форме.
– Зойка, – прошептал Алешка, – это твой папа. Беги. Говори ему слова, которые мне говорила!
Зоя побежала навстречу папе. Он обнял ее, поцеловал и подкинул в воздух. Зоя на мгновение увидела двор, клумбу, Алешку, Светика и совсем близко глаза отца.
– Здравствуй, папа! – сказала Зоя и замолчала. Она вдруг забыла все слова.
Приехал папа, а это была большая, самая главная радость.
1947
ЖУТКАЯ ИСТОРИЯНа днях у нас в народном суде интересное дело слушалось. Обвиняли одного старика в хулиганских действиях.
Председатель суда строго посмотрел в зал, совершенно неожиданно улыбнулся и, снова посерьезнев, сказал:
– Гражданин Шапочкин, расскажите, только по возможности коротко, как было дело.
Со скамьи поднялся бодрого вида старик лет шестидесяти, с бородкой и хитровато прищуренными глазами.
– Дело, значит, было так, граждане судьи. Приехал я в город к зятю своему Михаилу Петровичу в гости, поскольку премия ему, значит, вышла за сверхотличную работу. Ну конечно, стол накрыт: рыбка, пироги с капустой, грибки, стюдень…
– Гражданин Шапочкин, нам про «стюдень» неинтересно слушать. Вы про дело расскажите.
– Я про дело и говорю. Поужинал я у зятя, выпил, закусил и домой собрался. Наше дело стариковское. А живу я где? Живу я в Кузыкине. Приехал на вокзал, гляжу, мать честная, последний поезд ушел. Время ночное, что ты будешь делать?.. Дай, думаю, выйду на шоссе, может, машина попутная подвезет или там другой какой транспорт. Да. Ну, вышел я, стало быть, на шоссе. Как машина мимо проходит, я руку подымаю – понять даю, чтобы, значит, захватили меня. Одна машина прошла, другая, третья – и все ноль внимания. Думаю – что же делать?.. И вдруг, граждане судьи, останавливается грузовик и этот вот с усами, – старик указал на человека с усами, сидевшего в первом ряду, – кричит из кабины: «Давай, дед, закругляйся в кузов, только по-быстрому. Подкинем тебя из уважения к твоим преклонным годам!..»
Ну, я, стало быть, влез в кузов, машина тронулась и пошла. А погода, граждане судьи, сильно холодная была. И мороз и ветер. А кузов совершенно открытый. Я к кабинке притулился, а этот вот с усами, что с шофером сидел, мне сквозь стекло кричит: «Как, дед, не озяб?..» А я ему рукой так делаю: вроде ничего, живой. Да. Едем мы это так, а мороз крепчает, спасу нет. Оглянулся я, граждане судьи. Может, думаю, найду, чем от ветра и от стужи укрыться. Может, фанерка какая завалящая или брезент. Ногами пошуровал, потом гляжу: мать честная – гроб. Стоит в кузове гроб закрытый. Сперва-то я оробел маленько, а потом крышечку приподнял, гляжу – никого. Тогда я думаю – чего ж такое отличное, сухое помещение зря пустовать будет. Лег я в этот гроб и крышечкой прикрылся, чтоб от мороза. А после пригрелся под влиянием ужина и задремал… Вот и все.
– Дальше?
– Чего же дальше? Дальше пусть они рассказывают.
Председатель помолчал. Было видно, что ему не просто сохранять строгое и официальное выражение лица.
– Потерпевший гражданин Кукуев, дополните показания гражданина Шапочкина, – сказал председатель, обращаясь к одному из группы здоровых парней с обветренными лицами.
Кукуев встал и, прихрамывая, вышел вперед.
– Граждане судьи, данного старика, вернее сказать, данную машину мы повстречали у переезда. Она у шлагбаума стояла, дожидалась, пока дальний поезд пройдет. А нам в Завальцево надо. Мы там на товарной базе работаем. Грузчики мы. Мы к кабинке подошли, просим: «Не подкинете до Завальцева?» Тогда этот вот товарищ с усами, что с шофером сидел, говорит: «Давайте, ребята, только по-быстрому. Садитесь. Вам не скучно будет, там у вас в кузове попутчик имеется». Ну, мы и сели в кузов…
– Кто – мы?
– Пятеро нас. Мы все тут. Я, Суваев, Замылкин, Богачев и Лямзин. Машина тронулась. Мы глядим – гроб. Думаем – хороший у нас попутчик. А что делать? Ехать-то все равно надо. Стоим мы в кузове, и, сказать по правде, неинтересно нам на гроб смотреть. Мы в стороны глядим. А мороз – жуть! Предыдущий старик насчет погоды точно сказал. В общем, едем это мы, вдруг Лямзин оглядывается и говорит: «Ох, ребята, что мне сейчас почудилось». А Богачев говорит: «Ты давай не оглядывайся, ничего там нет интересного». А он говорит: «Ребята, или мне привиделось, или это точно, но, по-моему, гроб шевелится». А Богачев говорит: «Брось ты эти глупые слова!.. Дорога неровная, это он от тряски шевелится». А Лямзин говорит: «Нет, ребята, это не от тряски». Тут мы все на гроб оглядываемся. Вдруг видим, крышка подымается, из гроба этот вот нахальный старик встает, ручками потягивается и говорит: «Вроде маленько потеплело…» Тут мы, граждане судьи, все на полном ходу с машины кто куда!..
– Вы что, испугались?
– Как же не испугаться?.. Раз он покойник, значит, он должен лежать, а не хулиганничать!..
– А почему вы хромаете, гражданин Кукуев?
– Ногу это я на прыжке вывихнул, когда с машины в сугроб врезался.
– Выходит, гражданин Кукуев, вы и ваши товарищи – молодые люди – до сих пор находитесь в плену отсталости и суеверий. А это стыдно. Если не сказать – смешно.
– Правильно! – сказал старик Шапочкин.
– А почему вы, гражданин Пряхин, не приказали остановить машину, когда буквально позади вас люди на полном ходу в сугробы прыгали?
Пряхин – человек с усами – встал.
– Именно лично я, как агент по снабжению, ихних прыжков не видел и не слыхал, поскольку машина наша шла со сверхъестественной скоростью.
Сидевший рядом с Пряхиным шофер внезапно перестал улыбаться.
– Это не по существу, – сказал шофер.
– Нет, это очень даже по существу, – сказал председатель. – Вы ответите за эту вашу сверхъестественную скорость.
– Но все же обошлось, – жалобно сказал шофер.
– Все живы-здоровы, – сказал Пряхин.
– Должен быть порядок, – заключил старик Шапочкин, – а то что же это получается – гоняют машины, дьяволы, а на покойников сваливают. Безобразие!
1946
ФЕСТИВАЛЬ В ГОРОДЕ Н.Под сенью пирамидальных тополей в парке южного города Н. расположилось фундаментальное фанерное сооружение с тяжелой стеклянной вывеской над входом «Городская филармония».
Из раскрытых окон филармонии доносились голоса, смех, обрывки мелодий. Музыкально-художественный организм жил своей сложной, беспокойной жизнью.
В кабинете директора стояла тишина. Самого товарища Мамайского еще не было. Легкий ветерок шелестел афишами гастролеров. В центре кабинета, на самом видном месте, стоял глиняный бюст Менделеева. Химией товарищ Мамайский не занимался. Бюст попал в кабинет случайно. Агент по снабжению Кувалдин приобрел бюст в комиссионном магазине, приняв творца периодической системы элементов за композитора Глинку. В дальнейшем Кувалдин закрепил свое смелое предположение в инвентарной описи директорского кабинета короткой формулировкой: «Глинка – один».
Отворилась дверь, и в кабинет вошел директор. Он сел за стол и нажал кнопку звонка, одновременно крикнув: «Поля!» – так как звонок не работал.
В кабинет вошла секретарь-стенографистка Поля Куликова, пухлая девица с волосами цвета соломы.
– Принесите из бухгалтерии ведомость на зарплату.
Через мгновение Поля появилась с толстой папкой, не уступающей по своему объему телефонной книге областного города.
«Чрезмерное раздутие штатов» – эта суховатая фраза с юридическим колоритом как нельзя более точно могла обрисовать положение дел в городской филармонии.
Недюжинный дар комбинатора помог Мамайскому создать такое штатное расписание, в котором административно-хозяйственные персонажи получили новые наименования, чарующие своим многообразием.
Не предусмотренному штатами гражданину Зацепе Ф. Ф. была придана звонкая профессия музыкального эксцентрика.
Нелегальные шоферы директора – братья Кирилл и Мефодий Зуевы – именовались кратко и несколько интригующе: «Мраморные люди».
Плановик Панибратский С. П. значился как инспектор оркестра. Трудные творческие задачи, стоящие перед Панибратским, несколько облегчались, правда, отсутствием оркестра.
– Все как в лучших домах! – бодро сказал Мамайский, обращаясь к Менделееву.
«Скоромник М. Ю., – читал Мамайский, – начальник сектора оригинальных жанров».
В сектор оригинальных жанров входили штатные чародеи, престидижитаторы, укротители змей (малой ядовитости). Последняя приписка была сделана по требованию охраны труда. Здесь же значились солисты на пиле, на бутылках, на медных плошках и на прочих предметах, имеющих непреодолимое тяготение к утилю.
Следующим в списке шел внеплановый билетный агент Казак Ю. С. Этот немолодой уже человек с печальными глазами серны именовался лаконично и всеобъемлюще: «Артист».
Мамайский иронически покачал головой:
– Артист. Подумаешь, тоже Росси! – сказал он, имея в виду Моисеи.
Названный артистом Казак Ю. С. был весьма далек от творческой деятельности. Он являлся скромным гонцом за железнодорожными билетами и одновременно владельцем огорода, возделыванием какового он и занимался, когда во двор влетела запыхавшаяся Поля Куликова.
– Товарищ Казак, – сказала Поля, – возьмите себя в руки. Из Москвы приехала комиссия по поводу штатов. Председатель комиссии сказал, что его очень интересуют артисты…
– Ну и что? – спросил Казак.
– Они хотят посмотреть и послушать наших артистов…
– Короче, – сказал Казак с нарастающей тревогой.
– Завтра комиссия будет слушать вас как артиста.
Казак опустился на грядку с редиской.
– Возьмите себя в руки, – сказала Поля. – Мамайский надеется, что вы его не подведете. Приказал срочно готовить репертуар.
С этими словами Поля исчезла.
«Артист» Казак поднялся с грядки. Он понял, что нужно действовать. И действовать немедленно.
…Бо́льшую часть номеров в гостинице занимали артисты. Через полчаса в коридоре появился бледный Казак. Он остановился у номера 7, где жили супруги Зайцевы, создатели эффективного номера «Человек-арифмометр». Жена Зайцева писала по указанию зрителей восьмизначные числа на школьной доске, установленной на эстраде, а сам Зайцев во фраке и в чалме по счету «три» оборачивался, мельком прочитывал страшную комбинацию цифр и через несколько мгновений сообщал зрительному залу результаты умножения, деления и любого другого арифметического действия.
Казак вошел в номер к Зайцевым. Через пять минут супруги были в курсе дела.
– Могут быть крупные неприятности, – сказал «человек-арифмометр», – и вам и Мамайскому. Это ясно, как дважды два – четыре, – добавил он не без кокетства.
– Слушайте, Николай Иванович, – взмолился Казак, – объясните мне вашу технику. Я надену фрак. Товарищи из комиссии будут мне называть свои сумасшедшие цифры. Я их как будто помножу и назову любое число. Кто будет проверять?
– Вы ребенок, – сказал Зайцев. – Они для того и приехали, чтобы проверять. Надо придумать что-нибудь другое.
– Что можно придумать?
– Подождите. Вы ведь Казак. Покажите вольтижировку, джигитовку…
– Вы напрасно шутите, – скорбно сказал Казак. – При чем здесь джигитовка? Я казак не по профессии. Я по фамилии Казак.
– Просто не знаю, что вам и посоветовать. Пойдите в десятый номер. Там живет Матильда Прохорова с группой дрессированных мышей.
– Это не выход.
– Почему?
– Потому что, во-первых, я боюсь мышей, а во-вторых, там уже сидит буфетчица Зина. Она тоже записана у нас как артистка.
– Тогда дело плохо. Может быть, вы зайдете к «два-Шарашкин-два»? Они ходят по проволоке. До завтрашнего дня много времени.
– Я по земле еле хожу, а вы меня бросаете на проволоку! Если у вас такое веселое настроение, я лучше уйду!
И Казак ушел. Вернувшись домой, он задумался и наконец принял решение…
Фестиваль штатных артистических дарований начался в середине дня. На летней сцене стоял рояль. В первом ряду сидели члены комиссии и Мамайский, с лицом, выражающим примерно следующее: «Что делать, товарищи? Я же знал, что это когда-нибудь плохо кончится».
Председатель комиссии посмотрел на Мамайского и громко сказал:
– Начнем, пожалуй?
– Да, – ответил Мамайский.
Это было похоже на кадр из немого фильма: рот Мамайского открылся, но звука никто не услышал.
Первым на сцену явился конферансье – лысый человек с мягкими движениями конокрада. Рассказав аудитории анекдот, накануне вычитанный в потрепанном комплекте журнала «Будильник», конферансье, провожаемый страшным взглядом Мамайского, скрылся, и на сцену выбежала балетная пара.
Аккомпаниаторша, не глядя в ноты и не сводя глаз с членов комиссии, заиграла «Пиччикато» Делиба, а солисты балета – старший экономист Заикин и машинистка Клава Распопова – с суетливостью транзитных пассажиров исполнили танец.
Впрочем, танцем это назвать было трудно. Это была чрезвычайно причудливая комбинация, напоминающая одновременно французскую борьбу, сеанс гигиенического массажа и утреннюю зарядку.
После того как энергичный экономист не без изящества уронил примадонну, председатель комиссии сказал:
– Достаточно. Кто следующий?
Следующим выступил именуемый мастером художественного слова инкассатор Клюев: бодро высвистывая букву «с», он исполнил короткое стихотворение.
Казак не слушал выступлений своих коллег. Он нервно ходил по дорожке за сценой и распевался. Казак решил прорваться по линии вокала и пока репетировал, пугая случайных прохожих звуками, похожими на лай самца-койота.
– Ваша очередь! – услышал Казак.
Он высоко поднял голову и стал подниматься по лесенке с видом человека, идущего на эшафот.
Когда Казак во фраке мальчикового размера и в желтых туфлях, носящих игривое название «Верочкин фасон», появился на сцене, Мамайский понял, что наступило время сдавать дела.
Казак посмотрел на членов комиссии слюдяными глазами, откашлялся, и лицо его вдруг приняло задумчивое выражение. В последний раз Казак пел в 1913 году на выпускном вечере в университете, причем не лишним будет заметить, что университет кончил не он, а его брат.
– «Быстры, как волны, дни нашей жизни», – объявил Казак и кивнул аккомпаниаторше.
Казак запел.
Со сцены понеслись такие неслыханные рулады, что видавшие виды члены комиссии дружно опустили глаза, а председатель их даже закрыл.
Мамайский смотрел на Казака взглядом факира, усмиряющего кобру. Но было уже поздно. С отчаянием человека, идущего на все, Казак, едва закончив первое вокальное произведение, молодецки хлопнул в ладоши и неожиданно запел:
Эх, Дуня-Дуня, Дуня – я, Дуня – ягодка моя!
Обогащая рефрен чечеткой, Казак бушевал на сцене. Он не слышал, как председатель комиссии обратился к Мамайскому, находившемуся в глубоком трансе:
– Картина ясна. На сегодня достаточно. Остальных посмотрим завтра.
Казак тем временем спустился со сцены и ушел.
Он шел через город в своем концертном одеянии, и люди удивленно уступали ему дорогу.
Наступила ночь. Участники второго тура готовились к завтрашнему испытанию.
Буфетчица Зина в номере у Матильды Прохоровой, дрожа от отвращения, репетировала с мышами.
Нотный библиотекарь Полубаков, названный в ведомости жонглером, бодро бил посуду.
Город не спал.
1947








