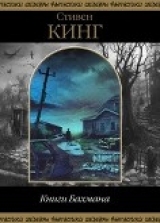
Текст книги "Книги Бахмана"
Автор книги: Стивен Кинг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 83 страниц)
– Но все это не имеет отношения к моей истории, – сказал Макврайс, словно читая его мысли. – Так насчет шрама. Это случилось прошлым летом. Нам обоим хотелось убежать из дома, подальше от родителей, от коровьего дерьма, чтобы наша Великая Сказка началась всерьез. И вот мы с ней устроились на работу на фабрику, где делали пижамы. Как тебе, Гаррати? Производство пижам в Нью-Джерси!
Жили мы в отдельных квартирах в Ньюарке. Знатный город Ньюарк, в иные дни там можно понюхать дерьмо сразу всех коров штата Нью-Джерси. Родители наши покочевряжились, но, так как жили мы раздельно и устроились на неплохую летнюю работу, кочевряжились они не слишком. Я жил с двумя другими ребятами, и у Прис было три соседки. Мы отправились туда третьего июня: сели в мою машину и около трех остановились в каком-то мотеле, где избавились от проблемы девственности. Я чувствовал себя вором. Ей не очень хотелось, но она решила сделать мне приятное. Мотель назывался «Тенистый уголок». Когда мы закончили, я опорожнил свои причиндалы в туалете «Тенистого уголка» и прополоскал рот водой из стакана в «Тенистом уголке». Очень романтично, очень возвышенно.
Потом мы приехали в Ньюарк нюхать коровье дерьмо и думать о том, что здесь не то коровье дерьмо. Я отвез ее и поехал к себе. В следующий понедельник мы приступили к работе на Плимутской фабрике ночной одежды. Знаешь, Гаррати, там было не совсем как в кино. Там здорово воняло, мой бригадир оказался козлом, а в обеденный перерыв мы постоянно швыряли клубками в крыс, которые шныряли среди тюков. Но меня это не очень трогало, так как это была любовь. Понимаешь? Это была любовь.
Он сплюнул на обочину, глотнул из фляги и крикнул, что ему нужна новая. Дорога была неровная и к тому же в гору и Макврайс с трудом переводил дыхание.
– Прис работала на первом этаже и тешила взоры идиотов туристов, которые не находили ничего лучшего, чем глазеть на здание, в котором для них шьют пижамы. Там, у Прис, было неплохо. Стены выкрашены в пастельный тон, хорошее современное оборудование, кондиционеры. Прис там пришивала пуговицы с семи до трех. Ты только представь себе, по всей стране мужчины носят пижамы с пуговицами, пришитыми руками Присциллы. От такой мысли согреется даже самое черствое сердце.
Я работал на пятом. Где тюки. Видишь ли, внизу красили нити, затем посылали наверх по трубам с горячим воздухом. Когда партия заканчивалась, они давали звонок, и тогда я открывал ящик и видел в нем груду нитей всех цветов радуги. Я выгребал их оттуда, укладывал в тюки на две сотни фунтов, волок эти тюки к другим таким же. Оттуда специальная машина забирала их, разделяла нити, и они поступали на ткацкий станок. Какие-то славные ребята резали готовую ткань, шили из нее пижамы, которые шли вниз, в ту милую комнату на первом этаже, где Прис пришивала к ним пуговицы, а всякие тупоголовые мужики глазели на нее и других девушек сквозь стеклянную стену… как сейчас народ глазеет на нас. Гаррати, я доступно излагаю?
– Шрам, – напомнил Гаррати.
– Я отвлекаюсь, да?
Дорога по-прежнему шла в гору. Макврайс вытер лоб ладонью и расстегнул рубашку. Лес волнами простирался впереди, а на горизонте показались горы. Их вершины на фоне неба выглядели как зубья ножовки. Наверное, милях в десяти впереди, едва различимая в знойном мареве, над морем зелени торчала верхушка пожарной каланчи. Дорога змеилась среди бескрайнего леса.
– Сначала было море восторгов, счастья и Китса. Я еще трижды входил в нее, каждый раз в машине на шоссе и каждый раз на фоне запаха коровьего дерьма, который просачивался в машину с ближайшего пастбища. А еще, сколько бы я ни мылил голову, я никак не мог избавиться от застрявших в волосах волокон, а хуже всего было то, что она стала отдаляться от меня, стала возвышаться надо мной. Я любил ее, я ее правда любил, я знал это, но я уже не мог говорить с ней так, чтобы она меня понимала. Я даже не мог обладать ею. Всюду был этот запах коровьего дерьма.
Понимаешь, Гаррати, оплата труда на фабрике сдельная, то есть ты получаешь определенный процент в зависимости от того, сколько сделано сверх установленного минимума. Я был неважным рабочим. Делал в день в среднем двадцать три тюка, тогда как норма была что-то около тридцати. И это не добавляло мне популярности среди ребят, так как из-за моей низкой производительности страдали и они. Харлан в красильном цеху страдал, потому что не мог быстрее отправлять партии нитей наверх. Ральф, тот, кто опустошал тюки, недорабатывал из-за того, что я мало ему подносил. Малоприятное положение. Они позаботились о том, чтобы мое положение стало малоприятным. Понял?
– Ага, – сказал Гаррати, провел ладонью по затылку и обтер руку о штаны. На них осталось темное пятно.
– А Прис на своих пуговицах зарабатывала. Иногда по вечерам она часами рассказывала мне о своих подружках. Сколько эта делает, сколько та. А главное – сколько делает она сама. А она делала – и, соответственно, получала – достаточно. И я почувствовал, что означает соревноваться в заработке с девушкой, на которой хочешь жениться. В конце недели я вез домой чек на 64 доллара 40 центов и волдыри на ладонях. Она в неделю получала около девяноста и тут же неслась в банк. А когда я предлагал ей сходить куда-нибудь, по ее реакции можно было подумать, что я предложил ей убить человека.
И я прекратил ее трахать. То есть я бы предпочел выразиться поизящнее – прекратил ложиться с ней в постель, но постели-то у нас с ней и не было. Я не мог привести ее к себе, так как там, как правило, человек шестнадцать баловались пивком, и у нее дома тоже постоянно кто-то был – так по крайней мере она говорила, – а на номер в мотеле у меня не было денег и я, естественно, не мог предложить ей разделить расходы на это, так что просто трахал ее на заднем сиденье машины на шоссе. Могу сказать только, что ей это становилось неприятно. Я это знал и уже начинал ее ненавидеть, но продолжал любить, так что предложил ей выйти за меня замуж. Немедленно. Она стала юлить, стараясь от меня отделаться, но я заставил ее ответить прямо – да или нет.
– И она ответила – нет.
– Разумеется, она ответила – нет. «Пит, мы не можем этого себе позволить, Пит, нам надо подождать». Пит то, Пит се, но настоящей причиной, конечно же, были деньги, которые она зарабатывала пришиванием пуговиц.
– Знаешь, ты поступил чертовски нечестно.
– Ясно, что поступил нечестно! – рявкнул Макврайс. – Я это понимал. Я хотел, чтобы она почувствовала себя жадюгой, эгоистичной маленькой дрянью, потому что из-за нее я чувствовал себя неудачником.
Его пальцы потянулись к шраму.
– Но я не просто из-за нее чувствовал себя неудачником, я им был. Я ничего не мог ей предложить, только засунуть в нее член, а она не отказывалась, и из за этого я и мужчиной-то себя не чувствовал.
Сзади грохнули карабины.
– Олсон? – спросил Макврайс.
– Нет. Он идет сзади.
– Ох…
– Шрам, – напомнил Гаррати.
– А может, оставим это?
– Ты спас мне жизнь.
– Да пошел ты…
– Шрам.
– Я подрался, – сказал Макврайс после долгой паузы. – С Ральфом, который тюки опустошал. Он врезал мне и в один глаз, и в другой и сказал, чтобы я сваливал, а не то он переломает мне руки. Я пришел к Прис и сказал, что вечером уезжаю. Она сама видела, в каком я состоянии. Она поняла. Сказала, что так, наверное, будет лучше. Я сказал, что еду домой, и попросил ее вернуться со мной. Она сказала, что не может. Я сказал, что она – рабыня при своих гребаных пуговицах и я жалею, что с ней познакомился. Вот, Гаррати, сколько во мне накопилось яду. Я заявил ей, что она дура и бесчувственная сука и не видит дальше собственной чековой книжки. Все, что я наговорил, было несправедливо, но… по-моему, в этом была известная доля правды. И немалая. Мы были у нее дома. Я впервые был там с ней наедине. Ее соседки ушли в кино. Я попытался увлечь ее в постель, и она резанула меня ножом для бумаг. Забавный такой нож, его ей кто-то прислал из Англии, на нем был нарисован мишка Паддингтон. Она ударила меня ножом, как будто я собирался изнасиловать ее. Как будто я прокаженный и хочу ее заразить. Ты улавливаешь, Гаррати?
– Да, улавливаю, – отозвался Гаррати.
Впереди у дороги стоял микроавтобус с названием службы теленовостей на боку. Как только группа подошла ближе, лысеющий мужик в блестящем костюме направил на них объектив массивной кинокамеры. Пирсон, Абрахам и Йенсен отреагировали немедленно: каждый взялся левой рукой за яйца, а пальцем правой принялся ковырять в носу. Гаррати пришел в некоторое замешательство от столь синхронного выражения презрения.
– Я плакал, – продолжал Макврайс. – Плакал, как ребенок. Я упал на колени, ухватился за ее подол и начал умолять простить меня, а кровь растекалась по полу; в общем, отвратная вышла сцена. Она вырвалась и убежала в ванную. Ее стошнило. Я слышал, как ее рвет. Потом она вышла и дала мне полотенце. Сказала, что не желает меня больше видеть. Она плакала. Спрашивала, зачем я так с ней себя вел, зачем сделал ей больно. Говорила, что я не имел права. Вот так, Рей, у меня на щеке был глубокий разрез, а она спрашивала меня, зачем я сделал ей больно.
– Да.
– Я ушел, все еще прижимая полотенце к щеке. Мне наложили двенадцать швов, и на этом окончена история моего знаменитого шрама, доволен ли ты, Гаррати?
– Ты видел ее потом?
– Нет, – ответил Макврайс. – И в сущности, не испытывал сильного желания. Сейчас она кажется мне совсем маленькой, очень далекой. Сейчас для меня Прис – как пятнышко на горизонте. Она чересчур рациональна, Рей. Что-то… может, мать… Ее мать была очень активной… Что-то заставило ее слишком полюбить деньги. Она скряга. Говорят, всегда лучше видно на расстоянии. Вчера утром Прис еще была важна для меня. Теперь она – ничто. Я думал, что эта история, которую я тебе рассказал, причинит мне боль. Но нет. Кроме того, мне кажется, вся эта чушь имеет мало общего с причинами, по которым я здесь. Все это в нужный момент стало всего лишь удобным предлогом.
– Что ты имеешь в виду?
– Гаррати, почему мы здесь?
– Не знаю. – Голос звучал механически, так могла бы говорить кукла. Фрики Д’Аллессио плохо видел приближающийся мяч, у него был дефект зрения, восприятие высоты нарушено, мяч ударил его в лоб и оставил на нем вмятину. А потом (или раньше… прошлое перемешалось и плыло в памяти) Гаррати ударил своего лучшего друга по губам дулом духового ружья. Может быть, у того остался шрам, как у Макврайса. Джимми. Они с Джимми играли в больницу.
– Ты не знаешь, – повторил Макврайс. – Ты умираешь и не знаешь почему.
– После смерти это уже не важно.
– Да, возможно, – согласился Макврайс. – Но одну штуку тебе надо знать, Рей, тогда все это будет менее бессмысленно.
– Что именно?
– Что тебя использовали. Хочешь сказать, ты не знал этого? В самом деле не знал?
Глава 9
Значит, так, северяне, прошу вас ответить на десятый вопрос. Аллен Ладден «Пир в колледже»
В час дня Гаррати вновь провел инвентаризацию. Сто пятнадцать миль позади. Они находились теперь в сорока пяти милях к северу от Олдтауна, в ста двадцати пяти милях к северу от Огасты, центра штата, до Фрипорта оставалось сто пятьдесят миль (или больше… Гаррати страшно боялся, что между Огастой и Фрипортом больше двадцати пяти миль), до границы Нью-Хэмпшира около двухсот тридцати. И был разговор о том, что до границы Нью-Хэмпшира группа доберется наверняка.
В течение довольно долгого времени – минут, может быть, девяноста – никто не получал билета. Все монотонно вышагивали милю за милей среди соснового леса, едва прислушиваясь к приветственным крикам. Гаррати обнаружил, что к постоянной деревянной ноющей боли в обеих ногах и периодически возникающей боли в ступнях добавились приступы боли в левом бедре.
Затем, около полудня, когда жара достигла высшей точки, карабины вновь напомнили о себе. Парень по фамилии Тресслер, номер 92, получил солнечный удар, свалился без сознания и был расстрелян. У другого участника начались конвульсии, он пытался ползти на карачках, издавая невнятные звуки, и заработал билет. Ааронсон, номер 1, остановился на белой линии из-за судорог в обеих ногах и застыл как статуя, обратив напряженное лицо к солнцу; он также был расстрелян. Без пяти минут час еще один, кого Гаррати не знал, получил солнечный удар.
«Вот где я теперь», – подумал Гаррати, обходя дергающийся, бормочущий предмет. Он видел сверкающие, как бриллианты, капельки пота в волосах измученного и приговоренного к смерти мальчишки. «Вот где я теперь, неужели я не могу отсюда выбраться?»
Прогремели выстрелы, и школьники-скауты, сидевшие на тенистом пятачке у обочины возле своего походного домика на колесах, зааплодировали.
– Хочу, чтобы появился Главный, – зло сказал Бейкер. – Хочу видеть Главного.
– Что? – машинально переспросил Абрахам. Он заметно исхудал за последние часы. Глаза ввалились. На щеках и подбородке появился голубоватый намек на бороду.
– Хочу насрать на него, – сказал Бейкер.
– Успокойся, – сказал ему Гаррати. – Просто успокойся.
Он уже успел избавиться от всех предупреждений.
– Сам успокойся, – огрызнулся Бейкер. – Подумай, что с тобой будет.
– У тебя нет никакого права ненавидеть Главного. Он тебя не заставлял.
– Не заставлял меня? НЕ ЗАСТАВЛЯЛ? Да он УБИВАЕТ меня, понял?
– Это еще не…
– Замолчи, – резко бросил Бейкер, и Гаррати замолчал. Он провел ладонью по шее и стал смотреть в белесо-голубое небо. Его тень съежилась бесформенной лужицей почти под самыми подошвами. Он достал третью за этот день флягу и осушил ее.
Бейкер обратился к нему:
– Извини. Я не хотел на тебя кричать. Мои ноги…
– Ну конечно, – отозвался Гаррати.
– Все мы такими становимся, – продолжал Бейкер. – Мне иногда кажется, что это и есть самое худшее.
Гаррати закрыл глаза. Ему очень хотелось спать.
– Знаешь, чего мне хочется? – спросил Пирсон. Он уже шел между Гаррати и Бейкером.
– Насрать на Главного, – отозвался Гаррати. – Всем хочется насрать на Главного. Когда он появится в следующий раз, мы всей оравой кинемся на него, стащим с машины, разложим на дороге, снимем штаны…
– Мне не этого хочется. – Пирсон шел походкой человека, находящегося в последней стадии опьянения, которая еще позволяет воспринимать окружающее. Голова его болталась из стороны в сторону. Веки поднимались и опускались, как сумасшедшие жалюзи. – Это не имеет отношения к Главному. Я просто хочу уйти в поле, лечь на спину и закрыть глаза. Просто полежать на спине среди пшеницы…
– В Мэне не сажают пшеницу, – сообщил Гаррати. – У нас растут травы для покоса.
– Хорошо, в траве. И сочинить стихотворение. И уснуть.
Гаррати пошарил в карманах нового пояса; почти все были пусты. Наконец он отыскал бумажный пакетик соленых хлопьев и стал глотать их, запивая водой.
– Чувствую себя решетом, – сказал он. – Пью воду, а через две минуты она выступает на коже.
Опять рявкнули карабины, и еще одна фигура грузно рухнула на дорогу, как движущаяся заводная игрушка, у которой кончился завод.
– Сорк пять, – невнятно пробормотал присоединившийся к ним Скрамм. – Ткими темпами мы и до Порльнда не дыйдем.
– Что-то голос у тебя неважный, – заметил Пирсон; в его собственном голосе можно было при желании уловить осторожную оптимистическую нотку.
– Мне пвезло, у меня телослжение крепкое, – весело откликнулся Скрамм. – У меня, по-моему, темпратура.
– Боже мой, да как же ты еще идешь? – ахнул Абрахам; в его голосе слышался суеверный страх.
– Я? Ты обо мне? – парировал Скрамм. – Ты на него псмри! – Он указал большим пальцем вбок, на Олсона. – Он как идет, хтел бы я знать!
Олсон не раскрывал рта в течение двух часов. Он не притронулся к последней полученной им фляге. Соседи бросали жадные взгляды на его пояс с едой, к которой он также не притрагивался. Его черные обсидиановые глаза смотрели прямо вперед. Заросшее двухдневной щетиной лицо приобрело болезненно-хитрое выражение. Даже волосы, стоящие торчком на затылке и прядями падающие на лоб, усиливали впечатление потусторонности. Запекшиеся губы покрылись пузырями. Кончик языка свисал над нижней губой, как головка дохлой змеи у входа в пещеру. Он уже утратил нормальный розовый цвет и стал грязно-серым. На него налипла дорожная пыль.
Он уже там, подумал Гаррати, он, безусловно, там. Стеббинс говорил, что со временем мы все туда уйдем. Насколько он погрузился в себя? На футы? На мили? На световые годы? Насколько темно там, на той глубине? К нему пришел ответ: он настолько глубоко, что не видит того, что снаружи. Он прячется в темноте и выглянуть уже не может.
– Олсон! – мягко окликнул его Гаррати. – Олсон!
Олсон не ответил. Лишь ноги его двигались.
– Мне бы хотелось, чтобы он наконец пошевелил языком, – обеспокоенно прошептал Пирсон.
Прогулка продолжалась.
Лес отступил подальше от расширившейся дороги. У обочин опять толпились веселые зрители. Таблички с фамилией Гаррати доминировали среди прочих. Но вскоре лес опять сомкнулся над дорогой. Некоторым Идущим приходилось шагать вдоль самой обочины. А там – симпатичные девочки в шортах и с цепочками. Мальчики в баскетбольных майках и шортах.
Веселый праздник, подумал Гаррати.
У него уже не оставалось сил на то, чтобы жалеть об участии: он слишком устал, и тело его слишком онемело для того, чтобы он мог рефлектировать. Что сделано – то сделано. «Довольно скоро, – подумал он, – мне даже станет трудно разговаривать». Ему захотелось закутаться в себя, как малыш закутывается в плед и воображает, что укрылся от всех неприятностей. Укройся – и жизнь станет намного проще.
Он долго обдумывал то, о чем говорил Макврайс. О том, что всех их надули, обманули. «Не может быть, – упорно убеждал себя Гаррати. – Один из нас не обманут. Один из нас еще обойдет остальных… Разве нет?»
Он провел языком по губам и отпил несколько глотков из фляги.
Они прошли мимо небольшого зеленого дорожного указателя, извещавшего, что в сорока четырех милях впереди их ожидала платная магистраль штата Мэн.
– Вот, – сказал Гаррати, не обращаясь ни к кому в особенности. – Сорок четыре мили до Олдтауна.
Никто ему не ответил, и Гаррати подумал, что стоило бы опять подойти к Макврайсу, но вдруг услышал женский крик. Они в это время проходили очередной перекресток. Движение было перекрыто канатами, но толпа зрителей напирала, и ее сдерживала полиция. Все размахивали руками, плакатами, баночками с мазью для загара.
Кричала крупная краснолицая женщина. Она бросилась на один из барьеров, опрокинула его и сорвала значительную часть заградительного каната. Затем она, вопя и царапаясь, вырывалась из рук подоспевших к ней полицейских. Эти последние кряхтели от натуги.
Я ее знаю, подумал Гаррати. Разве я ее не знаю?
Голубой носовой платок, сверкающие воинственным пылом глаза. Даже морская форменная одежда с нашивками. Ее ногти оставили кровавые полосы на щеке полицейского, удерживавшего ее – пытавшегося ее удержать.
Гаррати прошел в десяти футах от нее. И, проходя, понял, где видел ее раньше: это была мать Перси. Того самого Перси, который пытался незаметно пробраться в лес и вместо этого перебрался в мир иной.
– Мне нужен мой мальчик! – причитала она. – Мне нужен мой мальчик!
Толпа была в восторге. Никто ей не сочувствовал. Какой-то маленький мальчик плюнул ей на ногу и мгновенно скрылся.
Джен, думал Гаррати, я иду к тебе, Джен, а все остальное – фигня, Богом клянусь, я приду. Но прав был Макврайс. Джен не хотела, чтобы он шел. Она плакала. Она умоляла его переменить решение. Они подождут, она не хочет терять его, пожалуйста, Рей, не будь дураком, Долгая Прогулка – это чистое убийство…
Дело было месяц назад, в апреле. Они сидели на скамейке возле музыкального павильона, он обнимал ее за плечи. Она надушилась теми духами, которые он подарил ей на день рождения. У них был девичий, темный запах, запах плоти, кружащий голову. Мне нужно идти, сказал он. Мне нужно, как ты не понимаешь, мне нужно идти.
Рей, ты не понимаешь, что делаешь. Не надо, Рей, пожалуйста. Я люблю тебя.
Ну да, думал он, шагая по дороге, она была права. Конечно же, я не понимал, что делаю.
Но я даже сейчас не понимаю. Вот какая ситуация, чтоб ей пусто было. Очень простая и очень ясная.
– Гаррати!
Он с удивлением вскинул голову. Он только что снова задремал. А рядом с ним уже шагал Макврайс.
– Как себя чувствуешь?
– Чувствую? – осторожно переспросил он. – Вроде нормально. Да, я вроде в норме.
– Баркович ломается, – с тихой радостью сообщил Макврайс. – Я уверен. Он разговаривает сам с собой. И хромает.
– И ты хромаешь, – возразил Гаррати. – И Пирсон хромает. И я.
– У меня нога побаливает, только и всего. А Баркович… Он все время трет ногу. По-моему, у него растяжение.
– Да за что ты так его ненавидишь? Почему не Колли Паркера? Не Олсона? Не всех нас?
– Потому что Баркович сознает, что делает.
– Ты хочешь сказать, он играет на победу?
– Ты, Рей, не знаешь, что я имею в виду.
– Ты и сам вряд ли знаешь, – сказал Гаррати. – Он, конечно, негодяй. Возможно, и надо быть негодяем, чтобы победить.
– То есть хорошие ребята к финишу приходят последними?
– Черт побери, откуда мне знать?
Они шли мимо небольшого школьного здания с деревянной крышей. Ребятишки во дворе махали руками, приветствуя Идущих. Пять или шесть мальчиков стояли на шатровидной конструкции для лазанья, как часовые; увидев их, Гаррати вспомнил работников склада древесины.
– Гаррати! – закричал один из мальчишек. – Гар-ра-тиии!
Маленький взъерошенный мальчишка пританцовывал там, наверху, и махал обеими руками. Гаррати неохотно помахал ему в ответ. Мальчишка, согнув коленки, повис вниз головой на перекладине, не переставая махать. Гаррати испытал некоторое облегчение, когда школа осталась позади. Очень уж много энергии расходовал тот пацан, тяжело об этом думать.
К ним присоединился Пирсон.
– Я тут задумался, – сказал он.
– Сохраняй силы, – посоветовал ему Макврайс.
– Неостроумно, брат. Совсем неостроумно.
– О чем ты задумался? – спросил Гаррати.
– О том, насколько хреново остаться предпоследним.
– Почему это так хреново? – спросил Макврайс.
– Ну… – Пирсон протер глаза, искоса взглянул на поваленную молнией сосну. – Ну, понимаешь, пережить всех, абсолютно всех, кроме этого последнего. Я подумал, что для предпоследнего тоже должен быть Приз.
– Какой? – хладнокровно осведомился Макврайс.
– Не знаю.
– Может, жизнь? – сказал Гаррати.
– Да кто же ради этого пойдет?
– Наверное, на старте – никто. Но сейчас лично я был бы счастлив получить просто право на жизнь, и к черту Приз, и к черту мои сокровенные желания. А ты как?
Пирсон надолго задумался.
– Знаешь, я не вижу в этом смысла, – сказал он извиняющимся тоном.
– Скажи ему, Пит, – попросил Гаррати.
– А что сказать? Он прав. Или ты не получаешь банана, или получаешь его целиком.
– Дурак ты, – сказал Гаррати, но без особой убежденности. Ему было жарко, он устал, и в его глазах можно было разглядеть пока еще отдаленные признаки начинающейся головной боли. Может быть, подумал он, вот так начинается солнечный удар. Может быть, так даже лучше. Просто уплыть, опуститься в сонное, полусознательное состояние и проснуться мертвым.
– Ну конечно, – охотно согласился Макврайс. – И все мы дураки, иначе бы здесь не оказались. Мне казалось, мы это давно обсудили. Мы хотим умереть, Рей. Разве это не укладывается в твоей больной, тяжелой голове? Посмотри на Олсона. Это же череп на палке. И ты будешь мне говорить, что он не хочет умереть? Второе место? Плохо даже то, что один из нас не получит того, чего он в самом деле хочет.
– Копайся в этом психодерьме сколько влезет, я тут ничего не понимаю, – помолчав, сказал Пирсон, – но только я считаю, что второго не надо вышибать.
Гаррати рассмеялся.
– Ты ненормальный, – сказал он.
Смеялся и Макврайс.
– Ты начинаешь смотреть на вещи моими глазами. Попарься еще немного, попыхти, и мы сделаем из тебя истинно верующего.
Идущие шли вперед.
У кого-то нашелся карманный термометр, и ртуть на нем поднялась до отметки семьдесят девять градусов (до восьмидесяти[50] – после того как он подержал термометр в дрожащей руке). Восемьдесят, подумал Гаррати. Восемьдесят. Не так уж и жарко. В июле бывает на десять градусов больше. Восемьдесят. При такой температуре хорошо посидеть на веранде, поесть цыпленка с салатом. Восемьдесят. Ах, окунуться бы в реку сейчас. Вода на поверхности теплая, зато она холодна внизу, там, где ноги почувствуют ее течение, увлекающее тебя к камням, около которых образовались водовороты, но ты с легкостью можешь переставлять ноги, если, конечно, весишь больше птичьего пера. И эта вода будет омывать тебя, твою кожу, волосы, промежность. При этой мысли разгоряченное тело Гаррати затрепетало. Восемьдесят. Пора раздеваться до трусов и залезать в гамак на заднем дворе с хорошей книгой в руках. Может быть, уснуть. Однажды он затащил Джен в гамак, и они лежали там рядышком и покачивались, пока его пенис не превратился в продолговатый горячий камень, торчащий внизу живота. Джен как будто не имела ничего против. Восемьдесят. О Христос всемилостивый, восемьдесят градусов.
Восемьдесят. Восемьдесятвосемьдесятвосемьдесят. Повторяй, пока это слово не лишится смысла, пока оно не уйдет.
– В жизни мне не было так жарко, – прогнусавил Скрамм. Его широкое лицо побагровело, и по нему стекал пот. Он расстегнул рубашку, обнажив волосатую грудь. Пот лился ручьями.
– Застегнулся бы ты, – посоветовал ему Бейкер. – Когда солнце начнет заходить, простудишься. И тогда тебе плохо придется.
– Жара прклятая, – проговорил Скрамм. – Я весь горю.
– Будет дождь, – заметил Бейкер. – Обязательно должен быть.
– Никто никому ни хрена не должен, – сказал Колли Паркер. – В жизни не видел такого поганого штата.
– Если не нравится, почему домой не идешь? – ответил Гаррати и глупо хихикнул.
– Да заткнись ты, задница.
Гаррати отпил немного из фляги и заставил себя не пить больше. Ему не хотелось, чтобы у него начались судороги от воды. В таком случае ему конец. У него однажды такие судороги были, и одного раза с него достаточно. Он помогал тогда ближайшим соседям, Элвеллам, косить сено. На чердаке сарая Элвеллов стояла адская жара, а они перетаскивали туда по пожарной лестнице здоровенные семидесятифунтовые тюки сена. Гаррати совершил тактическую ошибку – выпил целых три ковша ледяной воды, которую им принесла миссис Элвелл. Вдруг его грудь, живот, голову пронзила дикая боль, он поскользнулся на тюке сена и рухнул с чердака вниз, в кузов грузовика. Мистер Элвелл поддерживал его мозолистой рукой, когда он перелезал через борт и прыгал на землю, ослабевший от боли и стыда. Его отослали домой, его, мальчика, провалившего один из первых экзаменов на право считаться мужчиной. К рукам прилипла сенная труха, сено застряло в волосах. Он брел домой, и солнце поджаривало его и без того обожженный затылок.
Он содрогнулся, и тело вновь ощутило волну жара. Начинающаяся головная боль уже выглядывала из зрачков… Как же легко отпустить веревку…
Он посмотрел на Олсона. Олсон здесь. Язык почернел. Грязное лицо. Глаза слепо смотрят вперед. Я не такой, как он. Боже правый, я не такой. Ради всего святого, я не хочу умирать таким, как Олсон.
– Этот год у всех поубавит гонора, – печально сказал Бейкер. – Мы не дойдем до Нью-Хэмпшира. Могу хоть на деньги спорить.
– Два года назад был дождь со снегом, – сказал Абрахам. – А они перешли границу. Точнее говоря, четверо из них.
– Да, но жара – это другое, – возразил Йенсен. – Когда холодно, стараешься идти быстрее, чтобы согреться. А когда жарко, идешь медленнее… и застываешь. И что делать?
– Где справедливость? – сердито рявкнул Колли Паркер. – Почему бы не проводить эту сволочную Прогулку где-нибудь в Иллинойсе, где местность ровная?
– А мне Мэн нравится, – прогнусавил Скрамм. – Чего ты столько рррругаешься, Паркер?
– А ты почему все время сопли вытираешь? – огрызнулся Паркер. – Потому что я такой, вот почему. Есть возражения?
Гаррати посмотрел на часы, но они, оказывается, остановились в 10:16. Он забыл их завести.
– У кого есть часы? – спросил он.
– Дай посмотрю. – Пирсон искоса посмотрел на свои часы. – Полчаса до полной задницы, Гаррати.
Все рассмеялись.
– Скажи, сколько времени, – сказал Гаррати. – Мои часы остановились.
Пирсон опять посмотрел на часы.
– Две минуты третьего. – Он взглянул на небо. – Это чертово солнце еще долго не зайдет.
Солнце злобно взирало на Идущих поверх деревьев. Оно покинуло зенит, но тень деревьев еще не легла на дорогу. И ляжет не раньше чем через час. Гаррати казалось, что с южной стороны на горизонте он различает темно-багровую грозовую тучу, но, возможно, он всего лишь принимал желаемое за действительное.
Абрахам вяло обсуждал с Колли Паркером достоинства четырехствольных карабинов. Все прочие, судя по всему, не были расположены к разговорам, поэтому Гаррати в одиночестве шел вдоль обочины, время от времени помахивая зрителям, а чаще не обращая на них внимания.
Идущие шли теперь более плотной группой, нежели прежде. Лидеры находились теперь в поле зрения пелетона – два высоких загорелых парня; вокруг пояса у обоих были повязаны черные кожаные куртки. О них говорилось, что они якобы любовники, но Гаррати верил в это так же, как в то, что луна сделана из сыра. Ничего женственного в них не было, судя по виду, оба они – нормальные, вполне симпатичные ребята… Впрочем, это еще не доказывает, что они не голубые. А если и голубые, то ему, Гаррати, нет до этого никакого дела. Но…
Следом за ребятами в кожаных куртках шел Баркович, сразу за ним – Макврайс, не отрывающий взгляда от спины Барковича. Из заднего кармана Барковича все еще торчала желтая непромокаемая шляпа. Гаррати не показалось, что Баркович ломается. На самом деле, подумал он с горечью, выдыхается как раз Макврайс.
Позади Барковича и Макврайса шла группа из семи или восьми мальчиков, представлявшая собой некое случайно составившееся сообщество, постоянно видоизменяющееся, постоянно теряющее своих членов и принимающее новых. За этой группой шла еще одна, поменьше, затем – Скрамм, Пирсон, Абрахам, Паркер и Йенсен. Команда Гаррати. Неподалеку от старта с ними были и другие, но теперь Гаррати едва ли вспомнил бы их фамилии.
За этой группой двигались еще две, а кроме того, всю колонну пронизывала нить одиночек. Несколько человек, подобно Олсону, были предельно измучены и впали в кататонию, другие, подобно Стеббинсу, явно не нуждались в чьем бы то ни было обществе. И почти на всех лицах отпечаталось напряженное, испуганное выражение, которое Гаррати теперь так хорошо знал.
Карабины нацелились на одного из одиночек, привлекших внимание Гаррати. Это был невысокий, коренастый парнишка в истрепанной зеленой шелковой куртке. Гаррати припомнил, что последнее предупреждение было вынесено этому парнишке с полчаса назад. Он бросил на карабины быстрый настороженный взгляд и ускорил шаг. Дула карабинов тут же потеряли к нему интерес, по крайней мере на время.








