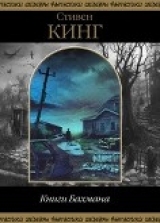
Текст книги "Книги Бахмана"
Автор книги: Стивен Кинг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 83 страниц)
– Мне – Мэрилин Монро, – заявил Макврайс. – А ты, дружище Аб, можешь заполучить Элеонору Рузвельт.[33]
Абрахам жестом попросил его замолчать. Где-то впереди солдаты вынесли предупреждение.
– Секунду. Одну секунду только, чтоб вам… – Олсон говорил медленно, словно испытывал серьезные затруднения с речью. – Вы все совершенно не то говорите. Вы все.
– Трансцендентальные свойства любви, лекция знаменитого философа и великого трахаля Генри Олсона, – сказал Макврайс. – Автора «Ямки между грудями» и других работ, посвященных…
– Погоди! – заорал Олсон. Его надтреснутый голос напоминал звук бьющегося стекла. – Можешь ты, сука, хоть одну секунду помолчать? Любовь – это залезть и вставить! Это ничто! Это мерзость, вот и все! Вы поняли?
Никто не ответил. Гаррати смотрел вперед, туда, где черные как уголь холмы смыкались с темным, усеянным точками звезд небом. Подумал о том, не начинаются ли судороги в его левой стопе. «Я хочу сесть, – зло подумал он. – К черту все, я хочу сесть».
– Любовь – это пшик! – рычал Олсон. – В жизни есть три настоящие вещи: хорошо пожрать, хорошо потрахаться и хорошо посрать. Все! А когда вы станете такими, как Фентер и Зак…
– Помолчи, – раздался сзади усталый голос. Гаррати знал, что это сказал Стеббинс, но, когда он обернулся, Стеббинс по-прежнему шагал вдоль левой кромки дороги, глядя себе под ноги.
В небе пролетел сверхзвуковой самолет и прочертил за собой длинную перистую полосу. Он летел довольно низко, так что Идущие могли видеть мигающие бортовые огни – желтый и зеленый. Бейкер снова принялся насвистывать. Глаза Гаррати почти закрылись. Ноги шли сами по себе.
Его ум стал уплывать куда-то в полудреме. Обрывки мыслей лениво бродили в голове, наслаивались друг на друга. Он вспоминал, как мама пела ему ирландскую колыбельную, когда он был маленьким… что-то о море и раковинах, о царстве подводном. Вспоминал ее лицо, огромное и прекрасное, как лицо актрисы на киноэкране. Он хотел целовать ее и любить вечно. А когда он вырастет, он на ней женится.
Затем на ее месте возникло добродушное польское личико Джен, ее светлые волосы, свободно спадающие почти до пояса. На ней был купальник-бикини и короткий пляжный халат – ведь они ехали в Рид-Бич. На Гаррати были потрепанные хлопчатобумажные шорты.
Джен уже не было. Ее лицо стало лицом Джимми Оуэнса, мальчишки, который жил в квартале от них. Гаррати было пять, и Джимми было пять, и мама Джимми застукала их, когда они в песочнице около дома Джимми играли в больницу. Оба они, голые, рассматривали друг у друга затвердевшие пенисы. Мама Джимми позвонила тогда его маме, его мама примчалась за ним, усадила на стул у себя в спальне и стала спрашивать, как ему понравится, если она проведет его без одежды по всей улице. Его засыпающее тело содрогнулось от смущения и стыда. Он расплакался тогда и умолял, чтобы она не водила его без одежды… и не говорила отцу.
Ему семь лет. Они с Джимми Оуэнсом стоят у запыленной витрины магазина строительных материалов Бэрра и рассматривают календари с изображениями голых женщин; они знают, на что они пялятся, и в то же время совсем ничего не знают, но чувствуют непонятное, постыдное, но приятное возбуждение. Что-то наползает на них. Там была одна блондинка, бедра ее были прикрыты голубой шелковой тканью, и на нее они долго смотрели, очень долго. И еще они спорили о том, что бывает под одеждой. Джимми сказал, что видел свою мать без одежды. Джимми сказал, что знает: Джимми сказал, что там волосики и открытая щель. А Гаррати не поверил Джимми, потому что рассказ Джимми был отвратителен.
Но он не сомневался, что у женщин там должно быть не так, как у мужчин, и они долго, до самой темноты обсуждали этот вопрос. Напротив магазина Бэрра находилась бейсбольная площадка, и они с Джимми наблюдали за матчем дворовых команд, убивали комаров у себя на щеках и спорили. Даже сейчас, в полусне, он чувствовал, именно чувствовал набрякший бугор между ног.
На следующий год он ударил Джимми Оуэнса по губам дулом духового ружья, и врачам пришлось наложить Джимми четыре шва на верхнюю губу. Это было за год до того, как они переехали. Он не хотел бить Джимми по губам. Это вышло случайно. Он был уверен, хотя к тому времени уже знал, что Джимми был прав, так как он сам увидел свою мать голой (он не хотел видеть ее голой, это вышло случайно). Там внизу волосики. Волосики и щель.
Ш-ш-ш, родной, это не тигр, это твой медвежонок… Море и раковины, царство подводное… Мама любит своего мальчика… Ш-ш-ш… Баю-бай…
– Предупреждение! Предупреждение сорок седьмому!
Кто-то грубо пихнул его локтем под ребро.
– Это тебе, друг. Проснись и пой. – Макврайс широко улыбался ему.
– Сколько времени? – с трудом проговорил Гаррати.
– Восемь тридцать пять.
– Но я же…
– Целую ночь проспал, – договорил за него Макврайс. – Мне это чувство знакомо.
– Ну да, мне так казалось.
– Старый обманный трюк мозга, – сказал Макврайс. – Хорошо, что ноги такой трюк не применяют, правда?
– А я их смазал, – сказал Пирсон с идиотской ухмылкой. – Хорошо, что никто до этого не додумался, правда?
Гаррати пришло в голову, что воспоминания – все равно что линия, прочерченная в пыли: чем дальше, тем более неясной она становится и тем тяжелее разглядеть ее. А в конце – ничего, кроме гладкой поверхности, пустоты, из которой ты явился на свет. А еще воспоминания чем-то похожи на дорогу. Она перед тобой, реальная, осязаемая, и в то же время начало пути, то место, где ты был в девять часов утра, очень далеко и не играет для тебя никакой роли.
Участники Прогулки одолели почти пятьдесят миль. Заговорили о том, что скоро появится джип Главного, на отметке в пятьдесят миль он ознакомится с положением дел и произнесет небольшую речь. Гаррати решил, что этот слух скорее всего не подтвердится.
Перед ними лежал долгий крутой подъем, и Гаррати решил снять куртку, но передумал. Все-таки он расстегнул «молнию» и решил некоторое время идти спиной вперед. Перед ним мелькнули огни Карибу, и он подумал о жене Лота, которая обернулась и превратилась в соляной столп.
– Предупреждение! Предупреждение сорок седьмому! Второе предупреждение, сорок седьмой!
Гаррати не сразу понял, что эти слова обращены к нему. Второе предупреждение за десять минут. К нему вновь вернулся страх. Ему вспомнился безымянный мальчик, который умер оттого, что слишком часто замедлял ход. А он делает сейчас то же самое.
Он огляделся. Макврайс, Харкнесс, Бейкер и Олсон смотрели на него. Олсон держался особенно хорошо. Гаррати уловил его напряженный взгляд. Олсон пережил шестерых. И ему хочется, чтобы Гаррати стал седьмым. Семь – счастливое число. Он желает, чтобы Гаррати умер.
– На мне что-нибудь написано? – раздраженно обратился к нему Гаррати.
– Нет, – ответил Олсон, отводя взгляд. – Нет, конечно.
Теперь Гаррати шагал сосредоточенно и решительно, размахивая руками в такт ходьбе. Без двадцати девять. Без двадцати одиннадцать – через восемь миль – у него снова не будет предупреждений. Он испытывал истерическое желание выкрикнуть вслух, что он способен преодолеть эти восемь миль, что незачем группе говорить о нем, они не увидят, как он получает билет… пока.
Туман расползался полосками по дороге. Фигуры ребят, движущиеся среди тумана, напоминали острова, почему-то пустившиеся в свободное плавание. На исходе пятидесятой мили Прогулки они прошли мимо небольшого покосившегося гаража, у дверей которого лежал проржавевший бензонасос. Гараж этот показался Идущим не более чем зловещей бесформенной тенью, выступившей из тумана. Единственным источником света в этом месте была флюоресцентная лампа в телефонной будке. Главный не появился. И никто не появился.
Они прошли поворот и увидели впереди желтый дорожный знак. По группе прошелестел слух, и прежде чем Гаррати смог прочитать надпись, он уже знал ее содержание: КРУТОЙ ПОДЪЕМ. АВТОМОБИЛЯМ ДВИГАТЬСЯ НА МАЛЫХ ПЕРЕДАЧАХ.
Вздохи, стоны. Где-то впереди раздался веселый голос Барковича:
– Вперед, братцы! Кто наперегонки со мной?
– Ты, маленькое недоразумение, захлопни свою вонючую пасть, – тихо ответил кто-то.
– Обгони-ка меня, дурила! – взвизгнул Баркович. – Три-четыре! Ну, обгони меня!
– У него ломается голос, – сказал Бейкер.
– Нет, – возразил Макврайс, – это он сам выламывается. Такие люди всегда очень много выламываются.
Очень тихий, мертвенный голос Олсона:
– Кажется, мне не одолеть этот холм. Четыре мили в час я не сделаю.
Они уже подошли к подножию холма. Вот-вот начнется подъем. Из-за тумана вершины не было видно. Вполне возможно, подумал Гаррати, этот подъем не кончится никогда.
Они шли вверх.
Гаррати обнаружил, что вверх идти легче, если смотреть под ноги и слегка наклонить корпус вперед. Надо смотреть вниз, на узенькую полоску земли между стопами, и тогда возникает впечатление, что идешь по горизонтальной поверхности. Конечно, не удастся убедить себя, что легкие работают в нормальном режиме и глотка не пересыхает, поскольку это не так.
Как ни странно, опять прошелестел слух – значит, у кого-то еще хватало дыхания. Говорили о том, что в гору предстоит идти четверть мили. Еще говорили, что в гору предстоит идти две мили. Еще говорили, что никогда ни один Идущий не получал билета на этом холме. Еще говорили, что в прошлом году здесь трое получили билеты. И наконец разговоры прекратились.
– Я не могу. Я больше не могу, – монотонно повторял Олсон. Он дышал коротко и часто, как измученная собака, но все же продолжал идти, и все они продолжали идти. Стали слышны негромкие хрипы в груди и неровное дыхание Идущих. Других звуков не было – только бормотание Олсона, шарканье множества подошв и треск двигателя автофургона, который двигался вдоль обочины рядом с группой.
Гаррати почувствовал, как внутри у него растет панический страх. Он вполне может здесь умереть. Ничего особенного. Он уже задремал на ходу и заработал два предупреждения. До последней черты осталось совсем немного. Стоит ему сбиться с шага, и он получит третье, последнее предупреждение. А затем…
– Предупреждение! Предупреждение семидесятому!
– По твою душу, Олсон, – сказал, тяжело дыша, Макврайс. – Соберись. Я хочу посмотреть, как на спуске ты спляшешь, как Фред Астор.[34]
– Тебе-то какое дело? – огрызнулся Олсон.
Макврайс не ответил. Олсон же нашел в себе еще какие-то силы и зашагал с нужной скоростью. Гаррати испуганно подумал: те силы, которые отыскал Олсон, – не последний ли его запас? А еще он вспомнил про Стеббинса, бредущего в хвосте группы. Как ты там, Стеббинс? Не устал еще?
Впереди номер 60, парень по фамилии Ларсон, неожиданно сел на землю. Получил предупреждение. Группа разделилась, чтобы обойти его, как расступились воды Чермного моря перед сынами Израилевыми.[35]
– Я просто отдохну чуть-чуть, можно? – сказал Ларсон с доверчивой, подкупающей улыбкой. – Я сейчас не могу больше идти. – Его улыбка стала шире, и он продемонстрировал ее солдату, который спрыгнул с автофургона с карабином в одной руке и с хронометром из нержавеющей стали в другой.
– Предупреждение шестидесятому, – сказал солдат. – Второе предупреждение.
– Послушайте, я нагоню, – очень убедительно заговорил Ларсон. – Я просто отдыхаю. Не может же человек все время идти. Ну не все же время! Правильно я говорю, ребята?
Олсон прошел мимо него с коротким стоном и отшатнулся, когда Ларсон попытался дотронуться до его штанины.
Гаррати почувствовал, как кровь пульсирует в висках. Ларсон получил третье предупреждение… Теперь до него дойдет, подумал Гаррати, вот сейчас он поднимется и рванет дальше.
По всей видимости, до Ларсона наконец дошло. Он вернулся к реальности.
– Эй! – послышался за спинами Идущих его голос, высокий и встревоженный. – Эй, секундочку, не делайте этого, я встаю. Эй, не надо! Не…
Выстрел. Путь в гору продолжался.
– Девяносто три бутылки на полке, – тихо проговорил Макврайс.
Гаррати не стал отвечать. Он смотрел под ноги и шел вперед, полностью сосредоточившись на единственной задаче: добраться до вершины холма без третьего предупреждения. Этот подъем, этот чудовищный подъем должен же скоро кончиться. Он обязательно кончится.
Кто-то впереди издал пронзительный, задыхающийся крик, и карабины выстрелили одновременно.
– Баркович, – хрипло сказал Бейкер. – Это Баркович, я уверен.
– А вот и нет, козел! – отозвался из темноты Баркович. – Ошибка – сто процентов!
Они так и не увидели парня, который сошел вслед за Ларсоном. Он шел в авангарде, и его успели убрать с дороги до того, как основная группа подошла к месту его гибели. Гаррати решился поднять взгляд от дороги и тут же об этом пожалел. Он увидел вершину холма – едва-едва увидел. До нее оставалось примерно столько, сколько от одних футбольных ворот до других.[36] Все равно что сто миль. Никто ничего не говорил. Каждый погрузился в свой отдельный мир страданий и борьбы за жизнь. Невероятно долгие секунды, долгие, как часы.
Неподалеку от вершины от основной трассы отходила незаасфальтированная проезжая дорога, и на ней стоял фермер с семейством. Старик со сросшимися бровями, женщина с мелкими острыми чертами лица и трое подростков – судя по виду, все трое туповатые, – молча смотрели на проходящих мимо ходоков.
– Ему бы… вилы, – задыхаясь, выговорил Макврайс. По его лицу струился пот. – И пусть… его… рисует… Грант Вуд.[37]
Кто-то крикнул:
– Привет, папаша!
Ни фермер, ни его жена, ни его дети не ответили. Они не улыбались. Не держали табличек. Не махали. Они смотрели. Гаррати вспомнил вестерны, которые он во время оно смотрел по субботам; там герой оставался умирать в пустыне, а над его головой кружили сарычи. Семейство фермера осталось позади, и Гаррати был этому рад. Он подумал, что этот фермер, и его жена, и его туповатые отпрыски будут стоять на этом месте первого мая и на следующий год… и еще через год… и еще. Скольких мальчишек застрелили на их глазах? Дюжину? Или двоих? Гаррати не хотелось об этом думать. Он сделал глоток из фляги, прополоскал рот, пытаясь смыть запекшуюся слюну, затем выплюнул воду.
Подъем не кончался. Впереди Толанд потерял сознание и был убит после того, как оставшийся около него солдат вынес бесчувственному телу три предупреждения. Гаррати казалось, что они идут в гору по меньшей мере месяц. Ну да, как минимум месяц, и это еще скромная оценка, потому что на самом деле идут они четвертый год. Он хихикнул, опять набрал в рот воды, прополоскал и на этот раз проглотил воду. Судороги пока нет. Сейчас судорога его доконала бы. Но она может приключиться. Может, из-за того, что кто-то приделал к его туфлям свинцовые подошвы, когда он отвернулся.
Девятерых уже нет, и ровно треть от этого числа легла здесь, на этом подъеме. Главный предложил Олсону устроить им ад, но это не ад, это нечто весьма похожее. Очень, очень похожее…
О Господи Иисусе…
Гаррати вдруг понял, что у него кружится голова и он тоже вполне может потерять сознание. Он поднял руку и несколько раз с силой ударил себя по лицу.
– Ты в порядке? – спросил его Макврайс.
– Теряю сознание.
– Вылей… – Натужный, свистящий вздох. – Флягу… на голову.
Гаррати последовал совету. Нарекаю тебя Реймондом Дейвисом Гаррати, pax vobiscum.[38] Очень холодная вода. Но головокружение прошло. Вода пролилась за шиворот, и по телу побежали леденящие ручейки.
– Флягу! Сорок седьмому! – Он вложил в этот крик столько сил, что немедленно вновь почувствовал себя вымотанным до предела. Надо было чуть-чуть подождать.
Один из солдат трусцой подбежал к нему и протянул свежую флягу. Гаррати почувствовал, как непроницаемые мраморные глаза солдата оценивающе смотрят на него.
– Уходи, – грубо сказал он, принимая флягу. – Тебе платят за то, чтобы ты в меня стрелял, а не глазел.
Солдат удалился. Лицо его не дрогнуло. Гаррати заставил себя чуть прибавить шагу.
Они шли вперед, билетов никто не получал, и в девять часов они были на вершине. Двенадцать часов они в пути. Но это не важно. Важно то, что на вершине их обдувает свежий ветер. И птица пролетела. И мокрая рубаха прилипла к спине. И воспоминания в мозгу. Вот что важно, и Гаррати сознательно отдался этим ощущениям. Они принадлежат ему, он их еще не утратил.
– Пит!
– Да.
– Послушай, я рад, что живой.
Макврайс не ответил. Теперь они шли под гору. Идти стало легко.
– Я очень постараюсь выжить, – сказал Гаррати почти виноватым тоном.
Они прошли очередной поворот. До Олдтауна и сравнительно прямой главной магистрали оставалось еще сто пятнадцать миль.
– А разве не это – наша главная задача? – помолчав, сказал Макврайс. Голос у него был теперь глухой и хриплый, словно доносился из пыльного погреба.
Некоторое время все молчали. Бейкер – у него пока не было предупреждений – шел ровной легкой походкой, засунув руки в карманы; голова его слегка покачивалась в такт ходьбе. Олсон снова беседовал с Пресвятой Богородицей. Лицо его казалось белым пятном в ночной тьме. Харкнесс решил поесть.
– Гаррати! – Снова Макврайс.
– Слушаю.
– Ты когда-нибудь видел конец Долгой Прогулки?
– Нет, а ты?
– Черт возьми, нет. Просто я подумал – ты близко живешь и вообще…
– Мой отец Прогулки терпеть не мог. Однажды он показал мне Идущих – ну, как урок, что ли. Единственный раз.
– Я видел.
Гаррати чуть не подпрыгнул, услышав этот голос. Заговорил Стеббинс. Он шел теперь почти рядом с ними, по-прежнему наклонив голову вперед; его светлые волосы походили на какой-то непонятный нимб.
– И как это было? – спросил Макврайс. Голос его стал как будто моложе.
– Тебе не хочется знать, – ответил Стеббинс.
– Я же спросил, правда?
Стеббинс не ответил. Теперь он казался Гаррати интереснее, чем когда-либо. Стеббинс не выдыхался. Он не выказывал никаких признаков изнеможения. Он шел, ни на что не жалуясь, и с самого старта не получил ни одного предупреждения.
– Так как же это выглядело? – услышал он собственный голос.
– Я видел конец Прогулки четыре года назад, – сказал Стеббинс. – Мне было тринадцать лет. Все закончилось примерно в шестнадцати милях после границы Нью-Хэмпшира. Кроме полиции штата, там были Национальная гвардия и шестнадцать взводов федеральной армии. Зрители стояли по обе стороны дороги в шестьдесят рядов на протяжении пятидесяти миль. Человек двадцать или больше затоптали насмерть. Так вышло потому, что зрители пытались идти вместе с участниками, чтобы увидеть окончание. Я устроился в первом ряду. Отец меня устроил.
– Чем твой отец занимается? – спросил Гаррати.
– Служит в Сопровождении. Он все точно рассчитал. Мне не пришлось никуда идти. Прогулка закончилась на моих глазах.
– Что произошло? – негромко спросил Олсон.
– Я услышал их прежде, чем увидел. Все зрители их слышали. Это было похоже на накатывающую на нас звуковую волну. А в поле зрения они оказались только через час. Они не смотрели на толпу, ни тот, ни другой. Мне показалось, они даже не знали, что на них смотрят. Смотрели они только на дорогу. Их как будто распяли, а потом сняли с крестов и велели идти, не вынув гвозди из подошв.
Теперь уже все слушали рассказ Стеббинса. Ужас накрыл их всех, и все молчали.
– Толпа кричала так, как если бы они были в состоянии слышать приветствия. Одни выкрикивали имя одного пацана, другие – второго, но на самом деле можно было расслышать только Вперед… Вперед… Вперед. Меня сжали со всех сторон так, что я не мог пошевелиться. Один парень рядом со мной обмочился, или у него случился оргазм, трудно сказать.
Они прошли мимо меня. Один – высокий блондин в расстегнутой рубахе. Одна подошва у него оторвалась или отклеилась и шлепала по дороге. А второй вообще шел босиком. Носки его кончались у щиколоток. Нижняя часть… ну, стерлась в дороге, понимаете? Ступни у него были малиновые. По-моему, он их уже не чувствовал. Может, их можно было бы потом вылечить. Может быть.
– Перестань. Бога ради перестань. – Макврайс. Судя по голосу, ему стало плохо.
– Ты сам хотел знать, – почти сердечно отозвался Стеббинс. – По-моему, ты сам так говорил?
Никакого ответа. Мотор автофургона взвыл, машина набрала скорость, и кто-то впереди получил предупреждение.
– Проиграл высокий блондин. Я все видел. Они только чуть-чуть отошли от меня. Он выбросил вверх обе руки – как Супермен. Только он не взлетел, а упал вниз лицом и через тридцать секунд получил билет, потому что у него уже было три. У обоих было по три.
Толпа начала вопить. Все вопили и вопили, а потом заметили, что тот парень, который победил, пытается что-то сказать. Все замолчали. Он упал на колени, как перед молитвой, но он не молился, он просто плакал. А потом он пополз на коленях к блондину, прикрыл ему лицо полой его же рубашки. А потом он заговорил, но мы ничего не услышали. Он что-то говорил блондину в рубашке. Он разговаривал с мертвым. К нему подошли солдаты, объявили ему, что он выиграл Приз, и спросили, с чего он хочет начать.
– И что он сказал? – спросил Гаррати. Ему пришло в голову, что, задав этот вопрос, он поставил на карту жизнь.
– Ничего он им тогда не сказал, – ответил Стеббинс. – Он разговаривал с мертвым. Рассказывал ему что-то, но нам ничего не было слышно.
– А что было потом? – спросил Пирсон.
– Не помню, – отстраненно ответил Стеббинс.
Больше никто не сказал ни слова. Гаррати почувствовал приступ паники, как если бы он застрял в узкой подземной шахте и не мог выбраться. Впереди кто-то получил третье предупреждение и в отчаянии что-то прокричал, как будто прокаркал. «Господи, не допусти, чтобы сейчас кого-нибудь застрелили, – взмолился про себя Гаррати. – Я сойду с ума, если сейчас услышу выстрелы. Прошу Тебя, Боже, прошу Тебя».
Через несколько минут в ночи разнесся звук смертоносных выстрелов. Пришел черед невысокого мальчишки в свободной красно-белой шерстяной футболке. Сначала Гаррати подумал, что матери Перси больше не придется беспокоиться о сыне, но погиб не Перси. Куинси или Квентин – что-то в этом духе.
Гаррати не сошел с ума. Он повернул голову, чтобы обругать Стеббинса – скажем, спросить его, как он себя чувствует после того, как внушил парню такой ужас в его последние минуты, но Стеббинса уже не было рядом, он занял свою привычную позицию.
Они шли вперед – девяносто человек.
Глава 5
Ты не сказал правду, поэтому придется тебе отвечать за последствия. Боб Баркер «Правда или последствия»
В девять часов сорок минут вечера, бесконечного вечера первого мая, Гаррати избавился от одного из двух предупреждений. После парня в футболке еще двое Идущих получили билеты. Гаррати почти не обратил на это внимания. Он тщательно исследовал самого себя.
Одна голова; в ней наблюдается некоторый беспорядок и разброд мыслей, но в целом она в неплохом состоянии. Одна шея, затекшая. Две руки, с ними нет проблем. Один корпус, с ним тоже порядок, если не считать ноющего ощущения в желудке, не вполне удовлетворенном пищевыми концентратами. Две чертовски усталые ноги. Мускулы болят. Он спросил себя, как долго эти ноги выдержат его вес самостоятельно, как долго мозгу не придется кричать на них, наказывать их, заставлять работать сверх всяких разумных пределов, чтобы в его теле не застряли пули. Как скоро эти ноги сведет судорога, после чего они подогнутся, откажутся служить и наконец прекратят борьбу и остановятся.
Ноги устали, но пока они как будто еще в приличной форме.
Две ступни. Болят. Они пострадали больше всего, нет смысла отрицать это. Он крупный парень. При каждом шаге с одной ступни на другую переносится сто шестьдесят фунтов веса. Болят подошвы. Время от времени их пронзает стреляющая боль. Большой палец на левой ноге прорвал носок (он вспомнил рассказ Стеббинса, и ползучий ужас проник в мозг) и неприятно трется о туфлю. И все-таки эти ступни действуют, на них до сих пор нет волдырей, и он чувствует, что его ступни пока также в очень неплохом состоянии.
«Гаррати, – ободрил он себя, – ты в отличной форме. Двенадцать уже мертвы, возможно, вдвое больше страдают сейчас от боли, а с тобой все в порядке. Ты хорошо идешь. Молодец. Ты живой».
Разговоры, совершенно умолкшие в ходе рассказа Стеббинса, возобновились. Раз человек жив, ему свойственно разговаривать. Янник, номер 98, намеренно громко обсуждал с Уайменом, 97-м, генеалогическое древо каждого из солдат, едущих в фургоне. Оба сошлись на том, что состоит оно в основном из грязных цветных нечесаных подонков.
Пирсон неожиданно спросил у Гаррати:
– Тебе ставили клизму?
– Клизму? – переспросил Гаррати и задумался над вопросом. – Нет. По-моему, нет.
– Эй, ребята, а кому-нибудь ставили? – продолжал расспросы Пирсон. – Выкладывайте правду.
– Мне ставили, – признался Харкнесс и хихикнул. – Однажды, когда я еще маленький был, я на Хэллоуин сожрал чуть не целую сумку конфет, и мама поставила мне клизму.
– И тебе понравилось? – настаивал Пирсон.
– Ты что, обалдел? Кому понравится получить четверть кварты теплой мыльной воды в…
– Моему младшему брату нравится, – печально сказал Пирсон. – Я спросил сопляка, не жалеет ли он, что я иду, а он остается, и он говорит – нет, мол, мама, может, ему клизму поставит, если он будет хорошо себя вести. Любит он их.
– Гадость какая, – довольно громко сказал Харкнесс. Пирсон угрюмо взглянул на него.
– Я тоже так думаю, – сказал он.
Через несколько минут к группе присоединился Дейвидсон и принялся рассказывать о том, как однажды на Стебенвилльской ярмарке он напился пьяным и заполз в палатку, где торговали спиртным, и там его двинула по голове какая-то жирная матрона. Когда Дейвидсон объяснил ей (так он сказал), что он пьян и решил, что в этой палатке делают татуировку, раскрасневшаяся жирная матрона позволила ему (так он сказал) пощупать ее немного. Дейвидсон сказал ей, что ему хотелось наколоть на живот звездно-полосатый флаг.
Арт Бейкер рассказал, как однажды участвовал в состязании, в котором мальчишки поджигали собственные газы, и некто Дейви Попхэм сжег все волосы в заднице (а их у него там было немало) и даже обжег спину. Запах был как от паленой травы, сказал Бейкер. Харкнесс расхохотался так, что заработал предупреждение.
И пошло, и пошло. Одна крутая история следовала за другой, и в конце концов сложившийся карточный домик стал рассыпаться. Еще один человек получил предупреждение, и вскоре после этого второй Бейкер, Джеймс, заработал билет. Хорошее настроение группы улетучилось. Заговорили о девочках, разговоры начали спотыкаться и приобрели сентиментальный характер. Гаррати ничего не говорил о Джен, но когда наступили мучительные десять часов и молочно-белые клочья тумана стали явственно различимы в угольно-черной мгле, ему подумалось, что Джен – самое лучшее создание из всех, кого он когда-либо знал.
Они прошли короткий ряд ртутных фонарей, прошли небольшое селение, где все двери и ставни на окнах домов были закрыты. Переговаривались они вполголоса, и настроение у всех было подавленное. В дальнем конце селения был магазин, и на скамейке около него сидела парочка. И он, и она спали, склонив головы друг к другу. У них была табличка, надпись на которой невозможно было прочитать. Девушка совсем юная, на вид не больше четырнадцати. Молодой человек одет в спортивную куртку, застиранную настолько, что она уже никому не покажется спортивной. Идущие осторожно прошли мимо, стараясь не наступить на их тени на асфальте.
Гаррати оглянулся, не сомневаясь, что шум мотора автофургона разбудил их. Но они спали и не подозревали, что Событие уже обошло их стороной. Он подумал, что девушке, должно быть, здорово влетит от отца. Она совсем-совсем молоденькая. Может быть, подумал он, на их табличке написано УРА, УРА, ГАРРАТИ, ПАРЕНЬ ИЗ МЭНА. Почему-то ему стало слегка не по себе от этой мысли. Оставалось надеяться, что у них другая табличка.
Он съел последний концентрат и почувствовал себя чуть лучше. Теперь у него ничего не осталось на случай, если Олсон будет клянчить. Что-то непонятное творится с Олсоном. Шесть часов назад Гаррати мог бы поклясться, что Олсон на пределе. Но он продолжал идти, и у него уже не осталось предупреждений. Гаррати решил, что человек на многое способен, когда его жизнь висит на волоске. Они уже отшагали около пятидесяти четырех миль.
Последние разговоры утихли, когда безымянное селение осталось позади. Примерно час они шли в молчании, и Гаррати снова стал пробирать холодок. Он доел мамино печенье, смял фольгу и швырнул ее в канаву. Порвана еще одна ниточка, связывавшая его с большой жизнью.
Макврайс извлек из своего небольшого рюкзака зубную щетку и теперь сосредоточенно всухую чистил зубы. Все идет своим чередом, с удивлением подумал Гаррати. Если рыгнешь – надо извиниться. Надо махать в ответ людям, которые машут тебе, потому что иначе невежливо. И никто особенно не спорит ни с кем (Баркович не в счет), потому что спорить тоже невежливо. Все идет своим чередом.
А так ли? Он вспомнил, как Макврайс рычал на Стеббинса, чтобы тот заткнулся. Как Олсон тупо и униженно взял сыр, как собака берет подачку у наказавшего ее хозяина. Здесь есть какой-то чересчур резкий контраст между белым и черным.
В одиннадцать часов почти одновременно произошло несколько событий. Прошелестел слух, что дневной ливень смыл деревянный мост, через который им предстояло перейти. Когда отсутствует мост, Прогулка временно останавливается. Измученные Идущие совсем чуть-чуть повеселели, и Олсон очень тихо пробормотал:
– Слава Богу.
Почти тут же Баркович обрушил поток брани на идущего с ним рядом товарища, приземистого, некрасивого парня с дурацкой фамилией Рэнк. Рэнк ударил Барковича кулаком – что строжайше запрещено правилами, – и получил за это предупреждение. Баркович даже не сбился с шага. Он только опустил голову, сгруппировался и завопил:
– Эй ты, сукин сын! Я на твоей могиле еще спляшу! Давай, дурила, поднимай ноги! Поборись со мной, поборись!
Рэнк нанес ему еще один удар. Баркович уклонился, но толкнул соседа. Оба получили предупреждение. Солдаты внимательно, но равнодушно наблюдали за развитием событий – как люди наблюдают за муравьями, дерущимися из-за крошки хлеба, с горечью подумал Гаррати.
Рэнк зашагал быстрее; на Барковича он не смотрел. Баркович же, разъяренный предупреждением (толкнул он Гриббла, того самого, который хотел в лицо назвать Главного убийцей), кричал:
– Эй, Рэнк, твоя матушка сосет конец на Сорок второй улице!
Тогда Рэнк обернулся и пошел на Барковича.
Со всех сторон полетели крики:
– Сделай его! Убери дерьмо!
Рэнк не обратил на них никакого внимания. Он шел на Барковича опустив голову и мычал.
Баркович сделал шаг в сторону. Рэнк ступил на мягкую обочину, споткнулся, ноги у него разъехались на песке, и он с размаху сел. Третье предупреждение.








