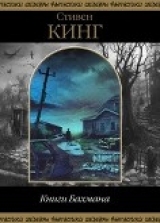
Текст книги "Книги Бахмана"
Автор книги: Стивен Кинг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 83 страниц)
– Давай, дурила! – дразнил его Баркович. – Вставай!
Рэнк действительно встал. Затем поскользнулся и упал навзничь. Теперь он казался сонным или одурманенным.
Третье событие, имевшее место около одиннадцати, – смерть Рэнка. Щелкнули затворы карабинов. Наступившую тишину прорезал громкий, чистый голос Бейкера:
– Теперь ты, Баркович, уже не ублюдок. Ты убийца.
Грохнули карабины. Пули ударили с такой силой, что подбросили тело Рэнка. Затем оно замерло. Рэнк остался лежать, раскинув руки. Одна его рука оказалась на дороге.
– Он сам виноват! – завопил Баркович. – Вы же видели, он меня первый ударил! Совет Восьмой! Совет номер Восемь!
Никто ничего не говорил.
– Ну и пошли вы все! Идите все на фиг!
– Иди к нему, Баркович, и спляши на его могиле, – спокойно сказал Макврайс. – Развлеки нас. Пожалуйста, буги на могиле.
– Твоя мать тоже отсасывает на Сорок второй улице, урод со шрамом! – хрипло отозвался Баркович.
– Жду не дождусь, когда твои мозги разлетятся по дороге, – тихо произнес Макврайс. Его рука потянулась к шраму и принялась тереть, тереть, тереть. – Мне тогда станет веселее, маленький вонючий убийца.
Баркович что-то пробормотал себе под нос. Остальные участники Прогулки отошли от него как от прокаженного, и он шагал теперь совершенно один.
К одиннадцати десяти они отшагали примерно шестьдесят миль и все еще не видели никаких признаков моста. Гаррати уже начал думать, что коллективный разум на сей раз дал маху, но тут они поднялись на небольшой холм и увидели огни и множество озабоченно снующих туда-сюда людей.
Фары нескольких грузовиков освещали деревянный мост, проложенный над быстрой речкой.
– Как я люблю этот мост, – сказал Олсон, доставая из пачки Макврайса сигарету. – Честное слово, люблю.
Но когда они подошли ближе, Олсон издал негромкий утробный звук и швырнул сигарету в траву. Одну из опор моста и две доски действительно смыло дождем, но солдаты Взвода трудились вовсю. На место опоры они установили телеграфный столб, предварительно отпилив от него конец нужной длины и установив для страховки импровизированный якорь – какой-то огромный цементный цилиндр. Заменить доски у них не было возможности, поэтому на их место они уложили откидной борт грузовика. Это, конечно, не ремонт, но проход по мосту обеспечен.
– Держится на честном слове, – сказал Абрахам. – Может, он развалится, если передние притопнут.
– Маловероятно, – возразил Пирсон и добавил жалобным, надтреснутым голосом: – Ах черт!
Авангард – теперь он состоял всего из троих или четверых – вступил на мост. Послышалась гулкая дробь шагов. И вот они уже на той стороне, идут вперед не оборачиваясь.
Автофургон остановился. Из него выпрыгнули двое солдат и пошли рядом с мальчиками. Еще двое на той стороне сопровождали авангард. Шаги основной группы загромыхали на мосту.
Двое мужчин в плащах и зеленых резиновых сапогах стояли, прислонясь к грузовику с надписью ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ на борту. Они курили и наблюдали за Идущими. Когда мимо них проходила группа, состоявшая из Дейвидсона, Макврайса, Олсона, Пирсона, Харкнесса, Бейкера и Гаррати, один из них выбросил сигарету в реку и сказал:
– Вот он. Вот Гаррати.
– Держись, старик! – крикнул второй. – Я поставил на тебя десять баксов! Ты идешь двенадцать к одному!
Гаррати разглядел в кузове грузовика очертания припорошенного опилками телеграфного столба. Эти мужики верят, что он, хочет того или нет, не сойдет с дистанции. Он приветственно поднял одну руку и вступил на мост. Задний борт грузовика, заменивший выпавшие доски, заскрипел под ногами, а потом мост остался позади. Под ногами снова была твердая дорога, и только клиновидные отблески света на стволах деревьев напоминали Идущим о передышке, которую они почти получили. Вскоре и отблески пропали.
– Долгую Прогулку когда-нибудь останавливали? – спросил Харкнесс.
– По-моему, нет, – ответил Гаррати. – Опять собираешь материал для книги?
– Нет, – сказал Харкнесс. Судя по голосу, он устал. – Так, личный вопрос.
– Она останавливается ежегодно, – произнес за их спинами Стеббинс. – Один раз.
Ему никто не ответил.
Примерно через полчаса Макврайс подошел к Гаррати и некоторое время молча двигался рядом. Затем он спросил – очень тихо:
– Как думаешь, Рей, ты победишь?
Гаррати долго, долго думал.
– Нет, – сказал он наконец. – Нет, я… Нет.
Откровенное признание испугало его. Он снова представил, как получает билет, получает пулю; представил последние мгновения окончательного понимания, когда он увидит перед собой бездонные дула карабинов. Ноги его застынут. Желудок заноет. Мускулы, мозг, гениталии сожмутся, живительное кровообращение прекратится.
Он сглотнул. В горле пересохло.
– Сам-то ты что думаешь?
– Думаю, нет, – сказал Макврайс. – Часов в девять я перестал верить, что у меня есть реальный шанс. Знаешь, я… – Он откашлялся. – Об этом трудно говорить… Знаешь, я ввязался в это дело с открытыми глазами. – Широким жестом он указал на остальных. – У большинства из них глаза были закрыты, понимаешь? Я знал свои шансы. Но я не принял в расчет людей. Думаю даже, я не представлял глубинной правды о том, что это такое. Наверное, я представлял себе все это так: когда первого из нас оставят силы, они прицелятся в него, из их ружей вылетят бумажки, на которых будет написано «пиф-паф»… Главный поздравит нас с первым апреля, и мы разойдемся по домам. Понимаешь, о чем я говорю?
Гаррати вспомнил страшный шок, испытанный им, когда Керли рухнул в лужу крови и мозгов, когда его мозги забрызгали асфальт и белую полосу.
– Да, – сказал он, – я знаю, о чем ты говоришь.
– Я не сразу понял правду, но до меня стало доходить быстрее после того, как я лишился иллюзий. Иди или умрешь – вот мораль Прогулки. Простейшая альтернатива. Неверно, что выживает тот, кто сильнее физически; в этом состояла моя ошибка, повлиявшая на решение участвовать. Если бы это было так, у меня был бы небольшой шанс. Но бывает, что слабый человек может поднять автомобиль, если под колесами лежит его жена. Это мозг, Гаррати. – Голос Макврайса упал до шепота. – Этого не может ни человек, ни Бог Это что-то… в мозгу.
В темноте прокричал козодой. Туман поднимался.
– Некоторые из них будут еще долго идти вопреки всем биологическим и химическим законам. Ты читал, как в прошлом году один парень прополз две мили – со скоростью четыре мили в час? У него одновременно свело обе ноги. Посмотри на Олсона: он давно обессилел и все-таки идет. А эта сволочь Баркович? В него как будто залили высокооктановый бензин, он идет на одной ненависти и даже не выдохся. Думаю, у меня так не получится. – Макврайс смотрел вперед, в темноту; белый шрам выступил на его изможденном лице. – Мне кажется… когда я совсем устану… наверное, я просто сяду.
Гаррати молчал, но он встревожился… Очень встревожился.
– По крайней мере я переживу Барковича, – сказал Макврайс – скорее самому себе. – Клянусь, на это я способен.
Гаррати взглянул на часы. 11:30. Они прошли перекресток, где сидел в машине сонный полицейский. Транспорта, который он должен был задерживать, не было. Они прошли мимо, миновав круг, ярко освещенный единственным ртутным фонарем. И вновь их обступила угольно-черная мгла.
– Теперь можно убежать в лес, и никто нас не увидит, – задумчиво сказал Гаррати.
– Попробуй, – хмыкнул Олсон. – У них инфракрасные прожектора и еще видов сорок всяких следящих приборов. Высокочувствительные микрофоны, к примеру. Они слышат все, о чем мы говорим. Наверное, они при желании могут услышать твое сердцебиение. Рей, тебя видят как днем.
Словно в подтверждение его слов кто-то сзади получил второе предупреждение.
– Давайте наслаждаться жизнью, – мягко сказал Бейкер. Его медлительный южный говор вдруг показался Гаррати странным и неуместным.
Макврайс отошел. Темнота как будто изолировала их друг от друга, и Гаррати почувствовал себя бесконечно одиноким. Время от времени кто-нибудь чертыхался и вскрикивал, когда из леса доносился какой-нибудь звук, и Гаррати с некоторым удивлением понял, что ночной поход среди мэнских лесов должен стать нешуточным испытанием для городских ребят. Слева от дороги послышалось загадочное уханье совы. А справа что-то трещало, потом становилось тихо, опять что-то трещало. Опять раздался возглас:
– Что это было?
Весенние кучевые облака начали собираться над головой, обещая новый дождь. Гаррати поднял воротник куртки и прислушался к звуку своих шагов. Простой прием, помогающий сосредоточиться и лучше видеть в темноте. Утром невозможно было различить шорох собственных шагов, он терялся среди топота еще девяноста девяти пар ног, не говоря уже о шуме мотора фургона. А сейчас он без труда слышал свои шаги. Он знал свою походку, своеобразный звук, который время от времени издавала его левая туфля. Ему казалось, что он слышит свои шаги так же ясно, как удары сердца. Самый главный звук, означающий жизнь или смерть.
В глазах у него защипало, они как будто ввалились. Веки отяжелели. Энергия вытекала из него через какую-то пробоину в теле. Предупреждения выносились с удручающей регулярностью, но выстрелов не было. Баркович заткнулся. Стеббинс снова стал прячущимся сзади невидимым призраком.
Стрелки наручных часов показывали 11:40.
Скоро придет час ведьм, подумал он. Час, когда раскрываются могилы и сгнившие мертвецы покидают их. Час, когда хорошие мальчики засыпают. Час, когда прекращаются любовные игры. Час, когда запоздавшие пассажиры клюют носом в вагонах метро. Час, когда по радио передают Гленна Миллера,[39] когда бармены подумывают о том, чтобы убирать стулья, когда…
Перед ним опять возникло лицо Джен. Он вспомнил, как целовался с ней в Рождество – почти полгода назад, под веткой омелы,[40] которую его мать каждый год вешала на большую люстру в кухне. Детские глупости. Вспомни, где ты. Ее удивленные мягкие губы не сопротивлялись. Милый поцелуй. Он мечтал о таком. Его первый поцелуй. Он еще раз поцеловал ее, когда провожал домой. Они стояли у ее дома, прислушиваясь к беззвучному рождественскому снегопаду. И это было больше, чем милый поцелуй. Он обвил руками ее талию. Она обвила его шею, сцепила пальцы, глаза ее закрылись (а он подглядывал), он чувствовал – конечно, сквозь пальто, – как ее мягкая грудь прижимается к его груди. Он хотел сказать, что любит ее, но нет… Это было бы слишком быстро.
А после этого они учили друг друга. Она учила его, что книги надо просто читать и откладывать в сторону, а не изучать (он был зубрилой, что удивило Джен; ее удивление сначала рассердило его, но потом он сумел и сам увидеть в этом смешную сторону). Он учил ее вязать. И это тоже было забавно. Вязать его научил не кто-нибудь, а отец… до того, как Взвод забрал его. А отца Гаррати учил вязать его отец. По-видимому, вязание было чем-то вроде семейной традиции среди мужчин клана Гаррати. Джен увлеклась вязанием и вскоре превзошла его в мастерстве. Он пыхтел над шарфами и варежками, а она принялась за свитера, джемпера, затем перешла к вязанию крючком и даже к плетению кружев; от этого она, впрочем, отказалась, едва овладев мастерством. Сказала, что это пустая забава.
А еще он научил ее танцевать румбу и ча-ча-ча, танцы, которым учился сам, проводя каждое воскресное утро (казавшееся ему бесконечным) в Школе современных танцев миссис Амелии Доргенс… Его туда отдала мать, а он сопротивлялся как мог. Но мать, к счастью, была упряма.
Он думал об игре света и тени на почти безупречном овале лица Джен, о ее походке, о модуляциях голоса, о непринужденном и манящем покачивании бедер и с ужасом спросил себя, что же он делает здесь ночью на дороге. Он хотел оказаться рядом с ней. Хотел повторить все, но иначе. Ему вспомнилось загорелое лицо Главного, его седоватые усы, очки с зеркальными стеклами, и его охватил такой страх, что ноги подкосились, как резиновые. Зачем я здесь? – пронесся в голове отчаянный вопрос, и не было на него ответа, поэтому вопрос вернулся: Зачем я…
В темноте грохнули выстрелы, и послышался звук, который ни с чем невозможно спутать: человеческое тело плюхнулось, как мешок, на дорогу. Страх вернулся, обжигающий, удушливый страх, от которого хотелось нырнуть в кусты и бежать, бежать без оглядки, пока он снова не окажется в безопасности, рядом с Джен.
Макврайс идет, чтобы пережить Барковича. А он будет идти ради Джен. Родственники и подруги участников Долгой Прогулки имеют право на место в передних рядах. Значит, он увидит ее.
Он снова вспомнил, как целовал другую девушку, и ему стало стыдно.
Откуда ты знаешь, что дойдешь? Судорога… волдыри… глубокий порез или носовое кровотечение, которое ты не сможешь унять… долгий подъем, слишком долгий и слишком крутой. С чего ты взял, что сможешь это вынести?
Я справлюсь, я выдержу.
– Поздравляю, – сказал над его ухом Макврайс, и он вздрогнул от неожиданности.
– А-а?
– Полночь. Мы живы, и перед нами новый день, Гаррати.
– Много дней, – добавил Абрахам. – Для меня по крайней мере. То есть, конечно, пусть и у вас так будет.
– Если вам интересно, до Олдтауна сто пять миль, – устало вставил Олсон.
– Кому какое дело до Олдтауна, – отмахнулся Макврайс. – Гаррати, ты там был?
– Нет.
– А в Огасте? Черт, я-то всегда думал, что Огаста в Джорджии.
– Ну да, в Огасте я был. Это столица штата…
– Административный центр, – поправил Абрахам.
– Там резиденция губернатора, пара перекрестков с круговым движением, пара кинотеатров…
– Да? В Мэне так? – спросил Макврайс.
– Ну, в Мэне центр – небольшой город, – улыбнулся Гаррати.
– Подожди, вот дойдем до Бостона! – сказал Макврайс.
Кто-то застонал.
Впереди послышались приветственные возгласы. Гаррати встрепенулся, услышав свою фамилию. Примерно в полумиле впереди стояла заброшенная, полуразвалившаяся ферма. Однако откуда-то лился яркий свет, и перед фермой стоял огромный плакат:
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
ГАРРАТИ – НАШ!!!
Ассоциация родителей округа Арустук
– Эй, Гаррати, а где родители? – выкрикнул кто-то.
– У себя дома, детей делают, – отозвался смущенный Гаррати. Несомненно, Мэн – это земля Гаррати, и тем не менее ему несколько надоели все эти плакаты, приветствия, насмешки товарищей. За последние пятнадцать часов он обнаружил – помимо прочего, – что вовсе не жаждет быть в центре всеобщего внимания. Его пугала мысль о том, что жители штата, целый миллион, болеют за него, делают на него ставки (рабочий у моста сказал, что он котируется двенадцать к одному… а хорошо это или плохо?).
– Можно было бы ожидать, что они оставили тут парочку-другую родителей помоложе, в соку, – заметил Дейвидсон.
– Что, авангард ААРП?[41] – вставил Абрахам.
Впрочем, обмен шуточками проходил вяло и вскоре сошел на нет. Дорога почти всегда убивает потребность шутить. Они миновали еще один мост – цементный, сооруженный над довольно широкой рекой. Вода плескалась внизу, как черный шелк на ветру. Там и сям негромко стрекотали цикады. Около пятнадцати минут первого зарядил холодный дождь.
Впереди кто-то заиграл на гармонике. Музыка вскоре смолкла (Совет Шестой: берегите дыхание), но послушать ее было приятно. Мелодия похожа на «Старого черного Джо», решил Гаррати.
Нет, это все же не «Старый черный Джо», это что-то еще из расистской классики Стивена Фостера. Добрый старый Стивен Фостер. Упился до смерти. Как и Эдгар По – так вроде бы считается. Некрофил По еще и женился на четырнадцатилетней кузине. Значит, он к тому же педофил. Во всем-то они извращенцы, и он, и Фостер. Вот бы им дожить до наших дней и увидеть Долгую Прогулку, подумал Гаррати. Они могли бы написать первый в мире «Мюзикл для больных».
Кто-то впереди пронзительно закричал, и Гаррати почувствовал, как у него холодеет кровь. Очень юный голос. Никаких слов, просто вопль. Темная фигура отделилась от группы, рухнула возле обочины поперек дороги прямо перед автофургоном (Гаррати не мог припомнить, в какой момент фургон, отставший от них у первого моста, вновь присоединился к ним) и поползла в сторону леса. Ударили выстрелы. Раздался треск – мертвое тело свалилось в можжевеловые кусты. Один из солдат спрыгнул с фургона и поднял мертвеца. Гаррати, апатично наблюдавший за происходящим, подумал, что даже ужас изнашивается. Может наступить пресыщение даже смертью.
Гармоника заиграла сатирическую мелодию, и кто-то – судя по голосу, Колли Паркер – велел музыканту заткнуться к чертовой матери. Стеббинс засмеялся. Гаррати неожиданно разозлился на Стеббинса, ему захотелось повернуться и спросить у него, как ему понравится, если кто-нибудь будет смеяться над его собственной смертью. Такой выходки можно было бы ожидать от Барковича. Баркович говорил, что попляшет на многих могилах. Сейчас он может сплясать на шестнадцати.
Вряд ли у него сейчас ноги в подходящем для плясок состоянии, подумал Гаррати. Острая боль пронзила правую ступню. Мышца напряглась так, что у него едва не остановилось сердце, затем боль отпустила. Сжав зубы, Гаррати ожидал возвращения приступа. Второй приступ должен быть сильнее. Второй приступ превратит его ступню в бесполезную деревяшку. Но боль не возвращалась.
– Мне много не пройти, – просипел Олсон. Лицо его белело в темноте как бесформенное пятно. Ему никто не ответил.
Темнота. Проклятая темнота. Гаррати казалось, что он заживо похоронен в ней. Замурован в нее. До рассвета целый век. Многим из них не увидеть рассвета. Солнца. Они остались во тьме на глубине шесть футов. Теперь им требуется только монотонный голос священника, он все-таки пробьется к ним сквозь эту новую тьму, по другую сторону которой будут стоять те, кто придет на похороны, а пришедшие не будут даже знать, что их близкие здесь, что они живы, что они кричат, и царапаются, и бьются во тьме гробов, воздух улетучивается, воздух превращается в ядовитый газ, надежда исчезает, надежда становится тьмой, а над всем этим звучит ровный голос священника и слышатся нетерпеливые шаги участников похорон, которые торопятся поскорее оказаться на теплом майском солнце. А потом придет шуршащий, скребущийся хор собирающихся на пиршество жуков и могильных червей.
«Я сойду с ума, – подумал Гаррати. – Вот прямо сейчас слечу с катушек».
Ветки сосен шелестели на ветру.
Гаррати повернулся спиной вперед и помочился. Стеббинс отступил в сторону, а Харкнесс не то кашлянул, не то всхрапнул. Он шагал в полусне.
Гаррати жадно ловил все звуки жизни: один откашлялся и сплюнул, другой чихнул, а впереди слева кто-то шумно жевал. Еще один Идущий вполголоса спросил товарища, как он себя чувствует. Тот пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Янник очень фальшиво напевал тихим шепотом.
Осторожность. Напряженная осторожность. Но она не останется с ним навеки.
– Как только я сюда попал? – неожиданно спросил Олсон, вторя недавним безнадежным размышлениям Гаррати. – Как я позволил втянуть себя в это?
Ему не отвечали. Ему уже очень давно никто не отвечал. Как будто Олсон уже мертв, подумал Гаррати.
Затихший было дождь опять усилился. Они прошли мимо еще одного старого кладбища, мимо церкви, небольшой лавки и вошли в типичную для Новой Англии маленькую деревушку. Старые аккуратные домики. Дорога проходила через «деловую» часть деревни, где собралось с полдюжины жителей. Они приветствовали Идущих, но как-то нерешительно, словно боясь разбудить соседей. Ни одного молодого среди них. Самым молодым, как заметил Гаррати, был мужчина лет тридцати пяти в очках без оправы. Для защиты от дождя он надел поношенную тренировочную куртку. Волосы его слиплись на затылке, и Гаррати с удивлением отметил про себя, что ширинка у него наполовину расстегнута:
– Вперед! Идите! Вперед! Молодцы! – негромко прокричал он, беспрерывно махая пухлой рукой. Он словно обжигал проницательным взглядом каждого, кто проходил мимо.
У выхода из деревни стоял грузовичок с прицепом, из которого выбрался заспанный полицейский. Они прошли мимо последних четырех фонарей, заброшенного покосившегося домишки с надписью на передней двери ЭВРИКА ГРАНДЕ № 81 и вышли из деревни. По неясной ему самому причине Гаррати почувствовал себя так, как будто только что побывал в новелле Ширли Джексон.
Макврайс подтолкнул его локтем и сказал:
– Глянь, какой щеголь.
Щеголем он назвал высокого парня в нелепом зеленом шерстяном прорезиненном плаще военного покроя. Полы плаща хлопали его по коленям. Он шел заложив руки за голову, как будто прикладывал компресс к затылку. И еще он время от времени раскачивался взад-вперед при ходьбе. Гаррати пристально рассмотрел его – со своего рода академическим интересом. Он совершенно не помнил, видел ли этого Идущего прежде… хотя, конечно, лица в темноте меняются.
Одна нога «щеголя» зацепилась за другую, и он едва не упал. Потом пошел дальше. Гаррати и Макврайс как завороженные следили за ним минут десять; мучения парня в плаще заставили их забыть на время о собственной боли и усталости. Парень в плаще не издавал ни звука, не вздыхал и не стонал.
В конце концов он упал и заработал предупреждение. Гаррати подумал, что он уже не сможет подняться, но он поднялся. Теперь он шел почти рядом с Гаррати и его товарищами. У него было чудовищно некрасивое лицо. К лацкану плаща был прикреплен номер 45.
Олсон шепотом спросил:
– Что с тобой?
Парень, казалось, не услышал вопроса. Такое бывает, как Гаррати уже имел возможность заметить. Человек полностью отрешается от всего окружающего. От всего, за исключением дороги. Они жадно пожирают дорогу страшными глазами, как будто идут по натянутому над бесконечной и бездонной пропастью канату.
– Как тебя зовут? – спросил он парня, но ответа не получил. Внезапно он поймал себя на том, что повторяет и повторяет вопрос как идиотское заклинание, которое должно спасти его от уготованной ему судьбы: – Как тебя зовут, друг? Как тебя зовут, как тебя зовут, как тебя…
Макврайс дернул его за рукав:
– Рей!
– Пит, он не отвечает мне, заставь его ответить, заставь назвать имя…
– Не беспокой его, – сказал Макврайс. – Он умирает, не беспокой его.
Парень с номером 45 снова упал, на этот раз на живот. Когда он поднялся, со лба у него сочилась кровь. Теперь он отстал от группы Гаррати, но все услышали, как ему выносится последнее предупреждение.
Они миновали островок особенно глубокой тьмы – тоннель под железной дорогой. Странно, но и в этой каменной утробе то и дело падали дождевые капли. Когда они вышли из тоннеля, Гаррати с облегчением увидел, что перед ними лежит длинный прямой участок ровной дороги.
45-й снова упал. Идущие ускорили шаг. Вскоре грянули выстрелы. Гаррати решил, что имя этого парня уже не имеет никакого значения.
Глава 6
Теперь все участники соревнований в изолированных кабинах. Джек Барри «Двадцать один»
Три часа тридцать минут ночи.
Самая долгая минута самой долгой ночи в жизни Рея Гаррати. Нижняя точка отлива, мертвая точка, час, когда море отступает, оставляя за собой липкую грязь, разбросанные там и сям пучки водорослей, ржавые пивные банки, драные презервативы, битые бутылки, поломанные поплавки и поросшие мхом скелеты людей в рваных плавках. Мертвая точка отлива.
После парня в плаще еще семь человек получили билеты. Около двух часов трое рухнули почти одновременно, как высохшие стебли кукурузы при первых порывах осеннего ветра. Пройдено семьдесят пять миль, и двадцать четыре человека покинули дистанцию.
Но все это не важно. А важно одно – мертвая точка отлива. Три тридцать, мертвая точка отлива. Вынесено очередное предупреждение, вскоре после этого в очередной раз грохнули карабины. Знакомое лицо на этот раз. Восьмой номер, Дейвидсон, тот самый, кто утверждал, будто однажды залез в палатку во время Стебенвиллской ярмарки.
Секунду Гаррати смотрел на белое, забрызганное кровью лицо Дейвидсона, а потом стал снова смотреть на дорогу. Он уже давно не отрывал взгляда от дороги. Временами белая полоса была сплошной, иногда она прерывалась; случалось, что она раздваивалась и напоминала след автомобильных колес. Как же так, подумал он, в другие дни люди ездят по дороге и не видят на этой полосе следов борьбы жизни со смертью. Или все-таки видят?
Асфальт приковывал к себе его взор. Как заманчиво, как хорошо было бы посидеть на нем. Сначала ты присаживаешься на корточки, и в задубевших коленях как будто стреляют два игрушечных духовых пистолета. Потом заводишь ладони за спину, опираешься ими о прохладную шероховатую поверхность, опускаешь на нее ягодицы и чувствуешь, как твои ноги освобождаются от мучительной тяжести в сто шестьдесят фунтов… Ты ложишься, то есть падаешь навзничь, и лежишь и чувствуешь, как распрямляется твоя затекшая спина… смотришь на кроны деревьев, на волшебное звездное колесо… не слышишь предупреждений, просто смотришь в небо и ждешь… ждешь…
Да.
Слышишь дробные шаги Идущих, покидающих линию огня, они оставляют тебя одного, как будто приносят жертву. Слышишь шепот. Это Гаррати, послушайте, сейчас Гаррати получит билет! Может быть, ты еще успеешь услышать хохот Барковича, еще раз примеряющего свои воображаемые танцевальные туфли. Треск разряжаемых карабинов, а затем…
Он с трудом оторвал затуманенный взгляд от дороги и посмотрел на движущиеся рядом тени, потом на горизонт, надеясь разглядеть хоть какой-нибудь признак приближающегося рассвета. Конечно, ничего там нет. По-прежнему стояла темная ночь.
Они прошли еще два или три селения – темные, спящие. После полуночи они встретили, наверное, около дюжины сонных зрителей, представителей того невымирающего типа людей, которые каждый год тридцать первого декабря упорно дожидаются полуночи и встречают Новый год. Последние же три с половиной часа были нескончаемым потоком бестолково переплетающихся мыслей, кошмарным видением страдальца, мучимого бессонницей.
Гаррати внимательнее вгляделся в лица идущих рядом, но не увидел никого знакомого. Его охватила не поддающаяся разумному контролю паника. Он похлопал по плечу идущего впереди ходока.
– Пит? Это ты, Пит?
Тот выскользнул из-под его руки, что-то недовольно буркнул, но не оглянулся. Олсон шел слева от Гаррати, Бейкер – справа, но сейчас слева не было никого, а тот, кто шел справа, казался гораздо плотнее Арта Бейкера.
Значит, он каким-то образом сошел с дороги и наткнулся на группу припозднившихся бойскаутов. И его уже ищут. На него идет охота. Солдаты Взвода с ружьями, собаками, радарами, выслеживающими устройствами…
Облегчение освежило его. Четыре утра, и впереди идет Абрахам. Стоило ему чуть повернуть голову. Это худое лицо нельзя не узнать.
– Абрахам! – зашептал он громко и отчетливо, как актер на сцене. – Абрахам, ты не спишь?
Абрахам что-то пробормотал.
– Я говорю, ты не спишь?
– Пошел ты на хрен, Гаррати, оставь меня в покое.
По крайней мере он все еще с группой. Ушло чувство полной потери ориентации.
Впереди кому-то вынесли третье предупреждение, и Гаррати подумал: «А у меня нет ни одного! Я мог бы посидеть минуту, а то и полторы. Я бы мог…»
Но ему уже не встать.
«Нет, я встану, – возразил он себе. – Конечно, встану, только…»
Только он умрет. Он вспомнил, что обещал матери встретиться с ней и с Джен во Фрипорте. Обещал с легким сердцем, почти беззаботно. Вчера в девять часов утра его появление во Фрипорте казалось вполне закономерным. Но теперь игра окончена, пришла полномасштабная реальность, и вероятность явиться во Фрипорт на паре окровавленных обрубков сделалась весьма вероятной вероятностью.
Кого-то еще пристрелили… на этот раз сзади. В темноте было трудно прицелиться, и несчастный обладатель билета, как показалось Гаррати, кричал очень долго, пока вторая пуля не оборвала его вопли. Без всякого повода Гаррати подумал о беконе. Тут же его рот наполнился слюной, и сразу показалось, что ему вставили кляп. Ему вдруг захотелось узнать: двадцать шесть убитых за семьдесят пять миль – это необычно много или необычно мало?
Голова его медленно опустилась на грудь, а ноги сами продолжали шагать вперед. Он вспоминал о том, как в детстве ему пришлось побывать на похоронах. На похоронах Фрики Д’Аллессио. На самом деле его звали Джорджем, а не Фрики, но все местные ребята называли его Фрики…
Он помнил, как Фрики дожидался, когда его позовут играть в бейсбол, его всегда звали в последнюю очередь, во время игры он подолгу с надеждой переводил взгляд с капитана одной команды на капитана другой, как зритель, следящий за теннисным матчем. Его неизменно ставили на позицию центрового, куда попадало не очень много мячей и где он не мог очень сильно подвести команду; у него один глаз почти не видел, и дефект зрения не позволял ему каждый раз правильно определять траекторию полета мяча. Однажды он захватил перчаткой воздух, в то время как мяч опустился ему на лоб со звонким звуком, похожим на звон спелой дыни. Плетеный мяч отпечатал у него на лбу квадрат, который, как клеймо, не сходил целую неделю.
Фрики погиб на Федеральном шоссе 1 недалеко от Фрипорта. Он ехал на велосипеде, и его сбила машина. Эдди Клипштейн, один из друзей Гаррати, видел, как это произошло. Этот самый Эдди Клипштейн на полтора месяца стал господином и повелителем всех окрестных ребят благодаря рассказам о том, как машина стукнула велосипед Фрики Д’Аллессио, как Фрики вылетел из седла, перелетел через руль, как с него свалились его дурацкие сапоги, а он все летел, но поскольку крыльев у него не было, то он летел недолго и шлепнулся на каменное ограждение как кусок мяса, и из головы у него потекла густая жидкость.
Он отправился на похороны Фрики и едва не потерял пакет с завтраком, размышляя, будет ли и в гробу похожая на клей жидкость течь из головы Фрики, но Фрики был в полном порядке – в спортивной куртке, с галстуком и булавкой со значком бойскаутского клуба, он выглядел так, словно был готов встать из гроба, едва начнется бейсбольный матч. Его глаза, и слепой и зрячий, были закрыты, и Гаррати в общем-то испытал облегчение.
Это был единственный труп, который ему довелось видеть до начала Долгой Прогулки, и это был чистый, аккуратный труп. Нисколько не похожий на Эвинга, или на парня в зеленом плаще, или на Дейвидсона, чье синевато-багровое усталое лицо было забрызгано кровью.
Это отвратительно, подумал Гаррати, наконец с горечью осознавая, что так оно и есть. Это просто отвратительно.
Без четверти четыре он схлопотал первое предупреждение и дважды с силой ударил себя по лицу, чтобы как следует проснуться. Он промерз насквозь. Почки его ныли, но он все-таки понимал, что настоятельная необходимость опорожнить мочевой пузырь еще не пришла. Может быть, ему это только пригрезилось, но на востоке звезды вроде бы немного побледнели. Он безмерно удивился, когда сообразил, что в это самое время сутки назад он спал в машине, а мать везла его к каменному знаку на канадской границе. Он почти увидел себя, лежащего неподвижно, растянувшегося на заднем сиденье. Ему отчаянно захотелось вернуться в прошлое. Вернуться во вчерашнее утро.








