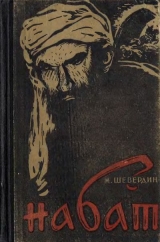
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 46 страниц)
– „Sic transit gloria mundii", – вслух сказал доктор. Тут внимание его привлекло какое-то движение под тёмным навесом. Пристально вглядевшись, он увидел трёх странно-полосатых собак, которые копались в куче земли.
Едва доктор подошёл к навесу, собаки с воем кинулись врассыпную:
– Гиены, брр, – пробормотал доктор, но, зная трусливые повадки этих отвратительных животных, только схватил валявшуюся жердь и замахнулся. С визгом гиены убежали. Лишь одна из них задержалась в калитке и, ощерив жёлтые клыки, продолжала угрожающе рычать.
– Хватит фордыбачить, басмач, – прикрикнул доктор.
Как только его глаза привыкли к темноте, Пётр Иванович подошёл побли-же к айвану, и невольная дрожь ужаса пронизала его. Перед ним лежало, чуть присыпанное песком и глиной, тело женщины. И хоть гиены уже изрядно изуродовали его, видимо, она была молода и красива. На чуть тронутой тле-нием коже темнели кровоподтёки и раны. По-видимому, несчастную подвер-гали зверским истязаниям и насилию, прежде чем с ней покончили, перерезав ей горло от уха до уха. Труп её бросили здесь на съедение зверям.
– О аллах, – пробормотал неожиданно появившийся из-за спины док-тора Алаярбек Даниарбек, – что они сделали с ней... Разрываю воротник горя.
– Ты узнал её? – спазма схватила Петра Ивановивича за горло. Он отвернулся.
– Да, это... она, увы. Что они сделали с тобой... И от лица ничего не осталось.
Голос Алаярбека Даниарбека дрожал.
– О красавица... и здесь ты закончила свой путь... Осталась бы ты мусульманкой, мужней женой, не занималась бы делом, неподобающим женщине.
– Довольно, – оборвал доктор, – о мёртвых говорят только хорошее. Помоги же избавить от зубов гиены то, что от неё осталось, от замечательной женщины и человека!
– Кто же отомстит за тебя? – несколько патетично воскликнул Алаярбек Даниарбек, когда вырос над наспех вырытой могилой земляной холмик.
Затем он забросил кетмень на крышу и поспешил за доктором.
Проходя через первый двор, Пётр Иванович внезапно выругался, выхватил из кобуры наган и разрядил его в крадущихся вдоль стены гиен.
– Метко! – сказал Алаярбек Даниарбек.
Покусывая ус, доктор смотрел пустыми глазами перед собой.
Он уехал из Кабадиана тотчас же. За ним спешил необыкновенно молчаливый Алаярбек Даниарбек.
Пылевой буран обрушился внезапно на землю. Шёл он рыжей стеной, песчинки, пыль залепляли глаза, хрустели на зубах. Стало почти темно. Порывы ветра едва не сшибали всадников с седла. Кони шли, низко опустив головы. Солнце превратилось в тускло мерцавший красный поднос.
Бешеная буря породила зловещую иссиня-чёрную тучу. Она придавила степь, и в наступившем сумраке обжигала землю неистовыми вспышками молний. Гром грохотал тысячной канонадой.
На лицо доктора упало несколько капель дождя, не принесших ни свежести, ни облегчений, но смешавшихся со слезами, которых никто не видел.
Туча промчалась так же быстро, как и навалилась. Буря оборвалась, наступило затишье...
Стало легче. Воздух дышал полынью.
Я хочу горького вина,
Сила которого сбивала бы с ног,
Чтоб отрешиться
От мира зла и суеты.
Как созвучны настроению эти слова Хафиза. Неизбывна сила чувства.
Дорога, белая, извилистая, бежала на север…
Глава тридцать восьмая. ОТЧИЙ ПОРОГ
Всякий, кто посеет семена зла в надежде пожать добро,
обольщается тщетной мечтой.
Саади
Ноги заплетались, ступни задевали друг за друга, причиняя невыносимую боль. Трещины на коже, язвы, ссадины гноились. Иргаш с трудом перебрался через галечные россыпи Курусая и, тяжело хрипя, наклонившись всем туловищем, полез по тропинке вверх по обрыву. Временами он останавливался и старался отдышаться. Глаза его рыскали по расстилавшейся под ним широкой, знакомой долине. Бока холмов покраснели от колосившейся пшеницы, залитой лучами закатного солнца. Жаворонки в вышине заливались послед-ней вечерней песней. Из хижин и юрт пастухов, прижавшихся к горе Черепахе, тянулись синие дымки. Около далёких очагов пестрели яркие красные, жёлтые платки женщин, готовящих ужин.
Потянув к себе запахи степи, жилья, очажного дыма, Иргаш стал озирать-ся.
Дюшамбинская дорога желтела извилистой лентой. На ней никого не было видно. Западнее над Гиссарской дорогой поднималась пыль. Кишлачное стадо возвращалось на ночлег в хлева. Издалека доносился бойкий посвист свирели, мычание коров.
Бросив ещё взгляд вверх и вниз по саю и убедившись, что нигде не видно вооружённых всадников, Иргаш снова полез вверх. Ему всюду чудились всякие страхи. «Так бывает, когда у человека много врагов, – старался успокоить себя Иргаш. – Человек думает, что он один на свете, а со всех сторон на него устремлены взоры». И, выбравшись наверх, он снова огляделся.
Всё оставалось в кишлаке Курусай неизменным, хоть прошло немало времени с тех пор, как он последний раз ушёл отсюда. Те же разбросанные в лощине глинобитные домики, смотрящие тёмными прямоугольниками дверей на заходящее солнце, полуосыпавшиеся ограды из глины и камней, дом Тишабая ходжи повыше на склоне холма. Горлинки с рубиновыми лапками ходят важно по утоптанным тропинкам и чёрными бусинками глаз осторожно смотрят по сторонам. Стайки воробьев роются в свежем навозе.
Сердце Иргаша чуть защемило, когда он остановил свой взгляд на знакомой крыше родного дома, где он так долго жил, вдыхая запах дыма, и сидел в кругу родных. Но тёплое чувство мгновенно исчезло, лишь только рука его наткнулась на твердую рукоять маузера.
Иргаш еле шёл, слабый от голода. Халат и вся одежда его уподобились рубищу нищего, борода и усы всклокоченной шерстью покрывали лицо, но с оружием он не расставался. Пока в его маузере, подаренном ему лично Мохтадиром Гасан-эд-Доуле Сенджаби есть патроны, он, Иргаш, ещё живой.
Он шёл и шёл, озираясь исподлобья. Встречные смотрели на него с опаской, оглядываясь и долго провожая глазами. Некоторые, видимо узнав его, покачивали головами. Но никто, и это больно задело Иргаша, не поздоровался с ним, не сказал простого: «ассалям алейкум». Или они не узнали его, или... не желали узнать. О, как ему хотелось сейчас поднять голову и, потрясая камчой, заорать вон на идущего ему навстречу пастуха Асада. Во взгляде его только любопытство и никакого уважения. Скотина! Не так он себя вёл, когда Иргаш на огненном коне, в шёлковом зелёном халате, с винчестером за плечами скакал по кишлаку. О, тогда Асад ломался пополам в поклоне и за счастье считал, чтобы Иргаш удостоил его хоть мимолетным взглядом.
Но Асад прошёл, слегка сопя от одышки, и даже взглядом не показал, что он заметил Иргаша, точно тот и не плелся, прихрамывая и морщась от боли в ногах, по улице.
Иргаш стремительно обернулся, в то же мгновение обернулся и Асад. Глаза их встретились. Асад отвернулся и пошёл своей дорогой. Значит, он узнал его, Иргаша, и только просто не захотел иметь с ним дела.
Чувство отчуждения холодком разлилось где-то под сердцем. Его, Иргаша, не хочет признать Асад тупица и трус. Что же тогда скажут старейшины, те самые старейшины, которые одержали в бою верх над Энвербеем, главнокомандующим, те самые старейшины, по приказу которых курусайцы перерезали ночью джигитов шайки Батыра Болуша, те самые старейшины, которые сумели «мужеством своим, храбростью и умением охранить очаги курусайцев от басмаческого разорения в течение трёх долгих лет смятения и войны. Что скажут они, когда увидят его, Иргаша?
Он остановился и облизал пересохшие губы. Мимо него шли стайкой женщины и девушки с глиняными кувшинами, с медными кумганами и старенькими жестяными вёдрами. Тяжёлые мониста из серебряных висюлек и монет позвякивали у них на груди, чёрные косы ниспадали по малиновым рубахам ниже колен. Шагнув в их сторону, Иргаш пробормотал: – Пить!
Но тут же отшатнулся, и что-то заклокотало у него в горле.
Ни одна из женщин и девушек не остановилась, не налила в чашку ему воды. Так они шли, гордые и странно молчаливые, только каждая, проходя мимо Иргаша, вскидывала ресницы и взглядывала на него с явным недоброжелательством.
Даже мальчишки, любопытный и смелый народец, не побежали за ним. Они медленно шли на приличном расстоянии и молчали. «Пусть кричат! – свирепствовал в душе Иргаш. – Пусть кричат! Всё равно, пусть бранят, пусть говорят чёрные слова, но только не молчат!»
Но они шли молча, и в их молчании чувствовалась угроза.
Он вдруг встал, наклонился и, схватив камень, швырнул в ребят. Иргаш так ослаб, что камень не долетел до ребятишек, и они, ничуть не испугавшись, продолжали идти за ним...
Красный диск солнца, похожий на круглый медный поднос, коснулся нижним краем синих холмов, когда Иргаш добрался, наконец, до ворот Шакира Сами. Иргаш стоял перед знакомыми до боли, серыми досками, щелястыми, растрескавшимися, но всё ещё крепкими, и тяжело с присвистом дышал. Сердце его колотилось в груди, но не столько от усталости и слабости, сколько от волнения. Он стоял и слушал, стараясь угадать, что творится во дворе и в доме.
Донесся резкий старушечий голос: «Принесите чумич. Сало перегорит!» Что-то зашипело и заскворчало. Застучали кауши по твёрдой глине. Совсем близко голос Шакира Сами сказал:
– Наточите серпы... Завтра в поле...
И перед глазами Иргаша встал большой тяжелый серп, с полированной ручкой, принадлежавший, по семейным преданиям, ещё деду Шими и служивший уже много поколений семейству. Ужасно захотелось Иргашу ощутить в своей руке холодноватое ласково-гладкое дерево рукоятки.
– Пойдем завтра к старой мельнице. Зерно уже там затвердело!
– Хорошо, исполню, дедушка, – сказал молодой голос.
«Дильаром! Она!» – подумал со смертной тоской Иргаш. Так близко и так далеко почувствовал он себя от семьи.
Он поднял руку и злобно кулаком постучал в сухие шершавые доски ворот.
Шум во дворе словно бы стих. Но никто не подошел, не окликнул.
Тоскливая мысль мелькнула в голове Иргаша: «Не ждут».
Он снова постучал. И снова никто не открыл ему. Он так и стоял у ворот, а мальчишки за его спиной безмолвно смотрели на него.
Стыд пронизал Иргаша, и он постучал в третий раз. Удивительно, но он не догадался, а быть может, не решился толкнуть калитку.
– Кто там? Входи! – прозвучал стариковский голос. Скрипнули петли. Иргаш поднял глаза. В открытой калитке стоял дед его Шакир Сами.
Он взглянул на Иргаша прямо и просто, без малейшего удивления, точно знал, что Иргаш придёт. Старик молчал и ждал.
– Здоровья вам! – пробормотал Иргаш. Он опустил голову и смотрел на босые ноги старика, черные, загрубевшие ноги дехканина, ноги, твёрдо стоявшие на земле.
На приветствие старик не ответил. Он смотрел с окаменевшим лицом через плечо Иргаша куда-то вдаль и молчал. Проследя его взгляд, Иргаш увидел, что Шакир Сами смотрит на приближающегося всадника. Что-то знакомое было в его облике.
– Здесь моя жена Дильаром? – закричал Иргаш и ринулся вперед.
Он увидел Дильаром, стоявшую в глубине двора, но только на какое-то мгновение. Дико вскрикнув, молодая женщина метнулась и исчезла в тёмном провале двери михманханы.
Старик молча преградил Иргашу дорогу.
– Я пришел за ней. Она пойдет за мной!
Почти не шевеля губами, Шакир Сами сказал глухо и тихо:
– Уйди!
Тут безумная догадка мелькнула в голове Иргаша: а вдруг он так изменился, что Шакир Сами не узнал его.
– Дедушка, это я, Иргаш.
Всё так же глухо, но ещё тише, чеканя слова, Шакир Сами заговорил:
– Был когда-то такой Иргаш. Отцеубийца. Он погубил моего сына и своего отца. И я сказал: «Братья, сыновья, внуки! Кто брат мне, кто сын, кто внук, – тот пойдёт, найдет человека по имени Иргаш-отцеубийца, тот убьёт его... и пусть нацедит его крови в чашку и принесёт мне, чтобы я смог выпить её».
Он смолк. И вдруг воскликнул громко, чтоб слышала вся улица:
– И тогда замкнется круг крови. Я дал свою кровь, чтобы породить сына своего Файзи, а Файзи дал кровь и породил тебя, Иргаш-отцеубийца. Да вернется кровь его ко мне!
Калитка захлопнулась, и засов загремел.
Пошатываясь, Иргаш все еще смотрел на трепещущие и дребезжавшие доски ворот. Обрывки мыслей кру-ились в его мозгу. Он безмолвно открывал и закрывал от, но ничего не мог произнести, кроме сдавленных всхлипов.
За спиной он услышал шум, похожий на ропот. Иргаш стремительно обернулся.
На него смотрело много пар глаз, мрачно, презрительно. Курусайцы толпились на краю улицы. С коня слезал Юнус.
– Откуда он взялся? – пробормотал Иргаш. Вытащив дрожащей рукой из-за пазухи маузер, он стоял, покачиваясь на обмякших ногах, и угрожающе скалил зубы.
– Подойдите... кто... хочет...
Шагнул вперед и подошел Юнус. Глядя прямо в глаза Иргашу, он всё так же неторопливо взял у него из руки оружие.
– Так вот где я тебя нашёл.
Иргаш с рычанием опустился на землю и, упершись головой в доски ворот, остался так лежать...
Глава тридцать девятая. ВОДНЫЙ СПОРТ
Любви не было бы в мире, если бы не было красивого лица.
И если бы не цвела роза, не пел бы соловей в ветвях.
Саади
– Вперёд!
В сияющем воздухе мелькнула чёрная фигура, метеором промчалась в небе так быстро, что за ней не удалось проследить глазами.
– Что это? – Гриневич соскочил с коня и, прыгая по камням, подбежал к краю скалы и заглянул вниз.
В то же мгновение над голевой прозвучал крик, сквозь цветную радугу, перекинувшуюся над щелью, мелькнуло что-то тёмное, и Гриневич успел только заметить обнажённую фигуру, скользнувшую в бешено мечущуюся пучину. В мозгу запечатлелся человек, точно вылепленный из красноватого камня на ослепляющем фоне сверкающей пены. Река ревела, сжатая утёсами-гигантами, мокрыми от брызг, взметнувшихся резко вверх.
– Вниз скорее, – подбежал к конникам Гриневич, – там человек упал.
Он одним прыжком оказался в седле и, невзирая на опасность, помчался по головоломной тропинке, полагаясь на стальные мускулы коня и ловкость его стройных ног. Через минуту всадник с конем уже съехали, вернее скатились, в лавине песка и щебенки на зелёную луговину. Понадобилось несколь-ко мгновений, чтобы подскакать к берегу широко раскинувшегося плёса реки.
Только здесь осадив коня, Гриневич начал всматриваться. Налево поднимались к небу исполинские красного гранита скалы, с которых только что он спустился столь стремительно, рискуя сломать шею себе и своему коню. Ска-лы перегораживали гигантской природной плотиной долину. Сквозь неё, через узкое ущелье, шириной не более двадцати-двадцати пяти саженей, вырывалась, словно из жёрла туннеля, блистающей могучей струей вся огромная река в золотом ореоле мельчайших брызг, в которых дрожала, переливаясь, радуга. С неслыханной силой мчался освобождённый из теснины поток и, оказавшись на просторе, вдруг смирялся; вспрыгнув затем несколькими крутыми, всё сокращающимися волнами, он разливался на две-три версты в тихое прозрачное озеро, в котором отражались фиолетовые с белыми маковками вершины горного хребта...
Ласково плескались волны вокруг ног коня, въехавшего в воду и всё порывавшегося мордой коснуться её поверхности.
– Ну, шалишь, – сердито дернул Гриневич повод. – А где же люди?
Он разговаривал с конем и, подняв бинокль, изучал поверхность озера.
«Неужели они разбились и река разорвала их тела в клочья? Что это были за люди? Не похоже, что их бросили в поток... Неужели они сознательно кинулись в ревущую стремнину на верную гибель?..»
Забыв о том, что он один, что кругом его подстерегают всякие неожиданности, весь охваченный беспокойством за судьбу неизвестных ему смельчаков, Гриневич настороженно изучал слепяще-блистающее зеркало реки, девственную поверхность которой не морщил ни малейшими рябинками ветерок.
Почему Гриневич решил, что он видел не беспомощных жертв, а мужественных смелых людей! Да потому, что только сейчас он припомнил детали, на которые сначала не обратил внимания. Человек, кинувшийся в реку, обнимал руками что-то круглое и большое, похожее на подушку.
– Гупсар! Кожаный бурдюк! – воскликнул Гриневич. – Как же я не сообразил! Он прыгнул с надутым кожаным мехом.
И крик этот до сих пор звучал в его ушах, крик не жалобный, не стонущий, а бодрый клич под аккомпанемент ревущей разверзшейся стихии.
– Поистине храбрецы!
Невольно Гриневич, ещё не зная в чём дело, испытал восторг перед безумной храбростью людей, добровольно и смело бросающихся в клокочущую пучину.
Гриневича даже не смущало, что они могли оказаться врагами. Друзья или враги, но такому мужеству он готов всегда аплодировать.
Вот почему, когда его бинокль обнаружил в пене, бурлившей из зева теснины, или трубы, как её называл Гриневич, круглый чёрный предмет, он издал радостный призывный крик. Он уже видел голову человека, закрученного водоворотом, борющегося с сильным течением. Ещё такая же голова вынырнула неподалеку, потом ещё и ещё.
– Ого, да тут их целый взвод!
Радостно крича и махая рукой, Гриневич поскакал прямо по воде к плывущим людям. Отмель кончилась, и вода стала лизать брюхо лошади.
Пловцы ещё барахтались в водовороте в ледяной воде. В их движениях теперь чувствовалась растерянность, на чьем-то смуглом лине Гриневич увидел выражение беспокойства. Не понимая в чём дело, командир попытался помочь неизвестным. Конь его теперь уже плыл, и Гриневич протягивал руку, кричал, стараясь перекрыть шум, нёсшийся вместе с грохочущим каскадом из теснины. Командир ухватил одного из пловцов за руку, другого за плечо.
Несколько минут отчаянно сопротивляющиеся пловцы и Гриневич на коне кружились в воде. Лица людей посинели. Наконец коню надоела холодная ванна, и он решительно направился к берегу, таща на буксире двух пловцов.
Подъехавшие к берегу бойцы помогли Гриневичу.
– Придется погреться, обсушиться! – сказал Гриневич, смотря на застывших, лязгающих зубами мускулистых людей. Они были совершенно голы, если не считать набедренных повязок. Мускулы их перекатывались под кожей, лоснившейся в лучах горячего июльского солнца. Гриневича поразило, что один из вытащенных им из воды людей оказался человеком лет шестидесяти, а самый младший был совсем ещё мальчиком.
– Начальник, – сказал пожилой, – отпустите нас... Неудобно стоять перед начальником, едва прикрыв стыд.
– Что вы здесь делаете? – спросил Гриневич, вытряхивая из сапог воду.
– Отпусти нас, начальник, нам надо идти... – Таджик посмотрел на реку. Вдали вниз по течению плыли три чёрных точки.
– Отпущу, только скажите, куда вы плыли?
– Мы никуда не плыли.
– Как?
Гриневич очень удивился, выслушав немногословный рассказ старика.
Оказывается, они купались, просто купались. Старика не устраивают тихие заводи: «Вода там мёртвая», его интересует только бурная стремнина. И в воду он не спускается потихоньку, осторожно. Никакого удовольствия такое купание не представляет. Взять гупсар, обнять его и прыгнуть в бурлящую пену с высоты нескольких сажен, вот это интересно; чтобы стремнина подхватила, бросила вглубь, отшвырнула на поверхность, снова утопила. Вот тут-то смотри в оба, будь ловким, мужественным. Только в такой стремнине человека не прохватит ледяная вода, не пронизает холодом до костей, не сведет судорога, лютому что пловец напрягает мускулы до предела.
– И телу становится так жарко, что «вода кипит», – усмехнулся под конец старик и поклонился.– Отпустите нас.
Но Гриневич попросил рассказать ещё кое-что о головоломном спорте смелых.
Нет, он, старик, не один. Все видели, что сегодня они прыгали впятером.
Он тут же залез на огромный валун и, сложив ладони рупором, что-то прокричал в сторону мыса, где на солнце сразу заблестели тела уплывших вниз по реке людей.
– Все мужчины кишлака плавают в реке, – сказал он, спустившись к Гриневичу. – Одни прыгают с большой высоты, другие с меньшей. Многие мальчики – хорошие прыгуны. Вот это его сын. Он отлично прыгает. Может прыгнуть в воду вот... – Старик огляделся, выбрал утёс высотой в шестиэтажный дом и показал на него пальцем. – Вон с такой скалы может прыгнуть. Разобьётся. Нет, не разобьётя. Бывают, конечно, неловкие люди.
Он слышал о таких неловких, но не из их селения. В их селении на его па-мяти ни один ныряльщик не разбивался. Все молодцы... Что случится, если порвётся гупсар? Во-первых, зачем ему рваться? Кожа крепкая. Только у дурака может порваться. Ну, а если порвётся, тогда легко доплыть до берега. Берег всюду, рукой подать. Да, все умеют плавать. Только без мешка зимой трудно, зимой, в мороз, далеко не уплывёшь, застынешь, утонешь.
– Вы и зимой плаваете... купаетесь?..
Нет, зимой, конечно, никто купаться так не пойдет, зачем? Зимой приходится лезть в реку, когда нужно проведать родных на другом берегу, навестить друзей, побывать на свадьбе. Тогда, какой бы мороз ни стоял, идёшь на берег, надуваешь гупсар, раздеваешься и плывёшь. Конечно, плывешь в таком месте, где вода быстро перенесет на ту сторону, а то плохо придётся. Ну там вылезешь, оденешься, выпустишь воздух из гупсара и пойдёшь. Пока вверх-вниз потопаешь, сраза же согреешься.
Много надо бесстрашия и ловкости в этом необыкновенном спорте. Сколько требуется умения, какой глазомер. От пустячных мелочей зависит жизнь пловца и прыгуна. Обхватив руками гупсар, человек взбирается на скалу, подходит к её краю и бросает вниз щепочку, пучок травы и следит за тем, как они падают, не слишком ли их относит ветер. Здесь, наверху, ветерок может дуть чуть-чуть, а в щели он вдруг такой сильный и резкий, что отнесёт прыгающего в сторону и бросит на камни. Брошенная сверху щепочка или веточка помогает избрать в прыжке правильное направление. Пока летит щепочка или пучок травы, прыгун внимательно изучает струю воды. Не вспучивает ли её там, где не нужно, не свалился ли здесь кусок скалы, не принесло ли стремниною новый валун. Но глаз у горца наметанный. По характеру стремительного течения, по цвету воды – зеленоватому, желтоватому, голубоватому – он сразу же определяет глубину и характер стремнины. По полету щепочки пловец выбирает линию направления прыжка. Он не ошибётся в своём расчёте. Достаточно маленькой ошибки – и он разобьётся, но прыгуны не разбиваются, в худшем случае он вылезает из воды с синяками.
– И не боитесь? – спросил Гриневич.
– Почему не боимся? Немного сердце стучит в груди... Но это хорошо. У храброго человека должно же стучать сердце.
Сейчас ещё рано и купается мало людей, но к вечеру прибудут с гор жнецы и обязательно начнут прыгать. Вон они едут уже вниз.
Гриневич посмотрел вверх. По склону огромной горы двигалась целая скирда пшеницы. Она скользила на своеобразных санях с широчайшими полозьями, по накатанной до глянцевитого блеска полосе, извивающейся между тёмными деревьями арчи и грядами скал. Двигались сани не очень быстро, но легко и плавно. За санями спускались, опираясь на посохи, люди.
– Вот тот в красной чалме – наш лучший прыгун, – сказал с гордостью старик-пловец. – Он прыгает там, где никто не прыгает. Он переплывает реку в половодье. Где хочет, там переплывает. Не боится ни водопадов, ни кам-ней.
– То-то вы такие загорелые да мускулистые!
– Мускулов у них не занимать стать.
Гриневич стремительно обернулся.
Перед ним стоял мокрый, полуголый, улыбающийся Пётр Иванович. В руках он держал, прижимая к животу, бурдюк, такой же, как у горцев.
– О-о! – только и мог выговорить комбриг. – Доктор!
– Алексей!
И хоть с доктора стекала ручьями вода, они обнялись.
– Что вы здесь делаете, Пётр Иванович?
– Купаюсь, как видите.
– Нет, вообще... как вы сюда попали?
– По врачебным делам, Алексей Панфилович... Но простите, я продрог... бегу... Ещё раз хочу...
И, шлёпая по камням босыми ступнями, доктор побежал вверх.
– Я с вами, – крикнул вдогонку Гриневич.
В тот день Гриневич испробовал сам горное купание. Вместе со стариком, которого звали Мустафа-Камень, и доктором он прыгнул в теснину пять или шесть раз. Только первый раз он испытывал волнение, похожее на страх, и то в те мгновения, пока он ещё летел в воздухе. В другие разы он прыгал уже уверенно, и хотя у него захватывало дыхание, но страх прошел совершенно, и он заслужил даже сдержанную похвалу Мустафы-Камня. Прыгали и бойцы. Особенно хорошо получалось у латыша Гедвиласа и херсонца Дзыбы. К тому времени на камнях и скалах собрались десятки горцев-дехкан. Они прыгали вместе с Гриневичем, хлопали его по плечу и восклицали: «офарин!» Налёт отчужденности и недоверия, который чувствовался вначале, известная скованность, порождённая издавна недоверием горцев к незнакомым людям, постепенно исчезала. Бойцы и дехкане, обнажённые, все в искрящихся капельках, стекающих по их телам, сидели на гальках и валунах, беседовали о самых обыденных вещах: об урожае, о неудобствах пахоты на крутых склонах, о рабочих волах. Когда купание кончилось, красноармейцы и горцы расстались друг с другом не без сожаления. Гриневич отказался заехать в кишлак, и старик Мустафа-Камень обиделся.
Расставаясь, Гриневич обещал обязательно приехать в гости, попрыгать со скалы и искупаться в бешеной теснине радуг, как он её мысленно назвал.
Доктор поехал вместе с Гриневичем.
Оказывается, Пётр Иванович находился здесь уже недели две, успел получить признание как врач тем, что вылечил от конъюнктивита добрую сотню детишек. Доктор стал здесь своим человеком.
Гриневич рассказал о событиях последнего месяца. После гибели Энвербея басмачи притихли. Но вскоре опять подняли голову. На смену Энвербею появился турок Сами-Паша. Ибрагимбек тоже активизировался. Бесчинствовали и многие другие банды. Но, самое главное, народ понял, что басмачи – враги свободы и жизни, и всё больше склонялся на сторону Красной Армии. Советская власть стала единственной прочной властью в горной стране.
Вспомнили Гриневич с доктором и старых друзей. Добром помянули слав-ного, стойкого Файзи.
– Отряд теперь носит имя большевика Файзи, – рассказывал Гриневич, – теперь им командует Юнус, помните солдата Юнуса? Отличный командир из него получился. Недавно мы с ним навестили Шакира Сами. Не повезло старику. Сколько ударов обрушилось на его семью. Он не может забыть смерти сына... Одна у него надежда, что когда-нибудь он сможет назвать членом своей семьи командира Юнуса...
– А что думает по этому поводу Дильаром? – спросил доктор.
– Я видел её. Она всё так же мрачна, но в её демоническом взоре, когда она глядит на Юуса, зажигаются тёплые огоньки...
– Да, – вдруг сказал Пётр Иванович, и лицо его сразу как-то осунулось, – я очень рад, что вы направляетесь на юг. Возьмите нас с Алаярбеком Даниарбеком.
– А куда вы едете?
– Я еду в Кабадиан... Гм, может быть, это... вам покажется странным... но я хочу... положить на одной могиле камень. На ней высекут надпись: «Разве можно поразить солнце кинжалом? Разве можно ему сделать больно? Разве можно погасить его?»
– Поэтично... Но кому вы хотите поставить памятник?
– «Глаза у неё цвета ночи», – сказал бы про неё поэт Шибаргани. Я говорю о бедной Жаннат…
– Камень? Надпись? Да она жива и здорова.
– Что-о? – больше Пётр Иванович не мог ничего сказать.
– Я говорил, что она аджина, – сказал Алаярбек Даниарбек, – что она даже из-под земли выйдет... из могилы! Ой-бой...
По рассказу Гриневича, после перестрелки на базаре в Курусае комэск Сухорученко доставил Жаннат на погранзаставу к Пантелеймону Кондратьевичу, а он переправил её на пароходе в Термез. Оттуда по путевке Центрального Комитета комсомола молодая женщина уехала в Москву учиться.
– А сколько ехать до Москвы? – спросил Алаярбек Даниарбек.
– Далеко, – сказал Гриневич, – три с половиной тысячи вёрст.
Алаярбек Даниарбек вздохнул.
– Надо приготовить кое-чего, Белка подкормить, новую подпругу приобрести...
– Что вы там болтаете? – рассердился доктор.
Но Алаярбек Даниарбек уже шёл к конюшне, бормоча:
– Другой бы радовался, а этот раздражается... У любовников условный язык! Что поймёт здесь верблюд, пасущийся в степи!
Он остался чрезвычайно доволен собой, что последнее слово осталось за ним, и запел:
Я пойду за тобой, даже если ты
Протащишь меня сквозь игольное ушко!







