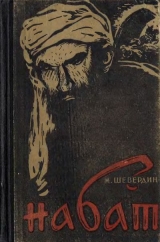
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 46 страниц)
Поднялась тревога. Начали вспоминать, когда его видели в последный раз. Высказали предположение, что он остался в Минтепе. Уже решили вернуться, но вдруг один из бойцов выступил вперёд и заговорил:
– Он ушёл.
– Ушёл? – в один голос воскликнули доктор и Файзи.
– Он сказал: «Время уходить!» Взял хурджун и камчу и ушёл.
Всё перевернулось у доктора внутри. Он никак не ждал такого малодушия от Алаярбека Даниарбека. Их отношения никогда не походили на отношения хозяина и слуги. Памир, Кызыл-Кумы, Аму-Дарья,Тянь-Шань, Бухара, Искандеркуль, эпидемия чумы на Алае, басмаческий плен, белогвардейцы, жара и мороз, голодовки, тысячеверстные скитания, – где только они не побывали, чего только не терпели, – и всегда вместе. Они всегда относились друг к другу как товарищи. Никогда доктор не позволил грубого слова в адрес Алаярбека Даниарбека, окрика, приказа. Обычно грубил Алаярбек Даниарбек, говорил резкости, язвил.
Уход Алаярбека Даниарбека больно задел Петра Ивановича, и ему даже изменила обычная жизнерадостность.
«Нет пределов человеческой неблагодарности!» – думал он.
Неприятные размышления неожиданно и незаметно перешли в бред. К концу дня доктор ощутил головную боль, головокружение, тело горело, ноги, руки ломило. Доктор слёг.
Сквозь кошмары и бред он громко твердил:
– Это не малярия... Это не тиф... Признаки другие... Отвезите меня в госпиталь...
Наутро температура не упала, но сознание прояснилось. С величайшим трудом Пётр Иванович сел и осмотрел себя – грудную клетку, живот.
– Ага, – сказал он, – я прав... у меня «паппатачи»... африканская лихорадка... Прекрасно... вызывается укусом москитов... да-с... что вы, коллега, сказали?..
И хоть никто его не слушал, доктор продолжал читать в бреду целую лекцию об африканской лихорадке, мало известной в медицине, но широко распространенной в Южной Азии.
Один только Пётр Иванович мог воскликнуть: «Прекрасно!», обнаружив у себя «паппатачи». Болезнь эта обычно продолжается не больше трех дней, но протекает бурно. У доктора держалась высокая температура. Сознание его помутилось, он не узнавал окружающих. Временами он вздрагивал и тихо спрашивал:
– А Файзи? Как чувствует себя Файзи?
И снова впадал в забытье.
На исходе третьего дня Пётр Иванович заснул. Он спал так крепко, что его не разбудили ни выстрелы, ни глухие взрывы. С величайшим трудом восстанавливал он впоследствии в памяти какой-то грохот. Мелькали обрывки смутных картин, бегущие по огню чёрные фигуры, всадники, силуэт большой лодки на фоне блестящей дорожки, протянувшейся от луны по воде.
Проснувшись утром, он долго лежал с закрытыми глазами. Ноздри вдыхали приятный запах дыма и жареного мяса. Спина и руки болели. С трудом он пошевельнулся и спросил, всё ещё думая, что приступ лихорадки продолжается:
– А Файзи? Как здоровье Файзи?
– Какой Файзи? – прозвучал медоточиво ласковый голос.
Доктор открыл слипшиеся глаза. Он лежал на камышовом снопе около почти потухшего костра.
Первое, что он увидел, – бородатые лица, оружие, коней. Напротив, по ту сторону костра, сидел Ибрагимбек. Доктор сразу же узнал его по описаниям.
Глава восемнадцатая. БЕГСТВО АЛАЯРБЕКА ДАНИАРБЕКА
Спрятался от дождя под водопад.
Народная пословица
Не раз уже и притом давно Пётр Иванович советовал Алаярбеку Даниарбеку снять чалму и избрать головной убор более удобный для путешествий и более подходящий его общественному положению и состоянию. Советы при-ходилось давать очень осторожно. И доктор обычно начинал издалека. Он знал болезненную обидчивость своего верного спутника по путешествиям и предпочитал плохой мир доброй ссоре. Петру Ивановичу не хотелось прямо говорить, как неудобно ему, советскому работнику, ездить по кишлакам в сопровождении человека, одевающегося по образу и подобию духовного лица.
– Знаешь, друг, белая кисея быстро загрязняется от пыли и грязи в пути, некому постирать вашу великолепную чалму. А насколько обыкновенная войлочная шляпа удобнее.
Но Алаярбек Даниарбек, уловив завуалированную иронию, сразу же безапелляционно обрывал разговор.
– Поистине чалма благословенна. Днём она на моей голове – и мне прохладно, ночью она под головой и мне мягко, а настанет час – и чалма послужит мне саваном в могиле.
Он многозначительно поджимал губы и устрашающе шевелил отвислыми усами, понукая чмоканьем губ своего юркого Белка, чтобы отъехать подальше от доктора, не слушать полных соблазна разговоров.
Маленькая круглая чалма умещалась на самой маковке большой круглой головы Алаярбека Даниарбека и придавала ему гордый и залихватский, но в то же время солидный и глубокомысленный вид. Возможно поэтому, когда он без стука и оклика появился в хижине пастуха Сулеймана – Баранья Нога, все сидевшие у дымного очага почтительно поднялись и уставились на него из-за огня и дыма. Они смотрели на него с недоумением и даже с испугом. Баранья Нога позже рассказывал, что за всю его долгую жизнь никогда ни один мулла не переступал его порога, а из-за белой чалмы он принял Алаярбека Даниарбека за самого бека гиссарского или кушбеги бухарского.
В глубине души Алаярбек Даниарбек чувствовал себя совсем не так уверенно, как могло показаться по его нахмуренному лбу и заносчиво поджатым губам. Но, цедя надменно «салом», он прошёл через дым и искры в почётный угол, сел на лохматую козью шкуру, предназначенную исключительно для высокопоставленных гостей, таких, как Шакир Арбуз – приказчик господи-на арбоба, владетеля стад – или зякетчи Фатхулла – налогосборщик ещё времён всемогущего эмира. Полагалось на козьей шкуре сажать и дядюшку Бараньей Ноги, владевшего дюжиной ишаков, но слывшего среди своих односельчан неслыханным богачом и всесильным человекам. Погрев с минуту руки над пламенем костра, Алайрбек Даниарбек поднял глаза и, обведя напряженно застывшие фигуры пастухов, буркнул снисходительно: «Мир и благоденствие дому. Сядьте!» Он удовлетворенно отметил трусливое и почтительное поведение обитателей хижины, и к нему вернулась его самоуверенность.
Все сели. Баранья Нога подбросил валежнику в очаг не столько из уважения к неожиданному гостю, сколько ради того, чтобы получше разглядеть его и сообразить, как вести себя дальше.
В желудке Алаярбек Даниарбек ощущал полную пустоту, ноги от долгой ходьбы горели, спина ныла. Не привык Алаярбек Даниарбек много ходить. За последние годы он всё больше передвигался на своём несравненном иноходчике Белке. Ушел Алаярбек Даниарбек с каюка совсем не потому, что струсил. Сердце у него ныло. Ни на секунду не мог он забыть, что сам плывет по реке, разлегся на паласе, точно падишах, ест, пьет, а... отрада его очей – тонгоногий красавец, белоснежный, точно облачко на небосводе, – где-то плетётся по пыльной степи, непоенный, некормленный, и какой-то мужлан камчой лупит его по нежным бокам. Нет, Алаярбек Даниарбек не смог выдержать. Как-то, когда каюк на несколько минут причалил к берегу, он ушёл. Ушёл через камыши, колючие заросли, комариные болота искать коноводов, уведших его Белка. Ему казалось, что они где-то близко. Крепко досталось ему, когда много вёрст шагал он своими избалованными ногами-коротышка-ми, не очень-то приученными к ходьбе по кочковатой жёсткой степи, да ещё когда палит солнце, а горячий ветер бросает в лицо пыль и песок. К тому же, коноводы куда-то запропастились, и сколько Алаярбек Даниарбек ни вглядывался из-под руки в желто-мутную марь, никаких всадников он не мог обнаружить. Точно в бездну провалились.
Но Алаярбек Даниарбек был не так прост, чтобы позволить степи и пустыне одержать над собой верх. Нет, он видывал виды. Он отлично разбирался в степных приметах. На большом расстоянии мог сказать, кто едет или идет навстречу и что сулит вон та крохотная хижина, над которой вьётся уютный дымок. Нет, он лучше обойдет хижину сторонкой, потерпит еще жажду и голод, потому что в тени у стенки стоят две засёдланные лошади, ничуть не похожие на тех, которых повели коноводы.
Так и шёл Алаярбек Даниарбек всю ночь и весь день на север и напряжён-но вглядывался, не забелеет ли вдалеке среди жёлто-бурых просторов его суетливый конёк...
Только отчаявшись догнать лошадей, окончательно вымотавшийся Алаярбек Даниарбек решил искать гостеприимства у пастухов.
Он сидел перед костром и смотрел на языки огня, с треском пожиравшие сухие ветки, а хозяева стойбища испуганно взирали на ночного гостя, с почтительным любопытством ожидая первого его слова. Они смотрели на его кисейную белую чалму, на его белый суконный халат, на видневшийся из-под халата татарский камзол с тяжёлой серебряной цепочкой, спокойно лежавшей на уже обозначившемся брюшке, на его поражающие воображения мягкие, самаркандской тонкой кожи ичиги, едва ли подходящие к горным и степным дорогам. Да и в таких кожаных калошах с зелёными задниками много не попутешествуешь. Куда в них идти в дождь по раскисшей глине?! «Значит, – думали пастухи, – это большой человек, он не привык ходить пешком. И к тому же, на нём не видно оружия. Значит, он уважаемый человек и нечего его бояться. Даже, наверно, ибрагимовские волки боятся и уважают его. Иначе как бы он мог спокойно идти один-одинешенек по степным дорогам?..
А Алаярбеку Даниарбеку ужасно хотелось есть. (Напиться он уже успел, переходя вброд небольшую протоку.) В желудке он ощущал спазмы от запаха свежего хлеба, доносившегося со двора. Но скорее бы он умер с голоду, чем заикнулся о еде первый. Разве почтенный человек просит милостыню? А попросить поесть – значило, по мнению Алаярбека Даниарбека, просить ми-лостыню. Точно так же он не спешил задавать вопрос о коноводах. Сказанное слово – потерянное, не сказанное – своё.
Он важно молчал.
Сев на пятки перед очагом и пошуровав веткой в огне, так что искры полетели в дымовое отверстие потолка, Баранья нога проговорил:
– Хорошо путешествовали, господин учёный домулла?..
– С помощью господней хорошо.
– Не причинил ли в пути горячий «афганец» беспокойства вашему достоинству? Надеюсь, ветер и солнце благоприятствовали вашему путешествию?
– Вы очень любезны, заботы оставили нас в покое.
– О, ваши почтенные родители должны быть довольны.
Разговор оборвался, так как неприлично задавать гостю вопросы.
Но муки голода стали поистине нестерпимы. Какие недогадливые эти невежды-пастухи?. Или они воображают, что учёные люди сыты вежливостями? И Алаярбек Даниарбек заговорил:
– Рассказывают: царь Афросиаб заблудился и зашёл в шалаш чабана. Узнав царя, чабан воскликнул: «О великий царь, сияние твоего солнца озарило мое скромное жилище. Говорят, что достаточно тебе прикоснуться рукой к железу – и оно превращается в золото.» «О, – сказал царь Афросиаб, которого терзали муки голода, – если не изменяют мне глаза, я вижу на пылающем очаге чугунный котёл». Обрадованный хозяин хижины схватил котел с варевом и поставил его почтительно перед царем Афросиабом. Насытившись, царь Афросиаб попросил воды, чтобы умыть руки... «О царь, – спросил пастух, – а когда же ты сделаешь котёл золотым?» «А разве ты не знаешь, – ответил мудрый царь, – что у гостеприимного человека вся посуда золотая!»
Сулейман Баранья Нога несколько секунд сидел с широко открытым ртом, и вдруг понял. Он смущенно улыбнулся и выбежал из комнаты. Через минуту перед Алаярбеком Даниарбеком на грубом дастархане лежали чёрные ячменные лепешки, а в деревянной миске белела болтушка из кислого молока с горохом. То, что дастархан, судя по цвету и запаху, не стирался с сотворе-ния мира, а с краев миски можно было счищать застывшее слоями сало, не помешало Алаярбеку Даниарбеку насыщаться с усердием. Со всей присущей ему любезностью он при этом поддерживал оживлённый разговор с хозяином и другими сидевшими тут же пастухами. Правда больше говорил Алаярбек Даниарбек. По мере того, как наполнялся его желудок, язык его работал всё быстрее. В то же время Сулейман Баранья Нога делался всё сдержаннее. В его тёмном сознании копошились мысли, одна неприятнее другой: «Белая чалма... халат дорогой... ичиги дорогие, ест много... говорит много – наверно, большой человек!»
– Живем хорошо, не жалуемся, – бормотал он в ответ на вопросы Алаярбека Даниарбека, – хлеб есть, сыр овечий есть, одеты, обуты. Не жалуемся.
С интересом поглядев на босые с растрескавшейся кожей ступни ног пастуха, на лохмотья, едва прикрывавшие жёлтые сухие рёбра, на обратившуюся в клочья кошму, Алаярбек Даниарбек заметил:
– И ты, господин Баранья Нога, самый большой богач здесь, говорят?..
– Ох, какие наши достатки... – испуганно протянул хозяин.
Окинув взглядом убогое жилище, более похожее на пещеру первобытного человека, Алаярбек Даниарбек сказал:
– О, я вижу, вижу!
– Приезжал к нам в степь сам верховный главнокомандующий, зять халифа, – начал чабан, и при этом сам и все присутствующие испуганно поглядели в открытую дверь и провели ладонями по бородам, – приехал и созвал народ... «Приходите» – говорит. Ну, мы пришли. Собралось много людей, ну и мы тоже. Господин зять халифа сказал: «Возношу благодарение аллаху, что вижу вас здоровыми и зажиточными».
– Знаю, знаю, – бодро заметил Алаярбек Даниарбек, хотя новость о появлении в этих краях самого Энвербея неприятно кольнула в сердце. – Однажды ястреб пришел в дом к куропатке. Видит, у неё дети-птенчики подросли. Ястреб и говорит: «О, вижу, вы, госпожа куропатка, не лишены милости аллаха! Помолимся вместе, дабы всевышний сподобил вас ещё большими благами». Куропатка обрадовалась и давай так и этак прислуживать ястребу, обхаживать его, ластиться к нему. А ястреб цап птенчиков, растерзал и пожрал. Вот тогда-то куропатка и сообразила, что к чему, а?
Он обвёл сидевших у очага взглядом и увидел выражение страха на их ли-цах, точно он был не Алаярбеком Даниарбеком, а хищным ястребом.
Не вставая, согнувшись в глубоком поклоне, едва не касаясь лбом кошмы, Баранья Нога спросил:
– Вы... не казий будете?
– По судам ходить – ходил, но не казий.
– А вы не святой ли имам – настоятель мечети?
– В ракатах склоняюсь под крышей мечети, но не имам.
– Вы... купец? – обрадовался чабан.
– Нет.
– Кто же вы, господин?
– Я – Алаярбек Даниарбек.
Едва ли рассчитывал Алаярбек Даниарбек произвести столь сильное впечатление. Он всегда и при всех обстоятельствах с гордостью произносил свое звучное имя, но сейчас сам растерялся, увидев на лицах своих собеседников настоящий, ничем не прикрытый ужас.
Несколько мгновений все молчали, точно удар грома оглушил их и заставил онеметь. И вдруг Сулейман Баранья Нога упал ниц на кошму и простонал:
– Пощади!
Все последовали его примеру.
– Пощади! Пощади! – вторили они хозяину.
– Прости нас, мы не узнали тебя! Не казни нас! О!
Они бились на полу, поминутно оглядываясь на дверь, точно ожидая, что оттуда появится нечто ужасное.
– Умоляем, пощади, – нечленораздельно лепетал Сулейман Баранья Нога. – Сколько несчастий, люди помирают там, где стоят. Чёрный год!.. Хлеб пропал... покойники валяются в степи без погребенья... Совсем затуманило башки наши... Пощади!
Он вскочил, схватил за плечо приземистого, кожа да кости, парня, подтащил его к двери:
– Беги, толстяк! Беги! Веди барана! Режь.
– Бежать? – обрадовался парень со столь неподходящим прозвищем и подмигнул неизвестно кому не только глазом-щелочкой, но и приплюснутым носом, и ртом до ушей. На его грубом лице появилось умное, хитрое выражение, очень не понравившееся Алаярбеку Даниарбеку.
И почему он тут же не остановил этого Толстяка, заслуживавшего скорее прозвище «мумия»! Всё дело в том, что Алаярбек Даниарбек безумно проголодался, а твёрдый, точно камень, ячменный хлеб вызывал резь в желудке.
Он даже пробормотал вполголоса:
– Сначала пища, а потом слово.
– Нужда у нас, – говорил Сулейман Баранья Нога, – жрать нечего, ну-жда горемычная... То бекские люди за горло хватают... то закетчи деньги за три года вперед давай... то эмир наехал – баранов порезали... Раньше нам русский хлеб привозили, а теперь господин Энвер ездить за хлебом к русским запретил... – тут он снова трусливо поглядел на дверь. – Вы уж не подумайте чего. Обнищали мы. Кареглазенькую белокожую дочку за реку Пяндж чужим людям продал, на деньга купил тридцать баранов... Наскочили на прошлой неделе энверские люди... двадцать баранов угнали, набежали иб-рагимбековские люди – последних забрали... Вот теперь, как раньше, байское стадо пасем... Есть такой бай Тишабай ходжа...
Сулейман плакал, он старался разжалобить страшного гостя, жаловался на горькую долю, и вдруг, спохватившись, что говорит крамольные вещи, начинал хныкать и умолять:
– Не слушайте мои подлые слова... Сколько кишлаков здесь: все люди вымерли... одни черепахи ползают, да ящерицы бегают... Налоги задушили... Теперь не с кого и налоги брать. Кого побили, порезали собаки эмира Музаффара, а потом стал эмиром Сеид Алим... Народ угнали в дальние места... целые селения за непокорность переселили.
Баранья Нога кричал так, что в хижину набралось полно народу. Стало тесно и душно. В комнату всунулось тощее, похожее на пилу, лицо Толстяка.
– Сейчас резать или подождать? – спросил он.
– Режь, всё равно перед Тишабаем ходжой отвечать, – крикнул ему Сулейман Баранья Нога.
– Дикие люди мы... Тёмные люди, вы уж на нас не гневайтесь.
Он подбросил в огонь хворосту, и пламя, взревев, вскинулось до потолка. И тут в душу Алаярбека Даниарбека закралась тревога. Стало светло, и он разглядел большие с короткими пальцами руки пастухов, судорожно мнущие отполированные долгим употреблением тяжеловесные дубины, которыми чабаны воюют в степи с волками и барсами. «Э, – подумал Алаярбек Даниарбек, – а что если они с этими дубинами – да на меня?» И он поспешил спрятать глаза, чтоб не видеть тяжёлых, мрачных взглядов, которые пронизывали и тревожили его.
– Мы ничтожные; мы рабы,– не прекращал ни на минуту своей горькой жалобы Сулейман Баранья Нога, – только покорные слуги... Мы всё готовы делать... Мы помогать готовы. Вот зякетчи Фатхулла от пресветлого эмира к нам приезжал. И он по-мусульмански с нами, по справедливости, и наши чабаны по справедливости. Он нам добро – и мы ему добро. Налог с нас взял, мы дали. Всё хорошо. Фатхулла остался доволен, и мы остались довольны. А потом Фатхулла сказал: «Несите ещё!» «Что нести?» – мы спрашиваем. «То я собрал налог, а теперь несите мне». «Что ж, мы говорим, для хорошего человека можно и принести». А Фатхулла беззубый говорит: «Мало!» Мы ему ещё. А он всё: «Мало, мало!» Зачем же он переступил порог справедливости? Ну, а разве аллах может терпеть несправедливость? Очень мы его просили, уговаривали: «Господин Фатхулла, делай по справедливости. Взял три четверти урожая, хорошо, бери. Взял баранов – бери. А вот больше не бери». Не послушал Фатхулла наших слов… всё раскрывал рот жадности, и... – тут Баранья Нога вздохнул тяжело и добавил: – Получил Фатхулла небесное избавление.
Он сказал это так зловеще, что Алаярбек Даниарбек взглянул на него, а за-тем на сидевших у очага. Они так выразительно смотрели, и руки их так решительно сжимали палки, что стало ясно, каким путем получил беззубый сборщик налогов «небесное избавление».
– Вы, господин Даниар, хороший человек, достойный, вы от нас ничего не требуете. Поесть хотите, это хорошо. Человеку без пищи трудно. Почему гостю не дать поесть? Ешьте на здоровье. Сейчас барашка освежуем, мяса поджарим...
Все закивали согласно бородами.
– Что ты хочешь от меня, пастух? И запомни: меня зовут Алаярбек Даниарбек, – рассердился гость. – Что ты долго рассказываешь?
– Видите, – обратился к сидящим у очага Сулейман Баранья Нога, – господин бек недоволен, кричит. Зачем кричит? Мы же тихо, спокойно. Без крика. А он говорит: тащи барашка, режь барашка, шашлык делай, кебаб делай! Разве так по справедливости?!
– Я ничего не говорил. Какой барашек? – испугался Алаярбек Даниарбек.
– Я же спросил вас про барашка, господин. Вы молчали, господин. Я сказал: «Резать барашка», – а вы молчали, господин Даниар. Кто молчит, тот хочет, а? Ваша милость? – хихикнул Толстяк. – Известно, их благоро-дию мало бобовой похлебки, подавай повкуснее. Жирный барашек сытому кажется пёрышком лука, а для голодного и варёная морковка – жареная курочка.
Всего остроумия последних слов Бараньей Ноги уловить Алаярбек Даниарбек не мог, потому что мозг его лихорадочно выискивал способ выбраться поскорее из хижины, уйти от недобрых, угрожающих глаз степняков.
– Господин Даниар – очень смелый, очень храбрый господин, даже слишком храбрый, – проговорил, придвигаясь к Алаярбеку Даниарбеку, Сулейман Баранья Нога, кладя ему на плечо тяжёлую, как кузнечный молот, руку. – Господин притеснения ходит один по степи неосторожно... совсем один...
Дрожь прошла по всему телу Алаярбека Даниарбека от внезапно надвига-ющейся неведомой опасности.
– Один, совсем один, – сказали пастухи с угрозой.
– Вы знаете обычай? – спросил Сулейман Баранья Нога.
– Знаем, – сказали пастухи.
Алаярбек Даниарбек попытался стряхнуть с себя руку Бараньей Ноги, но и на другое плечо легла столь же тяжёлая ладонь.
– Слушай, господин Даниар!
Ничего не оставалось, как слушать, и Алаярбек Даниарбек кивнул головой. Внешне он сумел сохранить спокойствие, только посеревшие щёки да выступивший на лбу пот выдавали его волнение.
– Господин берёт налоги с бедняка, господин берёт у бедняка его красивую жену и блудодействует с ней, господин тащит дочь бедняка и насилует её. Господину – веселье и плов, наслаждение и деньги. Бедняку – голод, слёзы, бесчестье. Господин – на коне, пастух идёт пешком своими ногами. Господин в холе и неге лежит на атласном одеяле, пастух мерзнет в снегу, го-рит на солнце. Господин сыт, бедняк голоден. Господин ложится в удобную могилу, пастух подыхает в степи, и шакалы растаскивают его кости.
Он обвел взглядом тёмные, точно выточенные из дерева, лица пастухов, сидевших у огня.
– Господин – кошка, бедняк – мышь. А сегодня, – закончил он, – кошка пришла к мышам, а? У мышей праздник.
Вдруг все засмеялись, и Алаярбек Даниарбек, ощущая нестерпимый страх, криво усмехнулся:
– Я гость ваш!
– Э, сладкоречивый! Разве господин может быть гостем у раба? Такой гость раза два заедет – с голоду помрёшь.
– Но разве я сказал плохое? – закричал в отчаянии Алаярбек Даниарбек. – Разве я сделал плохое?
– Э, – грубо прервал его вошедший в хижину Толстяк, – и самая злая собака виляет хвостом. А у тебя. Баранья Нога, двенадцать языков во рту. Не хватит ли говорить?.. Язык устанет, а?
Только теперь Алаярбек Даниарбек заметил у Толстяка в руке длинный нож. «Ох, отбившуюся овцу волк сожрёт», – подумал он.
– Что мы, всю ночь с ним говорить станем, – сказал другой, – принести кетмени, что ли?
– Неси, – сказал Баранья Нога.
– Что вы хотите делать? – закричал с тоской Алаярбек Даниарбек.
– О господин, – издеваясь, сказал Баранья Нога и подмигнул Толстяку, – мы только выкопаем ямку и... закопаем тебя.
– Дод! – взвизгнул Алаярбек Даниарбек таким тоненьким голоском, каким кричит какая-нибудь махаллинская тётушка, когда обнаруживает, что кошка съела цыпленка.
– Не кричи!
– Вы не посмеете меня убивать.
– Зачем убивать? Крови мы твоей не увидим. Мы только положим тебя тихо в ямку и засыплем вот на четверть землицей, а дальше всё в воле божьей...
– Кто дал право вам меня судить? Берегитесь, плохо вам придется.
– Э, не кричи, потише. Со своими кровопийцами Ибрагимом да Энвером ты, господин, сколько людей поубивал?!. Сегодня небо стало землей, земля – небом. Господа были над рабами всегда, теперь рабы стали над господами...
– Вы ошибаетесь, – смутно стал соображать Алаярбек Даниарбек, – вы меня приняли за басмача...
– Да ты и есть басмач, – сказал Сулейман и стал крутить руки Алаярбеку Даниарбеку назад.
– Клянусь, нет!
– Не клянись! В могиле клятвопреступникам плохо...
Отчаяние охватило Алаярбека Даниарбека. Душа у него подошла, как говорится, к устам, когда его, онемевшего, ошеломленного, вывели во двор. Светились в небе звёзды, дул прохладный ветерок. Около стены в большом котле булькало и шипело. Тёмные фигуры дехкан разделывали тушу барашка, белевшую в темноте салом.
– Вы зарезали барана для меня, – вдруг сказал Алаярбек Даниарбек, – и вы не смеете меня убивать, пока я не поем его мяса. Я знаю обычай.
Сблизив головы, пастухи стали совещаться.
– Нет, господин, – наконец сказал Сулейман Баранья Нога. – Мы сначала тебя закопаем, а потом уж поужинаем. Заставил ты нас зарезать барана, так лучше мы сами его съедим.
Толстощёкое лицо Алаярбека Даниарбека исказилось болезненной гримасой. Глаза его рыскали по двору. Три пастуха возились с зарезанным бараном. Один сидел у костра и подкладывал растопку, дальше несколько копали яму... Алаярбек Даниарбек вздохнул, ему стало холодно, и он весь поёжился. Рядом стояли Баранья Нога и Толстяк. Пламя костра временами поднималось и выхватывало из темноты суровые лица пастухов, камышинки, торчащие из плоской глиняной крыши, морду коня, о тревогой поглядывавшего блестящими глазами из-за низенького оплывшего дувала. Небо опустилось над землей, чёрное, беззвёздное.
Втянув всей грудью свежий воздух с запахом дыма, Алаярбек Даниарбек заплетающимся языком проговорил:
– Куда вы торопитесь? Неужто Азраил подождать не может?
– Замешкайся с тобой – вся степь узнает.
– Не торопитесь! Вам польза будет.
– Знаем от твоих собак пользу, клыки у них острые.
– Какие собаки?
– Твои, даниаровские.
– А!
Сумасшедшая радость вдруг озарила мозг Алаярбека Даниарбека. Так вот в чём дело! Его принимали за знаменитого своими кровавыми делами главаря басмаческой банды Даниара. Он схватил за руки Баранью Ногу и, захлебываясь, проговорил:
– Ошибка! Ошибка, я не Даниар! Я...
Но Баранья Нога холодно отстранился и почти с сожалением заметил:
– А я думал, ты храбрый.
– Мы сами слышали, как ты назвал себя, – протянул Толстяк.
Алаярбек Даниарбек упрашивал, умолял, уговаривал пастухов. В голосе его слышались слёзы, лесть, мольба.
– Хитрость меньше ума, – заметил Баранья Нога, – но мы все тоже хитрые. Ну как, друзья, яма готова?
И добавил:
– Хорошее дело сделаем. Тебя, злодея, кровопийцу, похороним, никто до скончания века не узнает, где тебя закопали.
– Месть узнаете. За меня отомстят. Дела хороших людей – благородные, дела дурных – дерьмо! – пригрозил, отчаявшись уговорить пастухов, Алаярбек Даниарбек.
Но Баранья Нога не испугался, только покачал головой и сказал убеждённо:
– Эге, от воя волк страшнее. А ты говорил: «Я не Даниар!» Вот теперь мы видим, что ты сам Даниар и есть. Самый настоящий бек-людоед.
И он незлобиво подтолкнул несчастного Алаярбека Даниарбека в плечо к почти готовой яме.
– О аллах, ты господь высоты и низины! – застонал Алаярбек Даниарбек. – Не знаю, что ты, но все, что есть в мире, – это ты! Посмотри на них, на невежд. Они хотят живого человека похоронить, изверги, – вдруг воскликнул Алаярбек Даниарбек в смертельный тоске. – Вы не смеете!..
Но все толпились вокруг в суровом молчании, и Алаярбек Даниарбек покорно сказал:
– Пустите меня совершить омовение.
– Обойдешься, господин Даниар. На том свете только и дел, что молитвы да омовения совершать. Довольно. Пора поставить предел колдовству колдующего.
– Ладно, – сказал Толстяк, – молитва не просит ни соломы, ни ячменя. Пусти его! Известно, умирать не хочется, вот и канителится. Дай помолиться человеку!
– Разве человек он? Животное.
Поколебавшись немного, Баранья Нога сунул в руку Алаярбеку Даниарбеку чугунный кувшинчик:
– На, да не задерживайся, – и показал на небольшую глиняную загородку около дувала, – иди вон в место освобождения, обмойся... Только не вздумай там...
– Ничего, жеребенок сколько ни прыгает, да от табуна не уйдёт, – хихикнул Толстяк.
Но он не успел закончить фразу, Алаярбек Даниарбек, не ускоряя шага, прошёл за загородку нужника. Поставив кувшин на землю, он одним рывком встал на дувал, прыгнул на коня и погнал его, не разбирая дороги, в ночную степь. Кишлачишко взорвался визгом и лаем собак. «Держи его! Дод-би-дод!», – кричали пастухи. Кто-то скакал по дороге на лошади с воплями: «Стой! Стой!» Как ни хлестал коня Алаярбек Даниарбек, но преследователи настигали его.
Несколько раз один из наиболее рьяных, поравнявшись, протягивал руку и пытался схватить Алаярбека Цзнцарбека, но каждый раз это ему не удавалось. Они скакали теперь по узкой тропинке, белевшей среди камыша. Позади слышался топот и конский храп. Алаярбек Даниарбек стащил с себя свой любимый белый халат верблюжьего сукна, свернул его в комок, обернулся и бросил под ноги лошади ближнего преследователя. Лошадь с размаху грохнулась оземь. Сзади налетел ещё один.
Через минуту Алаярбек Даниарбек вырвался в степь. Конь оказался молодой, бойкий, скакал хорошо. Алаярбек Даниарбек долго мчался во тьме и пришёл в себя только тогда, когда вдали стихли крики пастухов и дикий лай собак. Один пёс долго бежал сзади, рыча и задыхаясь от быстрого бега, но и он, наконец, отстал.







