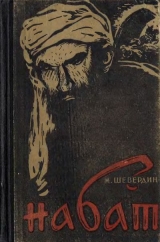
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
Едва путешественники отъехали от реки и углубились в холмистую местность, на них вновь обрушился невыносимый зной, жгучий песок, лезший в ноздри, в глаза, раздражая и в то же время притупляя все чувства. Даже Иргаш стал нервничать. Много раз он заезжал на вершицы бугров и долго смотрел во все стороны.
Внезапно кони бросились вскачь. Всадники не могли их удержать, несмотря на отчаянные усилия. Казалось, животные взбесились. Но вскоре всё выяснилось.
С шумом подъехали к колодцу и разогнали небольшую отару овец, теснившуюся у жёлоба. Пастухи с воплями «Дод!» убежали в сторону оврага.
Лошади кинулись к воде. Пили с жадностью, падая на колени, мешая друг другу.
Но колодец помог Пулату сориентироваться. Он даже не стал разговаривать с пастухами, а зашагал прямо в сторону холмов, по целине. Пулат торопился, как выяснилось потом, засветло перевалить цепь низких гор, чтобы выбраться в долину Марджерума.
Полный терпения доктор сносил всё: и зной, и жажду, и голод, лишь бы не опоздать. В душе он не очень верил в успех своей поездки, так как слишком хорошо знал болезнь Файзи и давно уже требовал, чтобы он отказался от походов и принялся лечиться. Но, несмотря на свой трезвый диагноз и на полное неверие в чудеса, Пётр Иванович не оставлял надежду.
Надо спешить. А тут чёрт бы побрал этого Иргаша, они плутают и плутают по степи.
– Эй, Иргаш, – говорит доктор, – нельзя ли ехать прямее?
Иргаш удивлен:
– Прямее?
– Да мы мечемся по лику земли, как зайцы.
– Мы и есть зайцы, – мрачно ворчит Иргаш. И он начинает показывать: – Сюда пойдём – Ибрагимбек, туда – зять халифа, налево – Касымбек, направо – Мадраимбек, сюда – Тугай сары... Кругом шестнадцать. Мы в середине. – И он тычет пальцем в самую середину ладони.
Подумав, Иргаш снимает с пальца кольцо с печаткой, кладет на ладонь, смотрит на него и... вдруг с силой сжимает кулак...
– Вот!
Доктору всё ясно. Он недоволен одним: Иргаш явно не доверяет познаниям Петра Ивановича в языке и предпочитает объясняться наглядно.
Но Иргаш всё ещё держит перед собой кулак и, хитро поглядывая на док-тора, начинает медленно разжимать пальцы.
Кольца на ладони нет. Оно таинственно изчезло. Иргаш даже смеётся, что вовсе не идёт к его вечно мрачной физиономии.
– Вот видел! – говорит он. – Я джадугар – колдун.
Затем он лезет в грудной кармашек камзола и, вытащив кольцо, вертит его перед удивленным лицом доктора.
– Видел? Так и Иргаш. Хлоп, а его там нет!
Доктор верит, что Иргаш выведет их из басмаческого окружения и гово-рит:
– Твой отец тяжело болен.
– Бог посылает болезни.
– Я еду лечить его.
– И бог посылает исцеление... если на то его воля.
Он отвечает так быстро, что доктор раздражается.
– Пойми, я еду, чтобы спасти твоего отца от смерти.
– Никто, кроме бога, не властен в жизни и смерти.
Внутренне посылая Иргаша к чёрту, доктор говорит, медленно чеканя слова:
– Мне сейчас не до бога, понял? Молчи! Я спешу к больному. И ты должен сделать все, чтобы мы доехали, пока отец твой жив, и я смогу ему помочь.
Произносит эти слова милосердия доктор с угрозой, и Иргаш понимает это.
– Хорошо! – говорит он.
Дивился доктор неслыханной выносливости их проводника Пулата. Он целиком оправдывал свое прозвание «Быстрый как ветер». Лошадь, выданная ему Пантелеймоном Кондратьевичем, не устраивала Пулата. Часто он спрыгивал с неё и шёл пешком. Он шагал быстро, размеренным коротким шагом, не поднимая за собой и облачка пыли. Пулат ступал легко и красиво. Так ходили, наверно, в старину опытные скороходы. У Пулата была одна страстишка. В длинных рукавах его халата жили ручные перепелки. Пулат выпускал их на привалах поклевать травку и жучков. Птички не убегали, не улетали. Едва Пулат начинал как-то особенно чмокать губами, они бежали к нему в рукав. На закате Пулат пел одну и ту же песню. Доктор записал бесхитростные её слова:
Посмотри на небо. Сколько звёзд!
Звёзды, что ты видишь, – капли крови.
То кровь народа, которую пролил эмир.
Посмотри на землю – жемчугом сверкает роса!
То ожерелье крови казнённых.
Ленин живёт в Москве. Ленин – герой.
Он работает день и ночь. Он велик.
Ленин любит бедных, он не любит богатых.
Без рабочей руки не было бы крыши,
Без крестьянской руки не было бы хлеба,
Без рабочих и крестьян нет богатств!
Аллах, если ты творец богатств,
То, кроме народа, нет бога.
Они едут теперь по тёмной долине. Снова ночь. Не видно ни зги. Иргаш ведёт их уверенно и решительно. Он подъезжает в темноте к доктору и спрашивает:
– Табиб, отец умрёт или останется жив?
– Ты только что говорил: всё от бога.
Но Иргаш не отвечает, он говорит:
– Мы приедем. Отец ещё живой будет?..
– Надеюсь.
Последний переход оказался лёгким, дорога вилась по неширокой долине. На далеких вершинах Гиссара таяли розовые пятна отсветов закатившегося солнца. Быстро, без сумерек, выползла, крадучись, густая южная ночь, а на западе по небу ходуном ходили лиловые дрожащие полосы... Навстречу путешественникам шли без опаски дехкане с вечерней песней:
У дервиша – тыква счастья,
У дехканина тыква – ужин.
Под встречавшимися на обочинах дороги чинарами попадались первые чайханы-навесы. И оттуда выглядывали совсем мирные, даже улыбающиеся физиономии людей. Стало ясно, что гарнизон близко и басмачи не очень-то охотно суют нос в здешнее селение.
Ветер нёс с холмов запахи спеющих хлебов и сухих трав. Прохожие охотно, без всякой боязни показывали дорогу. «Отряд, – сказали они, – стоит выше, в горах». Дорога пошла по склону гигантского, поблескивающего в сумерке золотом пшеницы холма. Вскоре невидимые в темноте ветви стали цепляться за шапки всадников. Потревоженные ночные птицы сердито хлопали крыльями и кричали в листве.
Из-за склона взошла луна, точно белый диск льда с голубыми пятнами, и сделала тропу холодной и таинственной. Тени от коней плыли, плескались в лунном свете. Давно забытое ощущение прохлады пронизало тело, и стало дышаться легко и свободно. Духота осталась где-то далеко внизу, за вдруг выросшими за спиной минаретообразными утёсами со светящимися в сиянии желтоватого месяца верхушками-пиками. Кони зашагали, несмотря на крутой подъём, быстрее, высекая подковами маленькие молнии из камней. Тень заслонила свет... Зазвенело, заплескало, забурлило – и в лицо полетели брызги. Кони захрапели, потянулись к воде. Откуда-то с высоты лился целый поток. Водопад низвергался с утёса, на верхушке которого сверкала, точно бриллиант чистой воды, яркая Зухра – Венера. От водопада, подобно серебряной ленте, сбегала вода.
Напились.
– Уже близко, – сказал Пулат.
Поехали дальше.
Они ехали всю ночь и, когда уже лошади окончательно выбились из сил, оказались в Мурджеруме. Хотя и рассвело уже, но доктор так устал, что если даже ему предложили бы все блага мира, он не мог бы описать внешнего вида кишлака. Он даже не помнит, как очутился на большом айване у постели своего друга Файзи.
Прежде всего Пётр Иванович взял его руку и стал считать пульс, и, уже считая, он встретился глазами с Юнусом. Только теперь доктор понял, что здесь он не один. На айване собрались все командиры и бойцы отряда.
То ли от крайней усталости, то ли просто безотчетно, но доктор не смог скрыть, насколько он поражён и расстроен состоянием Файзи. Все заметили это, и среди сидевших послышались громкие вздохи.
Файзи открыл глаза. При виде доктора он улыбнулся:
– Приехал доктор, а я... такой... плохой..
– Здравствуйте, Файзи.
– Разболелся я. Тут вот они, – и он усмехнулся болезненной улыбкой, – уже вокруг моего ложа водили барана... Сколько их ни учил я, а они, смо-трите, во что верят... Зарезали барана и роздали нищим. Я не стал возражать. Пусть бедняки поедят сытно... Видно дело мое трудное, раз вы приехали, доктор...
– Ничего, сейчас посмотрим вас... Вот он нас привёл. Подойди, Иргаш.
– Иргаш? Здесь? – с хрипом вырвалось из груди больного. Он сделал отчаянную попытку подняться.
– Лежите, лежите, он подойдёт, – доктор обернулся и сделал знак Иргашу, прислонившемуся к столбу и смотревшему на отца.
Упираясь локтями в постель и неестественно выгнувшись, Файзи поднял голову.
– Зачем ты приехал? Рано ты пришёл. Я ещё не умер. Подожди немного... И тогда тебя, убийца, обведут вокруг моей могилы.
Переминаясь с ноги на ногу, Иргаш молчал, только желваки ходили на его скулах.
– Что же? Ты наточил свой нож и на отца, а? – снова заговорил Файзи. – Иди, иди, я не боюсь... Иди пролей кровь того... кто... родил тебя...
Он упал на подушку и слабым голосом продолжал:
– О, он видит... отец умирает... Он пришел посмотреть, как... отец... его... умирает...
Вдруг он с силой, непонятной в этом ослабевшем теле, поднялся и сел на постели.
– Братоубийца, ты... ты... родного брата предал в руки палачей, теперь пришёл... убить отца...
И так как Иргаш всё ещё молчал, Файзи попытался встать. С поразительной силой он вырвался из рук доктора и Юнуса и, показывая на Иргаша протянутой рукой, крикнул:
– Проклят... проклят... проклят...
Спотыкаясь, Иргаш спустился по каменным ступенькам айвана и побрёл вниз по улочке кишлака.
Файзи потерял сознание. Доктор и Юнус бережно опустили его на постель.
Доктор сделал всё, что было в его силах, чтобы вернуть больного к жизни. Но бесполезно.
Командир добровольческого коммунистическсго отряда, рабочий, труженик, человек большого сердца и великого мужества, Файзи Шами умер через несколько часов, не приходя в сознание. Его похоронили на склоне холма близ селения Мерджерум. И, воскрешая древний обычай своих далеких кочевых предков, бойцы отряда, прежде чем прощальным залпом проводить своего Файзи, насыпали над его могилой курган, который с тех пор называется Файзи-Тепе.
Глава тридцать третья. ПУТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВА
Неверие человека, подобного мне, невероятно.
Его невозможно допустить. Крепче, чем моя вера, нет веры.
Во все эпохи есть один такой, как я – и тот неверный!
Так значит во всю эпоху нет ни одного мусульманина.
Абу Али ибн-Сина
Если когда-нибудь с моего языка сорвется слово покаяния,
то от такого, осквернения я прополощу его вином.
Хафиз
Измождённое лицо пепельного цвета, высохшее тело аскета и странная нездешняя одежда, делавшая Сеида Музаффара похожим на неведомую птицу из страны зловещих легенд, поражали всех встречных настолько, что они торопливо слезали с лошадей и ишаков и безмолвно сгибались в поклоне. Слова приветствий замирали у них в горле. А всадники ехали всё дальше, чаще всего напрямик, минуя большие дороги, по тропинкам, протоптанным скотом, а то и просто целиной, по степи. Ишан беспощадно гнал коня, и спут-ники его в душе приходили в отчаяние: до того все устали, хотя никто не смел заикнуться об этом вслух. Чем дальше, тем хуже. Почти полдня пришлось ехать по сухим лессовым обрывам. В узких естественных коридорах пыль стояла стеной, и духота делалась нестерпимой. Пища, чалмы, одежда, руки, гривы коней покрылись слоем беловатой, тонкой, как пудра, пыли, которая смешалась с потом и образовала глиняную корочку, и когда всадники выезжали наверх, они походили на легион бледных джинов, выскочивших из преисподней, чтобы тотчас же провалиться под землю. За холмами и обрывами пошли раскалённые солнцем галечные поля.
Принимавшие участие в путешествии ишана и присоединившихся в качестве паломников и добровольных проводников, помещики и баи из окрестных кишлаков первое время старались изо всех сил, скакали лихо впереди, чтобы предупреждать народ о приближении священного каравана высокопоставленного паломника. Они требовали у местных жителей доброхотных даяний «на дорогу» и не брезговали ни деньгами, ни продуктами. Некоторые обнаглели до того, что от имени ишана заставляли дарить себе халаты, коврики для молитвы, отрезы сукна, шелка. Но время шло, ишан не останавливался на отдых, измученные вконец непривычной скачкой по горам, даже наиболее ретивые изнемогали и старались незаметно отстать. Один из видных в прошлом эмирских чиновников Токсаба Бадреддин, вымотавшись вконец и посоветовавшись с друзьями, решил, как он выразился, помочь просветиться разуму господина святого. Он поспешил в видневшийся вдали кишлак, поговорил с некоторыми из его жителей и, выждав время, направился с ними навстречу ишану, неутомимому, непреклонному, ехавшему в седле всё так же прямо и спокойно.
– Говори, – глухо сказал ишан, почти не шевеля губами.
– О святой, о обитель рвения ислама, дозвольте спросить. Мне, знающе-му здешние места, хотелось бы обратить внимание вашей милости на одно неизвестное вам обстоятельство.
– Говори короче!
Несколько растерявшись, Токсаба Бадреддин уже не столь уверенно продолжал:
– Вот жители здешнего селения. Они умоляют вас прервать ваше паломничество. Скажите! – обратился он к двум розовощёким чернобородым здоровякам в белых аккуратных чалмах, – скажите, аксакалы, что знаете.
– О господин, – почти в один голос завопили аксакалы, – ваш путь усложнился, ваша дорога покрылась камнями затруднений. Мосты дальше на дорогах поломаны, овринги обрушены. Остановитесь в нашем селении, ибо дальше в кишлаках вы не найдёте и куска хлеба и снопа клевера. Кругом нечестивые воины Красной Армии. Увы! Опасности предостерегают.
– Клянусь, о святой ишан, я как ваш проводник не могу поручиться за здоровье и благополучие вашей милости, я...
Но он смешался и замолк, потому что встретился с пристальным, сверлящим взглядом ишана.
– Я не приглашал тебя в проводники.
Не останавливаясь, Сеид Музаффар продолжал путь. До курусайского бая Тишабая ходжи дошла весть, что ишан кабадианский едет мимо кишлака, и он поспешил навстречу. Ехал бай на быстроногом скакуне серо-стальной масти. Конь всегда стоял в подвальной конюшне, и бай садился в седло разве только два или три раза в год. Белые нежные копыта коня не переносили твёрдой каменистой дороги, и потому басмачи не увели его. Убранство коня превосходило всякие описания. Вплетённые в его челку и гриву бирюзовые камни соперничали голубизной с небом, нижний потник из тканого шёлка сиял пурпуром, верхний, покрытый золотым шитьем, поражал тонкостью богатого узора. Из-под бархатной подушки с изумрудными кистями выглядывало седло с золочёным сидением и лукой, а фигурные стремена казались выкованными из золота. Шёлковые подпруги, покрытые серебряными бляхами уздечки, нагрудник, нахвостник, изящные тумары-талисманы от сглаза, от болезней, от падения с лошади довершали убранство байского коня. Сам Тишабай, ещё не оправившийся после пыток и потрясений, жёлтый и тощий лицом, восседал на коне с важностью, и казалось, что огромный живот его еле-еле вынесет тонконогий конь. Бай, стремясь, очевидно, показать свою важность, надел семь-восемь ватных с шёлковым верхом халатов и перепоясался семью-восемью бельбагами и, несмотря на прохладный утренний ветерок, обливался потом, сбегавшим на лоб из-под громадной чалмы.
Увидев приближающуюся кавалькаду, Тишабай ходжа скорчился, слез с коня на землю и, став посереди дороги, поднял руки к небу:
– Помоги, святой господин!
– Говори!
– Заступничества прошу от дехкан Курусая. Призываю бога в свидетели! Всю жизнь я был отцом курусайцев, а теперь подняли они со своим ревкомом, этим бунтарем Шакиром Сами, на меня дубину. От их злобы и зависти уже вода поднялась выше моей головы. Перестали слушать меня. Не платят долгов. Сколько недоимок скопилось за ними. Помоги, святой ишан! Я могу быть полезен твоему делу, ишан, имущество моё велико, – у меня сила.
Он изгибался в поклонах, прикладывая пальцы ко лбу и глазам.
Смотря в пространство перед собой, ишан сказал:
– Если бесталанный человек хвалится своими деньгами – он ослиный зад! Ты и так богат, бай. Захотела рыба в реке дождя, я вижу. Уходи!
– А, – удивился Тишабай ходжа, – я дам две сотни баранов для прокормления твоих мюридов, святой ишан.
Уперевшись руками в колени, Сеид Музаффар проговорил:
– Слушайте и повторяйте слова мудрых. Баязид Бестани изрёк: «Ты хочешь достигнуть желания? Тебе следует сделать два шага: один шаг прочь от мира, другой – прочь от желания». Послушай, бай доброе слово старика Бестани: откажись от зерна, чтобы спастись от силков. Но твой ум, бай, равен зернышку кунжута. Думал я, пожалуешься на Ибрагима-конокрада или на Батыра Болуша, или на других разбойников. Вот что они сделали с тобой. Вижу, правильно говорят: если бы доход увеличивался согласно знанию, то беднее всех были бы невежды, но невеждам посылают небеса такое богатство, что сотни ученых только руками разводят.
Сопя от натуги, бай с трудом выпрямился и глядел, поражённый, на ишана.
– Жаловаться? – пробормотал он. – Зуб хоть и прокусывает порой язык, но при всём том язык и зубы всегда останутся друзьями. Батыр Болуш обидел меня, но он свой... он мусульманин. С него я получу сам, всё найду... А Шакир-ревком кто? Большевик, кяфир. Помоги мне, святой! Эй, ишан, возьми, конь этот – твой!
– Жил ты, бай, сытно ел, двадцать слуг бежали перед тобой, всё селение держал в своём кармане, бай, а разума в тебе вот настолечко нет. Эй, уберите его. Лживые никому не угодны – ни богу, ни людям. Пойди к ревкому Шакиру, поклонись. Отдай дехканам землю. Она их, эта земля. Они напоили её своим потом. Смотри, желчь проступает на твоих щеках. Эй, прогоните его...
С диким воем мюриды погнались за обезумевшим Тишабаем ходжой, нахлестывая его плетками и нагайками, и через минуту исчезли в облаке пыли.
Ишан поискал кого-то глазами. Как раз в это время из скал выскочил всад-ник на взмокшем коне и, не слезая с седла, наклонился к самому уху ишана и что-то тихо заговорил.
Отпустив его взмахом руки, ишан повернулся к Токсабе Бадреддину.
– Ложь и коварство неотделимы. Кто тебя подослал, не знаю. Горе тем, кто станет мне на моем пути!
И небрежно через плечо распорядился:
– Заставьте его замолчать!
Он не обернулся на отчаянный вопль, а продолжал свой путь, всё такой же невозмутимый и мрачный...
Если порыться в архивных документах того времени, можно проследить путь ишана кабадианского в дни, предшествовавшие крупнейшим событиям, потрясшим в в том году весь Восток.
Ишан не заботился ни об удобствах своих, ни своих людей, ни тем более коней. С упорством поистине поразительным, со скоростью невероятной и не по обычной караванной дороге, а по козьей тропе, сделав крюк к северу через перевал Сармантай, он держал путь прямо от кабадианских садов, через пустынные горы к мутно-жёлтому Вахшу. Ночью он зажег костры против Лягмана. Его уже ждали. В Лягмане зажгли ответные костры. До бледного рассвета шла по переправе возня, а утром ишан скакал через пустынную Вахшскую степь, обходя с юга Курган-Тюбе, где стоял сильный красноармейский гарнизон. Принимал пищу ишан в час завтрака у древних курганов Хан-Тю-бе. Поразительно увеличилось за ночь число его спутников. Все они сидели на крепких сытых конях. Командование Н-ской дивизия рассчитывало, что после шестидесятивёрстного перехода ишан остановится на ночлег у Хан-Тюбе, но ишан и его конники своими поступками напоминали древних кочевников, которые умели и обедать и спать в седле. Вечером с ишаном разговаривал на перевале Ташрабат командир 28-го кавалерийского полка Семё-нов. Но у Семёнова был с собой только взвод, и он счел за благо предупредить ишана о движении конных масс ибрагимовских всадников, намеревавшихся перехватить его с паломниками.
Где спал ишан ночью, что он делал – неизвестно. Во всяком случае, едва ли он много спал, потому что, когда солнце подрумянило Тушнионекие халмы, ишан принимал в свой отряд сотню добрых джигитов на резвых кулябских лошадках.
Здесь же состоялась встреча ишана с председателем ревкома селения Курусай Шакиром Сами.
Прослышав о том, что бай Тишабай ходжа пустился в путь навстречу ишану, Шакир Сами пошёл в конюшню и долго смотрел на единственного своего конька.
– Пришло время седлать коня, – вдруг громко проговорил старик.
Он выехал из Курусая, не сказав никому ни слова. Старики только качали головами и поджимали губы. Более молодые шли за лошадью до самой околицы кишлака и молчали. Все знали, зачем он едет, и были в душе уверены, что Шакир Сами, их старейшина и ревком, не вернется, что ишан кабадианский, известный своим крутым нравом, пришлет в Курусай его голову. «Цена головы бедняка – грош!» Так думал и сам Шакир Сами. Но ни он, ни его друзья не выражали своих опасений и смотрели на поездку не как на подвиг, а как на самую простую необходимость
Когда только вооружённые винтовками юноши, самоохрана кишлака, попытались безмолвно сопровождать его, он остановился и прикрикнул:
– Назад, суслики! Вы забыли своё дело. Дело ваше – охранять очаги отцов от воров и бандитов. Убирайтесь!
Он поглядел, как юноши засеменили обратно к красным домикам, рассмеялся добродушно и затрусил себе рысцой по дорожке, словно ехал на базар, а не на смерть...
Удивительно, Сеид Музаффар не отрезал ревкому Шакиру Сами голову, даже не разгневался на нечестивые речи бунтаря, осмелившегося проявить непослушание и Ибрагиму и Энверу, затеявшему настоящую войну против исламского войска. Ишан не приказал казнить мятежника Шакира Сами и бросить его тело собакам. Сеид Музаффар, о чудо из чудес, не разгневался даже. Напротив, остановив знаком руки весь свой многолюдный кортеж, он слез с коня и обнял и обласкал председателя ревкома Курусая. И, о высшее уважение, он приказал расстелить перед Шакиром Сами, как перед могущественным ханом, тут же на траве посреди степи дастархан первой степени. Сеид Музаффар благосклонно и внимательно слушал простого дехканина Шакира Сами, когда он принялся жаловаться на произвол и бесчинства воинов армии ислама. Святой ишан не испепелил гневом ничтожного, а соизволил даже, несмотря на сосредоточенность и мрачность мыслей, посмеяться, когда Шакир Сами заявил гневно:
– Что наш Курусай и наши события для великих? Но в норе муравья и капля воды – потоп! Плохо нам, маленьким людям! Дурной человек заездит лошадь до смерти. Курусайцы устали возить на своих спинах всадников, изнемогают, жалеют о дне своего рождения...
– Хо, хо, – загремел Сеид Музаффар, – лошадка-то оказалась с норовом. Лягается лошадка-то! Хо-хо!
– Ибрагим кричит – я хороший! Энвер кричит – я хороший! Грабёж, вымогательство, кровопролитие... Долго нам ещё терпеть? Слёзы женщин и детей протачивают сердца!
– Когда два дракона дерутся, черепахе быть сытой. Так ведь, старик?
– Беда, если ворона стала соседкой, пищей у тебя станет навоз. Курусайцы уже из мякины хлеб пекут. Скоро мякины не останется.
Эти слова Шакира Сами вызвали ропот среди имамов и помещиков, толпившихся около ишана... Этот большевистский Ревком совсем обнаглел. Непонятно, конечно, почему ишан, неисповедимы пути аллаха, обласкал боль-швика-гяура, но уж если на то пошло, радуйся милости и держись тихо, скромно. Но под гневным взглядом ишана все осеклись и смолкли. Как ни медленно ворочались мысли в их мозгу, но им стало ясно, что ишан не позволит обидеть старика. Шакир Сами пришел от имени народа, – решили они, а святые отцы искали тогда любви у народа. О, неизреченна мудрость господина ишана Музаффара.
Между главарями басмачей не было согласия. Более энергичные и хитрые душили слабых. Энвербей находился в состоянии почти явной войны за власть с Ибрагимбеком. Локайский конокрад окончательно обнаглел. Ненависть, зависть, страх не давали ему покоя. Неудачи Энвербея вызывали злорадный восторг у Ибрагимбека. Он не наказывал мятежные кишлаки, хотя от Энвербея шли предписания за предписаниями.
Шакир Сами с недоумением поглядывал на Сеида Музаффара и, в простоте душевной, подозревал какое-то коварство. Он думал, что вот-вот по знаку могущественного ишана на него кинутся нукеры с саблямя наголо, ибо шея человека тоньше волоса. Но нукеры, подобострастно изгибаясь, несли блюда с угощением, и вскоре старик успокоился совсем. Мужицкой своей сметкой он постиг, что Сеид Музаффар не только не зол на курусайцев, но даже доволен их мятежными настроениями. Тогда Шакпр Сами сам стал держаться независимее.
Он потребовал, чтобы в возмещение всех убытков, понесенных курусайцами от басмаческого разора, Сеид Музаффар повелел Энвербею, Ибрагимбеку и главарям вернуть курусайцам овец, лошадей, быков, награбленных басмачами. Мало того, он сказал, чтобы Ибрагим-бек из своих амбаров отпустил бы пшеницы и кукурузы для голодающих дехкан.
Слушали ишанские приближённые и шептались: «Если вошь ползет по ноге, заползет на шею. Дашь волю рабу, сядет на шею!» Все ждали, что «жила терпения» ишана кабадианского наконец лопнет и Шакир Сами за свою неслыханную наглость поплатится. Все думали, что Сеид Музаффар в своей неизреченной мудрости забавляется с этим стариком, как кошка с мышью: даст ему высказаться, чтобы получше узнать его злонамеренность, а затем прикажет предать жалкой смерти. Но так не получилось. И – о потрясение для всех умов! – ишан потребовал лист бумаги, свою серебряную чернильницу и калям.
Собственноручно начертал он фетву – повеление о том, что отныне он, ишан Кабадианский, запрещает кому бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах причинять утеснение жителям Курусая, трогать их и обижать под страхом божьего гнева. Сеид Музаффар приказал мирзе приложить печать и вручить фетву ошеломленному Шакиру Сами.
– На, возьми, старик, – сказал мирза с низким поклоном, – читай... Начертано рукой самого! Поражённая изяществом почерка святого ишана, чернильница положила палец изумления в свой рот... На, держи, удивляйся!
Но больше всего удивлялся прибывший в стан ишана как раз во время это-го разговора Шукри-эфенди, мёртвоголовый адъютант Энвербея. С интересом и недоумением прислушивался он к беседе, и хоть на его лице мертвеца ничего нельзя было прочесть, он от души возмущался поведением ничтожного земледельца, осмелившегося говорить такое могущественному духовному лицу.
К великому конфузу мёртвоголового, Сеид Музаффар не только благосклонно выслушал Шакира Сами и вручил ему фетву, но и лично проводил его до коня и помог ему сесть в седло.
– Поезжайте, достопочтенный Шакир Сами, к себе в свое селение. Пусть не голодают дети мусульман. Будьте стойки и мужественны! Час избавления близится!
Не обращая внимания на недоумевающие взгляды своих приближённых, Сеид Музаффар вскочил на коня и поскакал по степи.
С трудом поспевал за ним мёртвоголовый адъютант.
– Итак, господин святой, вы наконец решили примкнуть к господину зятю халифа. Такова воля небес! Всё к возвышению нашего главнокомандующего.
Под внешней приторностью и вежливым обращением адъютант нехотя прятал спесивое пренебрежение к этому неотёсанному, как он думал, мужлану и дикарю.
– На небе есть гелец, под землёй – бык. Открой пошире глаза разума, о ты, турок, человек рассудительный, и погляди на кучу ослов под быком и над быком!
– Ч-ч-то вы изволили сказать? – пробормотал обескураженный адъютант и растерянно начал поправлять на себе ремни своей щегольской амуниции.
– Намерения аллаха не поддаются измерению человеческим разумом, – издевался ишан.
– Сколько у вас людей? Последователей? Мюридов? Воинов?
Шукри-эфенди даже вынул из кармана френча блокнот и, подпрыгивая в седле, приготовился записывать.
Но ишан невозмутимо сказал:
– Столько, сколько угодно богу. Я не считал...
Адъютант начал считать сам. На изумленном жёлтом лице его появилось нечто вроде улыбки. Людей насчитал он много – недурное подкрепление. И потом – сам ишан кабадианский! Авторитет, духовный пастырь.
– Вы слышите? – спросил адъютант и ткнул рукой на север. С севера, со стороны Бальджуана, доносилась грозно нарастающая стрельба. – Красная кавалерия! – добавил многозначительно мёртвоголовый. – Тяжёлые бои.
– О всевышний, направляющий сердца и взоры, внутренним оком мы видим, внутренним слухом мы слышим. Час близится. Иди, мы будем молиться.
– Что я должен передать? – надменно заявил турок.
– Передай, что видел.
Адъютант ускакал в сторону Бальджуана. За ним, пыля, помчались воины из личной охраны зятя халифа.
По холмам и горам кралась тревожная ночь. В небе полыхали багровые пятна, на севере, на востоке шла далёкая стрельба.
Остановились снова на ночлег среди холмов. Где-то рядом в кишлаке выли собаки. Звякая распущенными удилами, хрустели сухим клевером лошади. Люди, пожевав чёрствых лепёшек, молча укладывались спать тут же у копыт коней, подостлав какую-нибудь дерюжку. Никто не роптал, не жаловался. Степняки и горцы – народ закалённый, неприхотливый.
Шли уже вторые сутки, как все были в седле. И каждый только думал: «Лишь бы соснуть немного. Хоть самую малость».
Чуть ощутимый ветер шелестел у самых ушей сухими травинками, нёс с собой запахи степи. Ветер сквозь стрекотание кузнечиков доносил топот одинокого всадника. Потухали костры на далёких перевалах.
Не прошло и нескольких минут, а сон уже сморил всех. Тогда послышалось сопение, храп, охалие сотен мертвецки усталых людей. Кто-то выкрикивал во сне: «Ур! ур!», кто-то жалко всхлипывал.
Всходила жёлтая сморщенная луна.
У пастушьей юрты стояли двое.
– Завтра? – спросил один из собеседников, и по голосу можно было узнать ишана.
– Да, совет состоится через два часа после вечерней молитвы. В вашем распоряжении день, – ответил второй.
– Я готов!
– Да будет велика его победа!
Глухо, нараспев Сеид Музаффар, чуть покачиваясь, декламировал:
– Сатурн спрятал драгоценности плеяд в изумрудный ларец неба, а вор предрассветной зари утащил его, положив себе под мышку... Сатурн... драгоценности... изумрудный ларец...
Он глубоко вздохнул и сделал шаг вперёд.
– Как ты думаешь, Газиз? – сказал он вынырнувшему из темноты человеку в огромной меховой шапке. – Что ты думаешь, Газиз? Если вот сейчас подкрадется враг и начнёт прирезывать их вон с того краю, хоть один из баранов очнётся, чтобы прочитать по себе заупокойную молитву?
Газиз сдвинул сконфуженно на лоб шапку и поскреб всей пятерней потылицу.
– М-м... – помычал он в ответ, – бедняги устали.
– О бог мой, и после того они смеют называться моими мюридами! Мо-ими учениками! Они должны учиться не спать и не есть, пока бодрствует и постится их наставник – пир.
Говоря, ишан «распалял гнев свой», как говорили про него в народе. Через минуту зычный голос нёсся подобно рёву медного карная над спящим станом.








