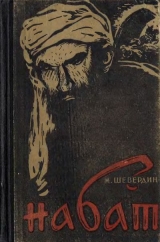
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 46 страниц)
Глава тридцать первая. СВЯТОЙ ИШАН
До земли склоняет голову перед тем, кто кланяется.
До неба поднимает голову перед тем, кто задирает нос.
Ахмад Дониш
Просыпался ишанский двор. Тыквоголовый привратник, кряхтя и поскребывая пятерней волосатую грудь, выполз из своей худжры-норы, отряхнул соломинки и пушинки, зевнул, безмолвно пнул ногой немого конюха Деревянное Ухо и важно зашагал к воротам.
Деревянное Ухо только заворочал жёлтыми белками, замычал, но с места не шевельнулся.
Скинув пудовый засов и поднажав плечом на ворота, Тыквоголовый развел корявые скрипучие створки – и во двор хлынула светлым облачком пыль. На ровном глиняном дворе ворвавшийся из степи утренний ветерок поднял, поставил перед собой листья, соломинки и погнал, точно солдатиков, а с грецкого ореха вниз сорвались и важно поплыли вдогонку толстые сухие листья. Тыквоголовый вышел и стал смотреть из-под руки в степь, на реку, на камыши. Он и не обернулся на шлепающие шаги, раздававшиеся за спиной. В белых исподних, в каушах на босу ногу, вороша свою густо-красную бороду, проследовал в место освобождения сам преподобный ишан. Скрип ворот вывел из дремоты осла, он зашевелил ушами и поднял отчаянный вопль.
– О всевышний аллах, – прозвучал голос повара с крыши, на которой он нежился со своей шугнанской супругой, – кто заткнет тебе твою глотку.
Замечание повара было вполне уместно, ибо осёл в своем приветствии нежному утру столь переусердствовал, что начал издавать не очень благозвучные звуки.
– А, дьявол, – зевнул повар, – нет худа без добра, – и хотел уже обнять свою пухлую шугнанку, как вдруг заметил над низенькой глиняной загородкой места освобождения голову и плечи самого владыки здешних мест ишана. – Ох, – пробормотал повар, – поистине ишак умнейший из ишаков... Время вставать...
Он спустился с крыши и побежал на кухонный дворик, с азартом принявшись стучать железными шумовками и чугунными котлами. Шуму он делал столько, что в кухонное помещение явилась вертлявая, грудастая, вся звенящая подвесками служанка ишановских жён и важно приказала:
– Эй, ты, повелитель котлов и очагов, не шуми! Несчастный, ты разбудил моих повелительниц.
– А, Звезда вечерних небес Зухра, как ты прислуживаешь розе ишанского цветника, несравненной причине моих воздыханий, очаровательной Гуль!
– Тсс, – служанка приложила палец к пухлым губам, – как смеешь ты трепать язык о новой жене святого ишана!..
Зыркнув глазами на дверь, повар ущипнул красавицу и не без игривости заметил:
– Гранатам, душа моя, не сравниться с твоими грудями... Но спать надо ночью, а сейчас уже день. Поистине, неужели твоей госпоже не давал покоя господин преподобный ишан, вызывая у неё бессонницу?
Руки повара тем временем воровски пробрались за пазуху служанке.
Отнюдь не сердито (ибо смоляные монгольские усы повара заставляли замирать не одно женское и девичье сердце) служанка хихикнула и, с нарочитой стыдливостью опустив глазки, запротестовала:
– Э, господин повар... поосторожнее.
– Птица летит туда, где есть корм, – галантно заметил усач. – Я слышал... наш ишан частенько расстегивает застежки на одежде бутонов...
– Да, он такой лихой наездник, что наши лошадки от него покоя не име-ют. Он не вылезает из седла всю ночь... Ну и мы, хоть и не супруга, не оставлены их милостями... – добавила Зухра с наивным хвастовством.
– Эх, если недоступна госпожа, попользуйся милостями служанки. Нель-зя ли, очаровательница, через тебя сподобиться ишанской благодати? Говорят, даровое вино и казни выпьет.
– Э, слова человека – жвачка. Не такое колено у вас, господин повар, чтобы мять мое одеяло...
Изрядно помятая красавица вырвалась из богатырских объятий повара и исчезла. Снова загрохотала кухня на разные лады, и скоро приятные запахи бараньего сала, жареного лука поплыли с синим дымком, затянули, обволокли всю глинобитную усадьбу и заставили сладострастно зашевелиться ноздри преподобного ишана.
Он сидел на глиняном возвышении, чуть прикрытом жёлтой плетёной берданкой и тощенькой кошмой. Молодые серо-стальные глаза свои он устремил в одну точку. Рука машинально водила по глине с торчащими в ней соломинками. И всякий проходивший по двору почтительно шептал про себя:
– Они в благочестивых размышлениях!
Но если бы кто-нибудь мог перехватить ишанский взгляд, он с изумлением обнаружил бы, что преподобный ишан упорно, безотрывно смотрит на четырехзубые вилы, воткнутые кем-то в кучу конского навоза посреди двора.
Ишан ничего больше не видел, кроме вил. Не видел суетящихся слуг, не видел коней, которых поили и проваживали конюхи, не замечал своих нукеров, чистивших новенькие винтовки. Ишан пристально изучающе разглядывал вилы... Почему они привлекли его внимание?.. Может быть, он и сам не отдавал себе отчёта?.. Это были обыкновенные вилы с четырьмя очень длинными, очень острыми чуть изогнутыми зубьями.
И сколько бы он так сидел и смотрел на вилы, трудно сказать, но неприятное ощущение жжения в ухе заставило его шевельнуться и поднять руку.
– А, что? – сказал ишан.
Оказывается, солнце подобралось к возвышению в стало припекать.
Ишан поднял глаза. На него смотрели внимательные злые глазки, окаймлённые красными веками с белесыми ресницами, буравили, проникая в самую глубь мыслей, в сознание.
Какие-то секудны длился поединок взглядов: серо-стальные глаза против карих глаз. Взгляд твёрдокаменный – и взгляд въедливый, трусливый.
Медленно глазки уклонились в сторону и вниз. Поединок прекратился. Победил сокрушающий взгляд ишана.
– А-а, Амирджан, явился?
Имя «Амирджан» он произнёс с нескрываемым презрением.
– Барсук, он тоже ходит, нюхнет, ищет во тьме... Я приказал, чтобы тебя не пускали сюда, – добавил он.
– Салом алейкум, господин Сеид Музаффар! Я пришёл к вам как к единомышленнику, заверяю вас. Пусть меня засунут головой в нужник, если что-нибудь у меня в мыслях против... я ваш, я друг...
– Друг? Ты? – протянул ишан. – Великий мудрец Сельман сказал: «Промой водой семь оболочек глаза, а потом добивайся увидеть друга». Зачем приехал? Но говори правду! Потому что я знаю всё.
– Я приехал не один.
Только теперь ишан соблаговолил поглядеть в сторону ворот. Там возле лошадей топтались запылённые, в оборванных камзолах, вооружённые с головы до ног спутники Амирджанова, локайцы, держа коней под уздцы.
По иссиня-бледному лицу Амирджанова разбежались концентрическими кругами морщины и снова сбежались к курносому носу…
– Новости, достоуважаемый ишан Музаффар! Новости!
– Говори!
Приподнявшись и прижав руки к животу, Амирджанов выпалил:
– Зять халифа!.. – здесь он слегка задохнулся в приступе преклонения и даже вспотел. Снова его слезливые глазки зыркнули на ишана, который даже не шевельнулся.
Амирджанов поспешил про себя отметить: «Он не поднялся с места. Он или переоценивает свое могущество, или...» Но мысль оборвалась мгновенно, потому что взгляд ишана заставил Амирджанова похолодеть.
– Зять халифа, – запинаясь выжал он из себя, – прибыли в Бальджуан. Зять халифа, да благословенно имя его будет в веках, сказал: «Наступил час великих свершений!» И он требует к себе всех беков, военачальников и курбашей, всех почтённых духовных лиц. И вас, господин Сеид Музаффар...
Он осёкся, таким странным вдруг стало лицо ишана.
И вдруг поняв, что он сказал не так, Амирджанов жалко, робко озираясь на незаметно приблизившихся прислужников ишана и многочисленных мюридов, залебезил:
– Прибегаю к вам... Рабом сделаться вашим мне, ничтожному... Вы вели-кий... вы святой. Слово вашей проповеди – провозвестник правоверия. Поистине, каждое слово вашего священства равно тысяче мечей, сокрушающих неверных... Вы, истребляющий нечестивых большевиков... духовный глава... под вашим благословением...
– Ты и знать не хочешь шейха и проповедника, предпочтительна тебе чашка вина... – заговорил ишан. – И все вы развратники такие... Сними личину, покажи нутро... Но я знаю, что любящий только себя – труслив.
Амирджанов так и замер с открытым ртом. То, что он услышал, никак не вязалось с представлением мусульман о святости и подвижничестве.
Медленно ишан продолжал:
– Низкие душой и сердцем ищут в мире пищу для живота. Душа их мертва. Ради выгоды им ничего не стоит смешать веру, пророка, бога... Таков удел подлецов и мерзавцев... Презирают их люди разума не потому, что они неспособны выполнить закон ислама и ищут истину в вине. Виноградный сок, уваренный на одну треть, становится «кохир» – чистым – и «халоль» – дозволенным. «С первым глотком вина стал умным и просвещенным». Ты знаешь, Амирджан, кто это сказал? Хафиз сказал... На, пей!
Сеид Музаффар протянул пиалу.
– Вино? – с деланным ужасом проговорил Амирджанов. – Не могу...
Хитрец, он думал, что ишан испытывает его.
– «Когда найдёшь сосуд вина, смуглую красавицу и зелёный луг: одно ты выпей, другую поцелуй, а на лугу наслаждайся, и ты сорвёшь розу на краю пруда...» А? Понимал в жизни толк поэт Шахиди. Но где тебе, Амир-джаи, знать про поэта Шахиди? Ты вот воображаешь себя мусульманином и кричишь: гяур тот, кто пьет вино. А ты знаешь, что сказал мусульманин-учё-ный Абу Али ибн-Сина? «Поистине превосходное вино является пищей для духа, ибо оно своим цветом и запахом превосходит цвет и запах розы»... Ты, Амирджан, хочешь быть мусульманином больше, чем сам пророк Мухаммед... Так поступают все ренегаты с сотворения мира. У кого нет верности, у того нет чести.
– Что вы говорите? – бледнея, проговорил Амирджанов.
– То, что сказал, – протянул ишан. – Значит, ты говоришь «требует». Энвер требует к себе. Так, так... И ты, Амирджан, бодило, которым погоняют ослов... О, подходящее занятие... Амирджан. Но как ты, ренегат, осмелился явиться сюда и нарушить наше отшельничество.. Почему ты тут кричишь в тихой обители, удалённой от мира, и переполошил затворников, предающихся святому «инзиво» – аскетическому бдению?
Тоска вдруг проникла в сердце Амирджанова. Он почуял издевательские нотки в словах ишана, и ему стало страшно. Ёрзая на месте, он посматривал на внутренние ворота в надежде, не несут ли поднос с угощениями и дастархан. В какой-то мере это успокоило бы, показало бы, что его, Амирджана, ишан с почётом принимает у себя в качестве посланника главнокомандующего Энвербея. Но нет, ничего не несли. О, чего бы сейчас ни дал Ашгрджанов, лишь бы увидеть на дастархане лепёшку, хоть кусочек чёрствого хлеба.
Снова ишан вскинул свои холодные глаза.
– Господин Амирджан, чего тебе здесь надо?
Вопрос Сеид Музаффар задал с таким видом, будто Амирджана он увидел только сейчас.
«Что случилось? Ничего не понимаю. Неужели ишан решил отступиться от Энвера?»
Предположение было настолько чудовищно, что Амирджанов почувствовал тошноту. Руки его задергались, пальцы сгибались и разгибались. Он не мог усидеть на месте и всё время сползал с возвышения, старался оттолкнуться спущенной на землю ногой и занять пристойное положение. Но слова застревали у него в горле...
Лицо ишана вдруг просветлело, оживилось. Взгляд был прикован к воротам, к людям, приехавшим с Амирджановым.
– Клянусь всеми сорока святыми чильтанами, кто это там? – вдруг про-говорил, поднимаясь с места, ишан. – Кого это там держат твои люди? Доктор, доктор всех докторов. Пожалуйте к нашему дастархану.
В толпе локайцев произошло замешательство. Они расступились. Через весь двор, среди суетящихся слуг и нукеров, мимо резных колод-коновязей, шёл, заложив руки в карманы своей выцветшей тужурки, Пётр Иванович. Он задумчиво пожевывал соломинку и весь со своими живописными усами был сейчас очень похож на запорожского казака, вышедшего на свой баштан посмотреть, не доспели ли гарбузы, не пора ли их собирать да везти на ярмарку.
– Весьма рад вас видеть, искуснейший из докторов, целитель наших недугов, – говорил, спеша ему навстречу, ишан, что можно было расценить как проявление величайшего уважения. – Всегда горюет друг в разлуке, который не двуличен... Рад видеть вас. Болею я. Очевидно, отступление от привычек – признак болезни!
Поразительная перемена произошла, в Сеиде Музаффаре. Он оживился необыкновенно. Амирджанов недоумевал. К доктору-врагу ишан обращался почтительно и любезно, а к нему, Амирджанову – посланцу Энвера, – враждебно.
Хитрейшая мина появилась на физиономии Амирджанова. Он закатил глазки и проговорил сладко:
– О досточтимый святой отец, друг наш доктор встретился мне в горах...
– Позвольте, – перебил Пётр Иванович, – друг мой Амирджанов взволнован, и я боюсь, что он просто не сумеет рассказать, что случилось вчера и сегодня ночью. И на какие темы мы побеседовали мирно и тихо, и как любезно и вежливо обращался со мной мой старый друг Амирджан.
– Позвольте мне, – заговорил снова Амирджанов.
– Нет, я хочу послушать доктора, а ты молчи, – резко сказал ишан, – каждый сосуд выпускает то, что содержит, а душа ренегата переполнена ложью.
Читатель не посетует, если мы в традициях восточного романа позволим себе вернуться назад и описать сцену, происходившую накануне в одинокой юрте.
Петру Ивановичу никогда не изменяло самообладание. С туго стянутым арканом, с вывернутыми до боли за спину руками, с саднящей раной на темени, с ноющими ногами, он всё не потерял способности наблюдать. Экое живучее существо человек. До последней секунды изволит думать, а мозг привычно сравнивает, заключает, обобщает и даже иронизирует. Экая образина... Пётр Иванович даже закрыл глаза, припоминая, где и когда «имел честь» (он так и подумал «имел честь») встречаться с этим типом, имевшим столь отталкивающую, но очень характерную физиономию. Большущий, глядящий на мир круглыми ноздрями нос с переносицей шириной в два пальца, плоский, все время шевелящийся, растягивает бледные скулы. Какое-то поразительное уродство никак сразу не осознавалось в лице Амирджанова. Возможно потому, что верхняя часть головы его пряталась в тени и только подбородок был освещен. С минуту подумав, доктор понял, в чём дело. У Амирджанова почти не было лба. Над сияющими в отсветах костра багровыми эровями почти сразу же за парой складок кожи начиналась давно не бритая щетина. Волосы у него росли чуть ли не от бровей. «Снять с него роскошную кисейную чалму, а самого в клетку. Вот вам и шимпанзе. В хорошие же руки попали вы, многоуважаемый доктор медицинских наук. Приятная неожиданность!» – думал Пётр Иванович, пытаясь придать такое положение телу, при котором веревки не так сильно врезались бы в него,
– Представь себе, дорогуша, мальчик «нежный, кудрявый», – самодовольно повествовал Амирджанов, – окружён я был роскошью родового име-ния в семьсот десятин, вниманием. Эдакий «маленький лорд Фаунтлерой!» Питался фазаньими крылышками, ананасами и смазливенькими горничными. Швейцария, Париж, гувернеры. И вдруг – трах! Папенька прокутил состояние. Роскошное пензенское имение с молотка, всё к чёрту! И «лорда Фаунтлероя», пожалуйте бриться, окунают в житейскую прозу, мещанскую обстановку. Гимназия, грубая пища, постные лица тётушек-скопидомок. Разочарование, озлобление «лорда Фаунтлероя», аристократа духа, сверхчеловека и – трах-тарарах! – с небес в грязь «расейской обыденности». Тогда уж под ударами судьбы усвоил, дорогуша, закон жизни, – чтоб не засосало болото, стань на плечи соседа и, с богом, выбирайся, не оглядываясь! И выбрался. Помнишь, друг Петенька, наши студенческие годы. Идеалы, споры до хрипоты. Сияющие невинностью и восторгом глазки курсисток. Ты умел жить на гроши. Скажешь – я получал из дома в десять раз больше, чем любой состо-ятельный студент, по урокам не бегал, не голодал. О наивность! А рестораны, а девочки, а карты! Пусть всякая мразь ползает внизу, а я – я выше всех умом. И неужели, думал я, одного умного не прокормят сотни тысяч дураков? Ха, ха помнишь, дорогуша, скандал с денежками нашей кружковой кассы. Ха! Как исключили этого балбеса Петрова, бойкот ему объявили, просто-филю до петли довели.
– Так это ты запустил туда лапу... мерзавец! – Отвращение душило доктора, и он едва смог выдавить из себя эти слова.
Странный разговор происходил в одинокой юрте. Доктор со связанными руками сидел в неудобной позе, привалившись к решётчатой стене юрты. Амирджанов быстро ходил, приседая, своей крадущейся походкой неслышно на кошме. Яркий дневной свет врывался вместе с горячим пряным воздухом степи через широко открытую дверь.
– Ругайся, ругайся, облегчай свою душу, милый мой друг Петенька. Да, это я. Понимаешь, хочется, чтобы ты отправился на тот свет не раньше, чем поймешь простую истину. Честность, благородство, высокая любовь в нашем подлунном мире – чепуха, глупость. Побеждают хитрые, сильные, умные. Побеждают сверхчеловеки. Белокурые бестии, не стеняющиеся ни средствами, ни способами. Всегда ты мозолил глаза своим... ха... благородством. Так вот пойми: твоего благородства не хватило, чтобы сохранить свою шкуру. Сейчас я закончу свою мысль, и потом... Наслаждаться тебе жизнью, бытием осталось, скажем, пятнадцать минут... а потом – чик-чирик... вот этот чай, что кипит в кумгане, буду пить я, а не ты... Ха, тебя уже не будет, дорогой...
– Долго ты будешь болтать, мерзавец?! Ренегат, червяк.
– О, я давно знал, что я мерзавец. И горжусь, что мерзавец. Я выше там всяких обыденных чувств. Ха. Я помогал оболтусу Петрову надевать петлю на шею, ободрял его, беднягу, доказывал, что другого выхода у нас нет... Ха, мир праху его!
– Какая скотина!
– Раз ты ругаешься, значит страдаешь. А мне это приятно. Ругайся, ругайся. А помнишь золотоглазую Лизочку? Приятная девочка была. Круглень-кая, аппетитная, розовенькая там под платьем. Все вы сохли по ней. Поклонялись. Стишки сочиняли. Дурачьё! А мне всё удозольствие обошлось в двести целковых. Небесная невинность, красотка, идеалы красоты, святая Цецилия – двести рублей и... постель! А когда этот идеал чистоты в результате обычного физиологического акта, изволите видеть, прозаически... забеременел, а к тому же я заразил её прекрасной болезнью и бедненькая Цецилия предалась отчаянию, кто, как не я, помог Лизаньке ликвидировать последствия своего легкомыслия!
– Ты шизофреник... параноик... – с трудом проговорил доктор. – Зачем ты всё это рассказываешь?..
– Шизофреник? Э, нет! Я нормален, как только может быть нормален человек. Чтобы ты понял, милый друг, кто я есть. Я есть я! Я есть личность. Идеалы! У меня идеал один – я. Мой покой, моя жизнь, мои наслаждения —вот мой идеал. Ты вот распространялся там, пока мы ехали по горам, о мужестве, о народе, об этих грязноруких пролетариях в кепке, о советской власти. Э, у нас есть еще время. – Амирджанов подошёл к костру и заглянул в кумган. – Не кипит ещё, а вот закипит, и тогда, извините, дорогой друг, придётся отправить тебя к праотцам... ты встал на моём пути и пеняй на себя... Нам тесно в мире... Ты и я! Я и ты! Ты мешаешь мне. Мне придётся ещё якшаться с большевиками, так, для определённых целей, а ты полезешь с разоблачени-ями. И потом – ты мой враг. Ты интеллигент, изменивший своему классу, ты ренегат. И я обязан тебя истребить... Советская власть мне всё испортила. Только маменька моя получила наследство... О, это целая история. Получила маменька наследство – я к ней. Так и так, маменька. Ты уже старенькая, папенька старенький. Пожалуйте денежки мне. А она и заупрямься: «Нет, сыночек, вот война с немцем кончится, мы снова имение выкупим, то да сё». Сколько я трудов потратил, сколько хитросплетений изыскал, и...
– Твоя мать погибла под колесами поезда… – вдруг заговорил доктор, – так это тоже ты...
В тоне доктора произошла перемена. Лицо его оживилось. Точно новая какая-то мысль пришла ему в голову. Но Амирджанов ничего не заметил. Он продолжал расхаживать по юрте всё быстрее и быстрее, порой начиная усиленно жестикулировать.
– Неужели ты ещё и... – продолжал доктор несколько нарочито возбуждённым тоном.
– И матереубийца... хочешь сказать. Зачем такие громкие слова. Ты медик, физиолог. Разве ты не знаешь: функция отца кончается зачатием. Функция матери – родами, ну ещё кормлением младенца молоком... Мать – громкое слово, выдуманное стариками, чтобы держать человечество в повиновении, в цепях родственных обязательств. Однажды мы ехали в вагоне, и я изложил родительнице свою точку зрения, чтобы у неё не оставалось никаких иллюзий...
– И ты... мог...
– Что я мог?! Переходы из вагона в вагон не ограждены... Поезд шёл быстро... Очень шатало... Увы, старушка оступилась и... Но скажи, друг мой милый, зачем ей миллион? Старухе в шестьдесят лет? А она упрямилась…
Доктор постарался поймать взгляд Амирджанова, но в его глазках-бурав-чиках ничего не прочитал, кроме всё той же сосредоточенной злобы.
– А отец?.. А папаша твой? – спросил доктор. Он оживлялся всё больше. От состояния безысходности, подавленности, в котором он находился с утра, когда люди Амирджанова захватили его спящего, не осталось и следа. Он спал тогда как убитый, утомлённый долгим путешествием по горам. Он не только потерял след Жаннат, а вообще заплутался в тысячах троп и дорог. Он скитался по стране один, и только случайностью можно объяснить, что его не убили из-за коня. Впрочем, при встрече он называл себя, и упоминания имени Ибрагимбека оказывалось достаточно, чтобы его оставляли в покое. Когда во сне ему заломили назад руки и связали, он пытался бороться, кричать, но бесполезно. Пётр Иванович успел ударить Амирджанова сапогом в живот, но и всё... Ссылка, на Ибрагимбека не помогла. Наоборот, Амирджанов заявил: «Ибрагим – подумаешь!» Тут же Пётр Иванович понял, что ему грозит. Пока Амирджанов занимался приготовлением завтрака, у них начался этот разговор. Вернее, Амирджанов, думая вслух, стал рассказывать свою жизнь, причём доктор не сразу понял, что этот рассказ является только одним из видов утончённой пытки, Амирджанов, очевидно, решил не сразу покончить с ненавистным человеком, а, так сказать, насладиться своим торжеством, моральными муками жертвы, сразиться с ним, как он сам выразился, на «ристалище разума», подискуссировать. «Коровин и в университете отличался многословием, – вспомнил доктор, – любовью к словоблудию».
Но молчать доктор не мог. Сначала резкими репликами, состоявшими из ругательств, в затем и замечаниями он сам незаметно втянулся в спор, казавшийся бессмысленным. Страх, самый настоящий страх сжимал сердце Петра Ивановича. Отчаяние охватывало всё его существо. Ему совсем не хотелось умирать, да ещё так глупо. И он с напряжением всех своих умственных сил искал способы спасения. Он не лежал беспомощно, как баран под ножом мясника, а боролся, сопротивлялся. Пётр Иванович понимал, что, втягиваясь в спор с этим страшным человеком, с этим маньяком, он тоже ведёт борьбу за свою жизнь.
– Но у тебя ещё остался отец. Он ведь тоже мешал тебе... жить? – спросил доктор иронически.
– Да, – ответил убеждённо Амирджанов, – очень мешал.
– Ну, и что же ты сделал с ним? Утопил? Бросил под паровоз? Отравил?
– Ты, ничтожный врачишко, мастер клистирной трубки, кажется, вообразил себя прокурором. Думаешь взять верх надо мной. Ну нет! А потом, друг мой, не забывай, что я тебя буду убивать, а не ты меня. Сколько ни хорохорься, а верх у меня! Но, кстати, о папаше. Моего дорогого дряхлого папеньку я познакомил с одной очаровательной Эсфирь, жгучего темперамента. Случилось то, что случилось. Папеньку через неделю хватил апоплексический удар. Самый хитроумный криминалист в мире не смог бы усмотреть здесь преднамеренного убийства.
– Итак, папаши нет, мамаши нет, и безутешному сыночку никто не мешает наслаждаться благоприобретенными богатствами и сифилисом.
– Тебе недолго смеяться, пора плакать. Ты ещё потрясешься, подрожишь, повизжишь, бледный как смерть, когда я возьмусь за нож... Да, всё у меня уже было в руках. Миллион, круглый миллион! Весь мир в моих руках. Рестораны, искусство, бардаки, вина, выезды, Ницца. Венеры и Дианы своими нежными телами готовы были служить вместо ковра моим ногам! И... – он как-то странно взвыл и схватился за голову, – сегодня я заснул миллионером... я держал миллион в золоте, иностранной валюте, а завтра... проснулся нищим. Всё у меня отобрали проклятые товарищи... Революция... Я не успел даже поужинать... даже сшить новый фрак... даже купить ласки красавицы... Всё добытое таким трудом... всё забрали... товарищи... Как я их ненавижу!
Он остановился в дверях, весь дрожащий от возбуждения, и смотрел пустыми глазами на далекие холмы, бормоча:
– Иметь миллион... и сидеть в грязной... вонючей юрте. О, если бы мне сейчас миллион... я бы стёр в порошок мир. И ты думаешь, я не боролся? О, как я издевался над всеми этими «товарищами». Я ворочал сахаром, чаем, мясом, салом, мануфактурой, а принципиальные коммунисты грызли овсяные сухари. Эх, в продкоме… я как сыр в масле катался... Но чёрт побрал, каждый раз большевики вставали на моём пути... И всё же я хитрее... хи... ха... Они меня приговорят к стенке, а я... верт-верт... вильнул хвостом – и «до свиданья». Хо... хо... Смертника, это меня... трижды смертника они послали в торгпредство в Берлин, конечно, я перелицевался... Эх ты, докторишко честненький, букашка ползающая. Ты тут с малярией возился, а я в Берлине блистал... на денежки «товарищей» блистал. Вино, цветы, женщины... какие женщины ласкали герра большевика Зигфрида Неймана... Хо... хо. И чёрт дёрнул меня потащиться в Бухару... За длинными денежками... Но ничего, я ещё встану на горло человечеству... я...
И в этот момент в голове доктора искоркой вспыхнула счастливая мысль:
– Послушай, Коровин, подойди сюда.
Амирджанов резко обернулся и удивлённо посмотрел на доктора.
– Подойди сюда!
В голосе Петра Ивановича чувствовались такие повелительные нотки, что Амирджанов сделал несколько нерешительных шагов и остановился перед доктором.
– Посмотри мне в глаза!
– Ты, что... в чём дело? – усмехнулся растерянно Коровин. – что ты хочешь... т... т...
– Так... расстройство речи... то-то я вижу, а ну... Смотри... Прямо смотри, гм... гм. Неравномерность зрачков... гм... гм... отсутствие реакции на свет.
Доктор сидел влево от двери, и свет падал на лицо Амирджанова. Хорьковые глазки-буравчики сразу же начали слезиться. Амирджанов попытался отвести их, но властный окрик остановил его. Блестевшие в сумраке юрты глаза доктора, казалось, до боли проникали в мозг, подавляли, жгли.
– Что ты? – смущённо бормотал Амирджанов.
– Парез лицевого нерва... Да... У тебя «табес дар-залес».
– Что?
– Милый мой, у тебя все признаки... третьей стадии прекрасной болезни – «луес венере». Дай-ка сюда свои руки – поистине тривиальный случай.
Ошеломлённый, поражённый Амирджанов, весь дрожа от невыносимого страха, часто мигая, смотрел на доктора. Машинально он протянул руки. Доктор взял их и подержал.
В этот момент Амирджанов до того растерялся, что не понял, как доктор мог взять его руки в свои, когда он сам их туго стянул веревкой.
– А теперь встань прямо... Вот так... протяни руки и закрой глаза.
Амирджанов покорно выполнил требование.
– Так, налицо расстройство движений. Можешь открыть глаза... Сядь... ну на этот хурджун, что ли. Закинь ногу на ногу... Так... Рефлекс отсутствует... и... да... все. Явно прогрессивный паралич на почве сухотки спинного мозга.
Теперь не пленник стоял перед Амирджановым, а врач перед пациентом.
Подавленный, опустошённый, весь обмякший, сидел Амирджанов посреди юрты и машинально следил за доктором. Тот заставил его снять камзол, рубашку, начал выстукивать, заставил ходить.
– Диагноз абсолютен. В таких случаях от больных стараются скрыть их состояние... щадят их. Но тебя я щадить не стану. – Доктор взял кувшин, вымыл руки и вытер их полотенцем, вынутым из своего хурджуна. Ты сверхчеловек и стоишь выше всяких условностей...
Только теперь Амирджанов наконец сообразил, что доктор освободился от верёвок, и вскочил.
– Руки... – угрожающе начал он. – Ты развязал руки.
Он шарил по поясу, стараясь нащупать кобуру.
– Ещё один из симптомов прогрессирующего распада психики, дорогой, – усмехнулся доктор. – Вёревки ты сам завязал. Но ты забыл силу гипноза... Когда я смотрел тебе в глаза, то мысленно приказал: «развяжи руки!» И ты покорно развязал. Я сделал опыт.. Я проверил состояние твоего мыслительного аппарата, твоего мозга... Твоя воля разрушена...
– Я... я... развязал... я... не помню...
– Видишь... Вот еще один симптом. Ты ведь сказал, что убьёшь меня, когда закипит кумган. Он давно вскипел, ты видел это – и ничего... А почему? Потому что я тебе приказал забыть это. И ты забыл.
Закрыв лицо руками, Амирджанов сидел у входа. Всё тело его тряслось.
– Не закрывай глаза... Не поможет. Встань, прикажи седлать лошадей.
Весь объятый отчаянием, Амирджанов уже не понимал, говорит ли доктор вслух или передает мысли на расстоянии. Трус по натуре, Амирджанов услышал заключение доктора и растерялся. Он судорожно перебирал в памяти прошлое. Он лечился от сифилиса лет пять назад. Амирджанов вспомнил своего друга князя Голицына, блестящего правоведа, запустившего болезнь и впавшего в состояние, которое так красочно описал только что доктор. Да, князь пускал слюни, двигался скачкообразными шагами... Боже! Но... говорят, есть спасение... Сальварсан, прививка малярии...
В отчаянии он бросился от лошадей к стоявшему около юрты доктору.
– Доктор, доктор, спасите... я заплачу... Сальварсан... малярия...
Он тянулся руками к отстраняющемуся Петру Ивановичу, пытаясь обнять его.
– Ты сверхчеловек – и на коленях перед жалким ничтожным врачишкой. Из-за чего? Из-за того, что великолепный, сверхсовершенный организм сверхчеловека поразила ничтожная тривиальная бацилла, какая-то невидимая простым глазом бледная спирохета залезла в мозг сверхчеловека – и пшик.
– Умоляю!
– Прикажи седлать, я тебе сказал, Едем вниз к людям в Кабадиан. Каждый день дорог в твоем положении. К сожалению, я не просто человек с чувствами и мыслями обыкновенного человека, я ещё врач. И мой долг – лечить всех, даже врагов. И если, если... («тебя не расстреляют раньше», – подумал он.) Одним словом, мне придётся лечить тебя... сверхчеловека, – произнёс он громко.
– Не знаю, болен ли он телом, – проговорил ишан кабадианский, выслушав рассказ доктора, – но что болен совестью, это я знаю. Только подлый или идиот забывает свою Родину. От двурушника не требуй честности. От подлога не требуй верности. Кто он такой, Амирджан? Зачем он пришёл сюда?








