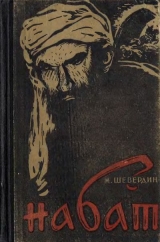
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 46 страниц)
Глава четырнадцатая. ПУЛЬ-И-САНГИН
Доблесть – достояние
стремящихся к высокой цели.
Фирдоуси
Летом в Туткауле пусто. Здесь в котловине, окружённой высокими скалистыми утесами, очень душно. Жарища такая, что нечем дышать. Все уезжают, по возможности, в горы, где испокон веков находятся богарные пашни туткаульцев. Около Туткаула река Вахш пробивается через толщи конгломерата и мчится в глубоком каньоне к щели Пуль-и-Сангина. Буйные коричневые воды, все в ореоле седой пены, взметываются на наклонные пласты каменной породы, а затем с грохотом низвергаются в кипящий и гремящий котел. Ничто живое здесь уцелеть не может. Если против Нурека кто-нибудь из переплывающих на гупсарах реку чуть зазевается, его проглотит ненасытный Вахш, и даже костей никто не найдет. Сами забардасты – твердорукие силачи, не боящиеся ни холода воды, ни бешеной стремнины, – и те не решают-ся переправиться через реку даже в версте от громовой щели.
Дорога бежит по узкой полоске между каменистой стеной и ущельем. На повороте возникают высоким обрывом великолепные малинового цвета пласты отшлифованного до блеска песчаника. Стены речного ложа настолько сближаются, что сверху не видно ревущей воды. Огромная река, раскидывающаяся в верхнем плесе в ширь Днепра у Киева, сжимается горами в трубу шириной едва ли не в три сажени и исчезает на глазах. Ревущий поток почти уходит под землю. Вода клокочет и гудит где-то внизу, отчаянно вгрызаясь в грудь гор. Кажется, что можно перепрыгнуть через щель. Здесь, над Вахшем, перекинут единственный мост Пуль-и-Сангин, связывающий два берега. Ещё недавно мост служил источником обогащения каратегинского бека, так как здесь с каждого вьюка чиновники взимали теньгу, а с головы скота – четверть или полтеньги. Ниже моста течение Вахша остаётся всё таким же сумасшедшим, и над ущельем стоит, особенно по утрам, радуга в тумане мельчай-ших брызг.
Гриневич, невольно любуясь величием гор и дикого ущелья, трезво взвешивал стратегическое значение Пуль-и-Сангина. Он отлично понимал, что десятка метких стрелков достаточно, чтобы сдержать натиск на мост целого полка. Справа в этом месте, по краю долины, поднимается почти отвесный скалистый хребет, слева, в глубоком с вертикальными стенками ущелье, мчится буйный Вахш.
Узкая речная терраса и стала полем боя между передовыми частями бригады Гриневича и бандой Касым-бека, прикрывавшей отход энверовской армии. Касымбек использовал своё численное превосходство и, уверенный в полной обеспеченности своего тыла, смял проскочивших через Пуль-и-Сан-гин конников. Большинство из них только недавно пришло в Красную Армию.
К тому же, Сухорученко, недавно вновь назначенный комэском, поспешил, погорячился и ударил в лоб. Надеялся он на легкий успех, но не учёл, что басмачей под Туткаулом воглавляет умелый, опытный военачальник Касымбек, обороняющий, к тому же, владения свои и своего отца. Дрались басмачи за свою собственность отчаянно, и атаки красных конников захлебнулись. Понеся потери, Сухорученко отступил к Пуль-и-Сангину. Эскадрон оказался в мешке на левом берегу. На узком деревянном мосту, носящем почему-то название «Каменный», образовался затор.
– Организуй оборону, не пропускай к мосту, пока не выведут раненых, – приказал подоспевший к концу боя Гриневич бледному, израненному Сухорученко. – А я посмотрю, что там, на том берегу.– Он переехал через мост и, не разбирая дороги, по камням, скалам галопом поскакал под пулями, пропуская мимо себя потрёпанных, ошалевших бойцов, окончательно растерявшихся в непривычной обстановке среди гигантских скал, осыпей. Более опытные бойцы залегли в укрытиях и пытались остановить напирающих массами, обезумевших от радости и победы касымбековцев. Сухорученко, уверенный в несокрушимости своего удара, не обеспечил отхода. Положение становилось отчаянным. Пулемёт, как назло, заело, и над столпившимися среди валунов ранеными бойцами висла смертельная опасность. С обнажёнными клинками, с ножами в зубах, с воем и воплями «алла, алла!» басмачи ползли по скалам, лезли, рвались к мосту.
Заставив своего Серого карабкаться по козьим тропкам, Гриневич взобрался на господствующий над долиной утёс. Отсюда он сразу же оценил обстановку. Мысль его работала стремительно. Приходилось принимать решение мгновенно. Шагах в двухстах внизу, в знойных струйках, поднимавшихся над согретыми камнями, он уже видел искажённые, возбужденные лица басмачей; на пиках колебались черно-красные, лохматые страшные комья. «Головы наших...» – вздрогнул Гриневич. Вверх по обрыву карабкалось несколько красноармейцев, таща на поводу коней. И, временами останавливаясь, с руганью посылали пули вниз в гущу басмачей.
– Кузьма, – сказал Гриневич, не оборачиваясь, но уверенный, что Кузь-ма Седых тут, рядом, – ищи дорогу.
– Куда прикажешь, Лексей Панфилыч? – удивился Кузьма.
– В обход. Ты по своим сибирским падям шлялся, горы всюду те же горы. Давай!
– Пожалуй сюда, Лексей Панфилыч, – и Кузьма повёл коня прямо вверх по щебнистой осыпи. Гриневич последовал за ним. Около их ног брызнули фонтанчики пыли и песка, но почти тотчас большая, вся в зёленых лишаях гранитная глыба закрыла их от басмаческих пуль.
За утёсом перед Гриневичем и Кузьмой открылась широкая, плотно утоптанная тропа, не очень круто поднимавшаяся вверх.
– Можно подумать, ты и взаправду дорогу знаешь, – улыбнулся Гриневич.
– Да в горах всюду одно.
По этой тропе они и стали быстро подниматься.
Откуда возникла у Гриневича такая уверенность, что здесь должна иметься тропинка параллельно большой Конгуртской дороги в обход Туткаула, он и сам не давал себе отчета. Он считал, что такая тропа обязательно должна быть, потому что Пуль-и-Сангин – единственный мост через Вахш, к которому должны сбегаться все дороги со всей страны. Возможно, что, изучая накануне карту местности, он заметил и безотчетно запомнил какую-то едва заметную, неуверенно нанесенную топографом пунктирную чёрточку, обозначавшую малоизвестную тропу. Комбриг, ничуть не колеблясь, двинулся вверх, не смущаясь, что опасность усугубилась во много раз.
По тропе они выехали через какие-нибудь десять минут на гребень горы и оказались в тылу касымбековской банды. Отсюда все поле боя перед ними растилалось как на ладони. До басмачей было рукой подать. Они основательно продвинулись вперед, и толпы их уже вплотную притиснулись к кучке раненых, отбивающихся бойцов у самой площадки перед мостом, под которым бушевал и ревел Вахш так громко, что даже заглушал звуки выстрелов. На противоположном берегу реки на скалы ползли одинокие фигуры красноармейцев. Видимо, их направил туда Сухорученко, чтобы прикрыть огнём отступавших к мосту.
– «Сообразил. Наконец-то», – подумал Гриневич. Мешкать было некогда. Поставив на сошник пулемёт Льюиса, с которым он не расставался, Гриневич без колебаний открыл огонь в спину группе конных ярко разряженных басмачей, скакавших по дороге к месту боя.
– Ага, не нравится!
На какое-то мгновение стрельба внизу стихла. Пулемётная очередь, громким эхом отдавшаяся в горах, внесла новые ноты в шум боя. И хоть перестрелка возобновилась почти тотчас же, но стало сразу же очевидно, что среди басмачей произошло замешательство. Напор их ослаб. Как выяснилось потом, внезапная пулемётная очередь с тыла показалась басмачам громом среди ясного неба. Касымбековцы залегли, остановились. Раненые получили возможность переправиться через мост. Сунувшиеся за ними басмачи отхлынули под огнём, оставив убитых и раненых. Бой у Пуль-и-Сангина вступил в новую, затяжную фазу.
Сквозь туман и горячку того утра Гриневич с поразительной отчетливостью помнил мельчайшие подробности: и цветные камешки, больно врезавшиеся в его локти, и веточки горного шиповника с лимонно-жёлтыми цветами, и прыгающих по скалам птичек, и припекающее лицо, горячее солнце, и бегущий внизу в провале серо-серебристый Вахш, от которого к угрюмым чёрным скалам вихрилась ровными полосами такая же серо-серебристая пыль и бело-нежные барашки облаков, скользившие по аспидно-синему небу за высокую поросшую тёмно-зёленой арчой гору.
Направив вниз дуло пулемёта и разглядывая мечущихся по дороге всадников, которые вопили, задрав лица вверх, и потрясали ружьями, Гриневич воздерживался от стрельбы. Зачем тратить зря патроны! Рядом на зёленом бережку певучего ручейка прислонившись к каменной глыбе, сидел Кузьма и невозмутимо курил. «Сосёт свою козью ножку день и ночь, даже во сне», – мелькнула мысль у Гриневича. Впрочем, беспечность Кузьмы была напускная. Своим намётанным охотничьим взглядом он отлично обозревал и дорогу, и тропинку, и склон, по которому к ним могли двинуться басмачи, если бы им вздумалось. Но ошеломлённые неудачей, они толпами метались внизу среди камней, ожидая приказаний своих растерявшихся, попрятавшихся вожаков и поглядывая на противоположный берег. Очевидно, они не сообразили сразу, откуда хлестнула по ним пулемётная очередь. Сейчас их занимало другое – мост.
– Однако их много, – сказал с некоторым удивлением Кузьма, – сотен пять наберется.
– А что вас, Кузьма, беспокоит? – заметил Гриневич. – Всё равно моста им не взять.
– Да они и не полезут на мост.
Кузьма оказался прав. Басмачи мост сожгли. Пока они тащили сухую колючку, хворост, эскадрон Сухорученко вёл ожесточённую стрельбу. Правда, впустую, так как устои моста оказались в мёртвом пространстве, вне обстрела. И только редкие пули находили цель. Тогда-то Гриневич вышел из себя и, забыв всякое благоразумие, «саданул», по его выражению, из пулемёта, но он тоже ничего не добился. Мост сгорел. Ещё языки пламени рвались из клубов дыма, а обозлённые басмачи, установив, откуда бьёт пулемётчик, полезли по склонам горы. Они несли большие потери от пулемёта Гриневича. Умело вела огонь где-то ниже и в стороне группа бойцов, поднимавшаяся на скалу за своим комбригом. Поддержал своего командира с противоположного берега и Сухорученко. Он рвал и метал, бегая по самому берегу, потрясал кулаками, не обращая внимания на пули басмачей, но ничего сделать не мог.
– Ого, – заметил Кузьма, – товарищ Сухорученко повёл куда-то бойцов.
– К переправе около Конгурта. Далеко, верст сорок. Пока он туда да сюда, от нас и воспоминания не останется, – зло заметил Гриневич. Он простить себе не мог, что попался так глупо. Оставалось разыскать бойцов и уходить. Кузьма не заставил себя просить, снял шашку, чтобы не мешала ползти, и исчез в хаосе скал.
К счастью, Сухорученко оставил около моста хороших стрелков, и басмачи, поражаемые на крутом откосе с противоположного берега в спину, скоро потеряли всякую охоту лезть на гору, где сидел «шайтан» с пулемётом. Когда же время стало близиться к обеду, банда совсем прекратила стрельбу. После полудня даже в бинокль Гриневич не мог обнаружить среди прибрежных валунов и в расщелинах скал ни одной меховой шапки, ни одного поблескивающего ствола винтовки. Шумел внизу Вахш, вздымая высоко сияющие брызги. Парили в небесной синеве орлы, под самым солнцем курились сиреневые вершины... Хотелось спать и есть.
Откуда-то сверху посыпались камешки. Гриневич схватился за оружие.
– Не надо, – это я. Человек – не зверь... – сказал кто-то. – В меня не надо стрелять.
Прозвучал смех.
– Кто там? Слезай! —только теперь комбриг разглядел среди скал и кустов подкрадывающегося откуда-го сверху оборванца с дикими бегающими глазами и белыми зубами.
– Эй, – снова окликнул Гриневич неизвестного и взял его на прицел.
– Это я... Шукур... – сконфуженно захихикал человек, ничуть не испугавшись. – Ваше высокородное здоровье каково? Можно мне вниз слезть?
Гриневич кивнул головой. Шукур по-змеиному сполз со скалы и очутился внизу. Он оказался удивительно темнолицым, кожа да кости, но мускулистым парнем. Тревожно озираясь, но весело хихикая, он заговорил быстро, словоохотливо:
– Я Шукур-батрак. Не смотри на меня, господин, что у меня одежда пло-хая, порванная, зато сердце у меня хорошее. Что поделать? Бай новый халат надевает – все кричат: «Поздравляем!» Бедняк заплатку на штанах приши-вает – все придираются: «Откуда взял?»
– Чего тебе? – несколько удивлённо спросил Гриневич, держась всё ещё настороже.
– Я Шукур-батрак... Бедняк, пастух. Голодный, веселый! Есть нечего, зато пою, всегда пою. Когда есть деньги – рот играет, когда нет – глаза играют. Я сидел наверху сейчас... пули всё жжик-жжик... я не боялся... я смотрел, а пули жжик-жжик, и смеялся. Очень хорошо стреляешь, господин, а когда стреляешь, посмотри вслед пуле, полюбуйся, как отдаст свою жизнь тот, у кого отравлено сердце. Я лежал... – он лёг на живот и представил, как смотрел из-за камня. – Хлоп! И басмач упал! Хлоп!.. Хорошо стреляешь в разбойников... Они больше не захотели воевать... стреляли, стреляли... пах-пах... и в Гуткаул уехали. Они испугались красного командира... он делает та-та-та... – и Шукур притронулся пальцем к ручному пулемёту и изобразил его очередь: – Та-та-та... и все побежали... Эх, был бы у Шукура такой... та-та-та, от он бы в Алакула-упыря с холодным сердцем та-та-а... Вы, товарищи, что? От Ленина приехали, а? Вы новая власть, советская власть? Говорят, новая власть хочет поделить беднякам землю баев. Наш ишан говорит – не верьте! Бай Алакул грозит. Конечно, у кого много коз, того слово имеет вес. А у меня коз нет, – и Шукур смущённо улыбнулся. – У меня даже одной козы нет. Разве слово моё имеет вес? Но пойдем к нам в кишлак, там один зверь живет... Алакул-упырь. Он тоже басмач, он тоже из народа кровь пьёт. Красные солдаты прогонят всяких упырей. Зачем наш бай живёт, а? Пойдём... землю отдадите.
Говорил Шукур очень быстро, несвязно, но его промтодушная непосредственность располагала к нему.
– Ты знаешь, куда ведет вон та тропа? – Гриневич слушал пастуха, но не упускал из поля зрения мост, большую дорогу, скалы противоположного берега.
– Тысячу лет живу здесь... Всё знаю, всех знаю, – ухмыльнулся Шукур и сконфузился. – Извините. Говорить что попало – дело глупца, а есть что попало – дело животного. Мы, понятно, неграмотны.
– Да подожди ты. А куда мы попадем, если пойдем по тропе?
– На Конгуртскую дорогу попадем, в наш кишлак... Попадем к господину кости Алакулу. Ох и сидит он у всех в горле, этот Алакул.
Скрежет камешков, шаги заставили Гриневича снова схватиться за оружие.
Дыша тяжело, со свистом, среди валунов и глыб бежал Кузьма, весь потный, запыхавшийся.
– Не нашёл, – выдохнул он, держась рукой за грудь, – гильзы валяются, а красноармейцев нет. Перевалили через гору и ушли.
– Пошли за ними, – решил Гриневич.
– Господин, дай мне сказать, – вмешался Шукур-батрак, – посмотри.
С того места, где они расположились, в полверсте от них, видно было, как на тропу десятками выползают басмачи.
– Дорога через перевал закрыта, – сказал Шукур-батрак, – надо уходить, их много. Вас мало. Идём... я поведу вас... они потеряют след... Поторопимся. В опоздании – беда!
– Не до жиру, быть бы живу, – думал вслух Гриневич, – надо действительно уходить. Надо нам попасть на тот берег – да поскорей.
– Да, придётся в зайцах состоять, – туманно заметил Кузьма.
– Жаль, плохо поставлена у Сухорученко сигнальная служба, а то бы живо договорились... Попробую.
Разорвав носовой платок и взяв в руки обрывки, Гриневич начал передавать на другой берег сигналы, но тотчас кинулся за камень: десятки пуль про-свистели над головой.
– Видал! – встревожился Кузьма и, положив руку на костлявое плечо Шукура-батрака, едва прикрытое лохмотьями, приказал:
– Веди!
Больше басмачи не стреляли. Очевидно, касымбековцы не решились лезть на гору под пули. К счастью, тропа шла скрытно, и всадники смогли перебраться незаметно сквозь неразбериху хрящеватых голых скал.
Они ехали среди живописных утёсов, упиравшихся в ослепительно голубое небо. Ветерок ласкал усталые лица, бодрил и доносил запахи травы и цветов. Местами заросли превращались в кудрявый лес. Гриневич вполголоса затянул:
– Трансваль, Трансваль, страна моя,
Горишь ты вся в огне
А когда он пел «Трансваль», это значило, что настроение у него прекрасное. Усталость? Опасность? Но что значит усталость и опасность, когда легко несёт тебя чудный, здоровый конь вперёд и вперёд по таким красивым горам, когда кругом цветы, когда в небе солнце и веют горные ветры!
Что до того, если вон из-за того поворота вылезет враг! На то ведь в руках у тебя оружие. И ведь ты поехал сюда, на берега Вахта, не для того, чтобы рвать цветочки...
А расстраиваться, унывать, мучиться сомнениями – не к чему.
Тропа становилась всё круче, и кони выдохлись, не желали дальше идти. Пришлось спешиться. Теперь поднимались, держась за хвост коня, а порой и просто на четвереньках, цепляясь за каменные выступы, колючие кустики, обдирая руки, всаживая занозы. Из-под ног вырывались камни, щебенка, пыль. Гальки летели вниз и притом лихо, точно мячи, подпрыгивали, того и гляди кого-нибудь сшибут или проломят голову. Кони задыхались, все были в мыле. Недаром перевал, как сообщил словоохотливый Шукур, носил название Аспмурт – Лошадиная смерть. К полудню добрались до сухого, голого, без единой травинки перевала с большой грудой камней на самой высокой точке. В седловине, в царстве тишины и молчания, обнаружили четырёхугольную хижину из камней и глины. Ни снаружи, ни внутри не оказалось ни души. Только в прохладной темноте у стены стоял глиняный хум-кувшин человеку до плеча, полный холодной родниковой воды. Кто же жил в хижине, кому охота таскать сюда воду, когда нигде поблизости не оказалось ни колодца, ни источника, ни ручья? Кто этот отшельник, так заботящийся о редких путниках, идущих через перевал? Старик ли это, давший обет, пастух ли, пасущий в горах стада, сторож ли, поставленный на перевале сельскими общинами?
– Мой дом! – важно сказал Шукур-батрак.
– И зимой? – удивился Гриневич.
– И зимой!
Здесь комбриг сделал попытку бритвенным зеркальцем посигнализировать Сухорученко. Туман набросил бисерный, сияющий плащ на долину. Зелёные сопки дымились и, казалось, плыли над свинцовой лентой ставшей далёкой реки. Трудно было разглядеть что-нибудь в сплошном хаосе вершин, утёсов, ущелий, лесных зарослей. Но солнечный зайчик, посланный Гриневичем, попал в глаза бойца эскадрона Сухорученко, и он закричал:
– Вон они, вон комбриг! Живой!
– Живой! – подхватил Сухорученко.
Кто-то из бойцов, знающий азбуку морзе, даже прочитал:
– Идем к Конгурту, к Ширгузской переправе... Встречайте.
Сухорученко лихорадочно шарил по карманам. Придя в Красную Армию, он «перевоспитался» и стал смотреть на зеркало, как на буржуйский предрассудоки по крайней мере в походе. Брился он вслепую финкой как бог пошлет. Он смог ответить на сигналы самодельного гелиотелеграфа Гриневича только условной очередью из пулемета... Но Гриневич не ответил. Сухорученко заметался, и вдруг его взгляд упал на очки фельдшера. – Ага! —закричал он. И как бедняга фельдшер ни протестовал, как ни доказывал, что без очков он пропадет, но все же очки у него забрали и сигнализировали стеклами.
Возились долго, – то ли солнце закрыло облачком, то ли сигнал получился слабый, но толку не добились. Ответного сигнала не получили. К великой радости фельдшера, стекла очков не разбили.
– Алеша башковитый, он поймёт. Даёшь переправу! – скомандовал Сухорученко. – Ничего, на переправе встретим. Такие в воде не тонут, в огне не горят.
Конечно, Гриневичу польстило бы мнение Сухорученко, но сейчас командир отнюдь не расположен был переоценивать свои силы и возможности. Кругом рыщут хорошо вооружённые басмачи. Каждую минуту можно ждать пулю.
– Я вас приведу в наш кишлак... Только вы Алакула-упыря тах-тах... – бормотал пастух... – Давно его, упыря, надо пристрелить... Пойдём скорее.
Он шагал впереди по тропинке одинаково быстро и на спусках, и на многочисленных подъемах и непрерывно говорил. Когда Гриневич начинал обсуждать с Кузьмой вполголоса какое-нибудь внезапно возникшее новое обстоятельство, Шукур-батрак не умолкал, а обращался к самому себе примерно так: «Ну, Шукур, что ты скажешь об этом храбром командире?» И сам себе отвечал: «Храбрый-то он храбрый, а вот против нашего упыря не пойдёт».
Из беспорядочного рассказа Шукура удалось установить, что помещику лет сто и он еле ходит, что в саду Алакула держат красавицу-пленницу и что Касымбек навещает её. Гриневич уклонялся от приглашения Шукура-батрака ехать к нему в кишлак и застрелить Алакула-упыря.
– Мы приедем в другой раз и разберёмся с твоим кащеем бессмертным Алакулом и с прекрасной пленницей, а теперь веди к переправе.
Шукур-батрак пошёл. Судя по тому, как он покачивал своей облезшей, выщипанной шапкой и жестикулировал в воздухе руками, он явно продолжал разговор сам с собой вслух, недоумевая, почему командир все-таки не хочет заехать в кишлак, застрелить Алакула-упыря и выпустить на волю прелестную пленницу.
Пришлось спуститься в долину, что Гриневич и сделал с массой предосторожностей. «Сейчас совсем не к месту встретиться с бандитами», – думал он. Нервозное возбуждение, бросившее его утром в самую гущу боя, остыло. Он не считал, что поступил неправильно, опрометчиво. Действовать приходилось быстро. Другого способа спасти раненых он не нашёл, да и некогда было искать. Только сейчас, спокойно обдумав всё, он пришел к заключению, что ему, комбригу, пожалуй, не следовало бросаться очертя голову через мост. С тем же успехом он мог послать взвод бойцов и с таким же заданием. И, конечно, его конники провели бы операцию с такими же результатами. В тысячный раз корил он себя за поспешность и давал слово поступать в другой раз более расчётливо и осмотрительно. Он не забыл замечания Михаила Васильевича Фрунзе, под командой которого ему приходилось сражаться и в Фергане, и под Бухарой. Михаил Васильевич тогда не раз говорил:
– Знаешь, всё у тебя есть: и пролетарская закалка, и знания, и военное умение. Но беда одна: уж больно ты, Алеша, вспыльчив. Ничего не помнишь. Не сносить тебе головы.
Давал Гриневич себе слово держать себя в руках много раз и раньше, но, всегда спокойный и расчетливый в обычное время, он вдруг прорывался. Вспылить ему ничего не стоило. Особенно впадал он в ярость, когда сталкивался с насилием, ложью и подлостью и потому не годился совершенно для переговоров с курбашами, пускавшимися на всевозможные восточные дипломатические хитрости и обходные манёвры. В таких случаях Гриневич сразу же гневно их изобличал и гнал, как сам выражался, «к чертовой матери», обзывая их жуликами и мерзавцами. Вспышки такие случались редко и неожиданно. Среди басмаческих главарей существовало даже мнение: «Лучше к нему, на переговоры и не ездить. Как бы плохо не вышло. Застрелит». В бою, особенно во время атаки холодным оружием, в Гриневиче просыпался, по словам его товарищей, «первобытный человек». Когда он рубился, не дай бог к нему подъехать сбоку или сзади. Он реагировал молниеносно и, главное, совершенно инстинктивно. И где ему тогда разглядеть, кто это подъехал – свой ли, чужой ли. «Голову снимет долой и ещё пополам разрубит», – говаривали командиры за спиной Гриневича. Правда, ни одного конкретного случая они назвать не могли, но болтать – болтали.
Гриневич обещал Фрунзе вести себя осмотрительнее, но обещание своё выполнял далеко не всегда и не при всех обстоятельствах. Вот, например, сейчас мысленно он ставил себе в заслугу, что не поскакал в кишлак пастуха Шукура разделаться с Алакулом и освободись красавицу, а решил благоразумно и спокойно ехать к переправе навстречу Сухорученко.
Гриневичу и Кузьме предстояло пересечь большую Кангуртскую дорогу на ровном открытом участке и проехать прямо к реке. Далеко на западе остался Пуль-и -Сангин. Стороной по горам он объехал Туткаул и банду Касымбека. Перед Гриневичем внизу лежала долина, заросшая серой полынью, по которой прокатывались длинные серебристые волны. Стояла тишина. Пахло степью и какими-то неизвестными цветами. Узенькая тропинка спускалась с горы, пересекала пыльную ленту пустынной дороги и убегала, прячась в траве; на север к близким горам. Где-то мчался неугомонный, дикий Вахш. На равнине и на дороге не видно было ни души, и Гриневич решил, что наступил самый удобный момент. Он стал спускаться. За ним медленно ехал, прищурившись, поглядывая по сторонам, Кузьма, всё такой же невозмутимо спокойный. Ничто, казалось, не помешает им миновать долину и снова укрыться в скалах.
– А-а-а!
Уже у самой большой дороги Гриневич остановил коня и прислушался.
– А-а-а-! – нёсся откуда-то справа женский, жалостный вопль, ему вторил детский плач.
Остановился Шукур. Подъехал Кузьма и тоже стал слушать.
– А-а-а! – неслось всё так же монотонно и надрывно.
И вдруг они увидели.
По дороге бежали женщины и дети. Оборванные, избитые, в крови и грязи. Бежали они, глядя прямо перед собой, и в их широко открытых глазах читался ужас.
Женщины тащили на руках младенцев. Ковыляли старухи с упавшими на лицо седыми космами. Ковыляли старики. Шлепали босыми ножонками маленькие детишки. Склонившееся к западу солнце светило прямо в их лица и блестело в слезах, стекавших по щекам.
– А-а-а! – стоял в воздухе вопль.
– Что с ними? – испуганно спросил Шукур-батрак. Лицо его исказилось, покрылось бледностью.
Люди уже поровнялись со всадниками, но, не обращая на них никакого внимания, с тем же тоскливым воплем пробегали мимо.
– А-а-а!
– Стой! – крикнул Гриневич, перегораживая дорогу группе беглянок. – Во имя аллаха, стойте! Что случилось?!
Молодая женщина с рассечённой головой, с залитыми кровью глазами, прижимая к лицу окровавленные руки, закричала:
– Убивают! Убивают!
– Кого убивают?
– Воры... режут, убивают!
– Хлеб жгут, – прошамкал старик.
– Насильничают! Детей малых не жалеют!
И все повернулись и посмотрели назад. Над холмом, перегораживающим долину, грозно поднималось облако серого дыма с красными подпалинами внизу.
– Увы, увы, жгут! – закричали женщины, – А-а-а! – И побежали изо всех сил.
Гриневич почувствовал, что его что-то душит горячее, тяжёлое.
Наклонившись и схватив пробегавшего мимо старика за плечо, он показал на дорогу, на пыль, запятнанную кровью, и крикнул:
– Отец, за что они пролили кровь?!
Шалыми глазами смотрел старик на командира. Едва ли он разглядел толком, с кем имеет дело, но, пошамкав немного беззубым ртом, вдруг засипел:
– За таких звездастых, как ты.
– Что ты говоришь?
– Со звёздами вчера приехали... кызыл-аскеры. Мы их кормили, поили... Утром они убежали перед воинами Касымбека. Теперь за это нас убивают... Пусти!
Он вырвался и побежал необыкновенно проворно по дороге вслед за сво-ими односельчанами, вопя:
– А-а-а!
Не говоря ни слова, Гриневич помчался к холму. Он ничего не помнил, кроме одного: кишлак разоряют за то, что он встретил по-братски Красную Армию, за то, что бойцов эскадрона Сухорученко приняли как освободителей. И вот потому, что Сухорученко полез необдуманно, очертя голову, в драку и потерпел поражение, кровью своей платят мирные горцы. Что скажут теперь в Горной стране о Красной Армии?
Гриневич не думал о том, что где-то близко вся банда Касымбека, и что он, Гриневич, сам только-только оторвался, едва ли не чудом, от преследователей. Он скакал и скакал, а отдохнувший конь летел как ветер по ровной утрамбованной дороге. Навстречу все бежали женщины в растерзанных одеждах, прижимая младенцев к иссохшим грудям. Брели раненые в обгорелом тряпье. Но он не обращал уже внимания ни на них, ни на их жалобы. Одним духом он поднялся вверх по склону холма и остановился на его вершине. Ему в лицо пахнуло гарью, и сначала он из-за дымной завесы не смог разглядеть селения, из домишек которого валил тяжелыми клубками дым и вырывались красные языки пламени. «Как кровь!» – подумал Гриневич. Но рванул порыв ветра, и горящее селение открылось шагах в ста в лощине. Плоский белый спуск вёл с перевала прямо вниз и переходил в широкую кишлачную улицу, сплошь заполненную людьми и конями. Вооруженные басмачи бегали взад и вперед. Кто тащил узел, кто волок по земле женщину за косы. В толпе людей кому-то рубили головы, и сабли взблескивали в лучах солнца. Конные гонялись за овцами и козами. На столбах висела ярко-крас-ная окровавленная туша быка. Возле уже стояли котлы, и под ними разводили огонь.
И над всем стоял вопль: «А-а-а!», треск горящих брёвен и хлебных скирд, мычание скота, взвизги взбешенных коней, неистовый плач и звериные вопли: «Ур! ур!»
Всё помутилось в мозгу Гриневича, и багровый туман поднялся к глазам.
– Ах так!
Пулемётная очередь оглушительно стеганула по воздуху и покрыла шум, поднимавшийся с языками огня и облаками дыма над несчастным селением. Грииевич, не слезая с коня, ударил из пулемёта по группе конных басмачей, толпившихся около котлов. Долина отозвалась диким, испуганным воем на эхо в горах. И в тот-же миг дым снова затянул селение, быть может, на мгновение, но Гриневич уже ничего не видел, не отдавал отчета в своих поступках. Крикнув «За мной!», он выхватил клинок и на полном скаку врезался в мечущуюся, ошеломлённую толпу басмачей. Он рубил и рубил. Он привстал на стременах и наносил удары, вкладывая в острие клинка всю свою силу. За спиной он слышал Кузьму: «Ура! Бей их!» Гриневич вихрем промчался по улице кишлака из конца в конец, неся за собой смерть. Навстречу ему выскакивали басмачи с искажёнными лицами, широко разинутыми ртами. Они бежали от его клинка с воплями: «Красные! Красные!» Он вырвался на околицу селения, но не стал гнаться за бегущими в смятении басмачами, а повернул назад и увидал всадника в облаках пыли, хладнокровно разившего шашкой вопящих басмачей. «Кузьма!» – мелькнуло в голове Гриневича, и он погнал коня обратно в дым и огонь.
Гриневич не помнил, как оказался на плоской глиняной крыше дома. Он только помнил колючую сухую траву, которая противно щекотала и колола ему шею и щеку, и горячий металл пулемета, дергавшегося и рвавшегося у него из рук, когда он поливал огнем удиравших по долине верхом и пешком басмачей.
Но стрелять долго не пришлось.
– Быстро бегают, гады, – сказал рядом Кузьма. И только теперь Гриневич услышал раздававшиеся рядом с ним выстрелы. Кузьма стрелял методично, быстро, без промаха.
Но басмачи исчезли, наступила тишина, если не считать треска и воя огня. Кишлак лежал внизу, под ногами, оглушённый. Переход от оргии воплей, насилия, грабежа к ошеломляющему вторжению Гриневича, к бегству всей шайки оказался столь невероятным и неожиданным, что даже убитые горем женщины смолкли.







