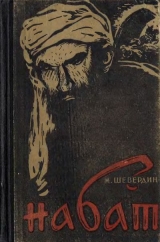
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц)
Для солидности он помолчал, возможно ожидая услышать удивлённые почмокивания губами и восторженные возгласы. Но пора сказок прошла, и все молчали, мрачно уставив взгляды на старую, раздёрганную, точно шкуру дикобраза, циновку.
Но старику не терпелось поделиться тем, что он недавно узнал, и он, кашлянув, продолжал:
– А дворец рядом с дворцом царя. И наш эмир всегда в обществе хороших людей. И ежемесячно царь подносит в шелковом кошельке нашему эмиру по четырнадцать тысяч рупий.
– Неужели? – задохнулся, услышав столь громадную цифру, Адхам Пустобрёх, – откуда же у царя столько денег?
– Из сокровищницы. И вот ещё что. Раньше царь давал по двенадцати тысяч, а ныне – четырнадцать, вот видишь...
Но он не встретил ни сочувствия, ни интереса. Никто не умилился, не пришёл в восторг. Все сидели неподвижно, стараясь укрыться лохмотьями от пронизывающего ветра и вздыхая.
Да и что им до их бывшего эмира? Кто поверит, что он покинул пределы своего государства добровольно?! Всем известно, что его выгнал народ.
– Плохо людям приходилось от эмира, а он один был, и от одного плохо было, – сказал сидевший позади всех пастух. – Вот теперь вместо одного Сайда Алимхана два приехало – Энвер да Ибрагим... Известно, дом не устраивается двумя хозяевами, хозяйство разрушается.
– Вот так всегда бывает, – нарушил молчание Адхам Пустобрёх, – великие нашей планеты жаждут веселья, изволят жрать, пить, спать, а с нас, верных подданных, последний халат стянули, без зернышка пшеницы оставили, йие! Удивительно!
На площадь рысью въехал Гриневич.
Не шевельнувшись, старейшины с испугом смотрели на него. Гриневич смотрел на них. Под его испытующим взглядом они вдруг все начали подниматься, отдавая дань вколоченной в них всякими беками и хакимами привычке – кланяться «обладателям власти». Гриневич жестом заставил их сесть, бросил поводья коноводу и вспрыгнул на помост. Он прошёл к почетному месту и сел.
– Здравствуйте! Ну-с, почтенные, к чему пришел масляхат?
Старейшины переглянулись. Оцепенение у них не прошло, и они взирали в полном удивлении на серьезного, спокойного командира, в аккуратно застёгнутой шинели, в фуражке со звездой, в отлично начищенных сапогах.
Все сели и то поглядывали пристально на него, то осторожно посматривали на дорогу, откуда приехал красный командир. Коновод водил жеребца Серого, от которого поднимался пар, взад и вперёд вдоль берега речки.
Обведя взглядом присутствующих, Гриневич сказал:
– Отцы, все вы старше меня и все имеете много ума. Я вижу, вы собрались посоветоваться, не правда ли?
Все закивали головами.
– И я хочу тоже дать всем один совет, разрешите?
Все снова кивнули.
– Я хочу сказать одно вам слово: Красная Армия – друг трудящихся. Красную Армию послал к вам Ленин. Вы видели, вам нечего бояться Красной Армии. Вы отдали ваших юношей в шайки басмачей, зачем? Вы разве не знаете, что такое «басмач»?! Это самое плохое слово: «басмак» – жать, давить. Вы послали ваших юношей жать, давить. Вы рубите собственным топором собственную ногу, друзья!
Все молчали, собираясь с мыслями.
– Я предлагаю вам дружбу Красной Армии и защиту.
Убедившись, что за этим красным командиром не едут красные конники, Адхам Пустобрёх вскочил, подбежал по помосту к Гриневичу и, согнувшись в шутовском поклоне, пропищал:
– Эй, урус, а ты не боишься, а? А если сейчас энверовцы придут, а? Разве ты не знаешь? За твою голову, командир, Энвер даст двенадцать коней, а? Целое богатство, а?
– А за твою голову даже ишака не дадут, – быстро заметил Гриневич,– иди, сядь. Ну так что же? – обратился он к старейшинам. – Дружба, а?
Но появление командира было слишком неожиданным. И старики никак не могли решиться.
– Хорошо, – сказал Гриневич, – всего месяц назад я проезжал через ваш город. Он стоял богатый и красивый. А что у вас сегодня осталось? – Он показал рукой на ещё дымящиеся, обугленные столбы и груды пепла, там, где недавно стоял базар. – Кто это сделал, а? Теперь вы дни и ночи проводите в соседстве с плахой и виселицей.
– Что можем мы, – возражали старейшины, – руки наши слабы, оружия у нас нет, лошадей у нас украли.
– Отцы, если не подует ветер, верхушки тополей не закачаются. У вас есть пословица: воля мужа и гору сдвинет с места, – сказал Гриневич. – Вы люди гор, люди великого мужества, проявите же волю!
На прямо поставленный командиром вопрос: мир или война? – старейшины ответили единодушно – мир. Они даже поднялись и поклонились, прижимая руки к сердцу. Может быть, этим жестом они хотели подсказать этому слишком смелому командиру, что ему пора уезжать. Во всяком скучае, взгляды их тревожно перебегали с площади на речку, с речки на горы.
Но Гриневич не торопился покидать собрание. Первый успех в переговорах со старейшинами Юрчи обрадовал его, но этого было ещё очень мало. Не для этого ехал он в самую пасть льва, рисковал. Он продолжал:
– Я поздравляю вас, отцы, с вашим мудрым решением. Живите долго! Красная Армия – хороший друг трудящихся. Она несет им свободу и счастье.
Старосты согласно закивали головами, но всё же тревожно продолжали поглядывать вокруг.
– Вот я вижу, что вы боитесь, – прямо сказал Гриневич, – и если будете так сидеть, дрожа от страха и спрятав руки в рукава халатов, и если будете ждать милостей Энвера или Ибрагима, то вас всех, и старых и молодых, поубивают, а от Юрчи не останется и воспоминания. Сколько заяц в норе ни прячется, а волку на зубы попадает.
Старики вздыхали.
– Хорошо, что вы решили жить в мире с Красной Армией, но этого мало. Не подобает, чтобы смелые и храбрые люди подставляли шеи под нож. Недолго ещё Энверу хозяйничать в горной стране. Скоро придет ему конец. Собаке – собачья смерть. Но что вам с того пользы? Вас он прикончит раньше, ваши семьи он погубит раньше. Подымайтесь, друзья. Беритесь за оружие. Мы вам поможем.
После недолгих, но бурных разговоров масляхат стариков, города Юрчи порешил:
Больше к нам в город Юрчи воров и разбойников грабителей не пускать. Всем отцам и дедам, у кого есть в басмачах сыновья и внуки, пойти за ними и привести их домой».
Гриневич вздохнул с облегчением. Это была большая победа. Страх перед Энвером и его бандами довлел над сердцами и умами людей Горной страны.
Попрощавшись с юрчинцами, Гриневич вскочил в седло и ускакал.
Проводив его глазами, старейшины города Юрчи посмотрели с недоумением друг на друга.
– Он приезжал один, – проговорил Адхам Пустобрёх. – Его голова лежала здесь у нас на блюде!
– Какой храбрый человек, – заметил самый старший.
– Он не боится кровопийцы Ибрагима-вора.
– Он не боится этого пришельца... зятя халифа.
По необъяснимому течению мысли Адхам Пустобрёх вдруг сделал вывод совсем неожиданный:
– Значит и у Ибрагима, и у зятя халифа нет успеха!
– Тсс!
Все испуганно зашикали на Адхама Пустобрёха и поспешили разойтись. Многие, идя домой и испуганно озираясь, бормотали:
– Какой храбрый человек!
На утро по дорогам во все стороны, кто пешком, кто на осле, поплелись старики искать в степи и в горах юрчинских джигитов, вовлеченных в басмаческие банды.
Посланцев, невзирая на их почтенный возраст и седые бороды, басмачи избивали. В банде Даниара одному из стариков отрезали нос и уши, другого, несчастного, бросили в яму. Волну ярости и гнева вызвали зверства энверовцев в селениях Гиссарской долины. Не прошло и месяца, а большинство молодых юрчинцев бросили банды и вернулись домой. Насилия басмачей так озлобили их, что многие взялись за палки и дубины и проломили голову сборщику налога на священную войну. Прискакавших вслед за этим карателей прогнали. Весной в окрестностях появился вооружённый отряд, который уже в открытую вступил в бой с мелкими бандами. Мало кто в то время в Горной стране решался поддерживать юрчинцев, но повсюду трудовое дехканство в душе сочувствовало им.
Так ли уверенно и спокойно было на душе Гриневича, как казалось по его уверенной и спокойной улыбке, когда он сидел на масляхате старейшин города Юрчи? Этот вопрос одинаково интересовал и друзей и врагов.
Но Гриневич на все вопросы отвечал:
– Надо было, я и поехал.
Опрометчивая, по мнению многих, поездка его в Юрчи оказалась, в конечном итоге, очень полезной и нужной. Смелый поступок Гриневича снискал ему и Красной Армии немало друзей в Гиссарской долине и во всём Кухистане.
– Ну а если бы явились басмачи? – задавал вопрос Сухорученко.
– Что ж, мы здесь, чтобы воевать с басмачами...
Прискакав поздно вечером в Байсун, Гриневич никого не нашел ни в штабе, ни на квартирах.
– Все в бекском саду. Из Бухары агитбригада приехала, – сообщил попавшийся навстречу Сухорученко. – Тебя ждут не дождутся. А что?
– Это, брат, секрет... военная тайна.
Гриневич так горел нетерпением доложить результаты разведки, что махнул рукой на болтовню Сухорученко и пошёл в сад.
Командиры, бойцы, горожане сидели кто где: на обочинах сухих арыков, на брёвнах, прямо на земле. Смех, шутки, треск ветвей слышались над головой. Многие зрители, чтобы видеть получше, забрались на деревья. В море голов, теснившихся около помоста сцены, затянутой сшитым из мешков занавесом, Гриневич никак не мог найти командира дивизии.
Со сцены раздался возглас:
– Ой, опоздал, народ уже собрался!
Из-за занавеса выскочил паренек в военном, с чубчиком, непрерывно спадавшим на живые весёлые глаза.
Ему захлопали. Все знали редактора живой газеты – Самсонова – забияку, лихого кавалериста, острослова.
– Помилуй бог, говорил дедушка Суворов, одна нога там, другая здесь, – продолжал редактор. – Кто «поздно приходит, тот сам себе шкодит», – сказали польские паны, когда проспали Киев и им наклал Семен Михайлович Буденный по шее. Не хотел я быть похожим на панов и бежал к вам сюда из самого Термеза что есть духу. Полтораста верст оттопал. Скакал во всю ивановскую. Так басмач не удирает от клинка нашего Гриневича: Уф!
Услышав фамилию боевого командира, бойцы охотно похлопали и пошумели.
– А теперь привет вам от Термезского гарнизона! Братишки вам кланяются и желают боевых успехов.
Все снова зааплодировали.
Демонстративно утираясь носовым платком, Самсонов скомандовал:
– Занавес!
Мешковина раздвинулась.
– Редколлегия, вперед! Смирно! Оглушительно топая и поднимая столбы пыли, вышагивая, по-гусиному, на сцену вышли четыре красноармейца. На груди каждого висел лист картона с буквами, так что когда бойцы встали в ряд, зрители смогли прочитать:
«По бас-ма-чу!»
Страшным голосом Самсонов скомандовал:
– По коням!
Члены редколлегии лихо вскочили верхом на табуретки и всем своим видом старались показать, что сели в седла и скачут, как заправские кавалеристы.
– Ударим по басмачу!
– Ударим! – хором рявкнули члены редколлегии.
– Пиши протокол, секретарь! – продолжал Самсонов.
Из-за кулис выбежал типичный армейский писарь с наклеенным красным носом, с большим листом оберточной бумаги и палкой вместо пера.
Кто-то из зрителей подал реплику:
– Ишь ты, и на представлении заседанья! Послышались смешки. Крикнули: «Не мешай слушать!»
Самсонов вышел на авансцену и обратился к зрителям:
– Товарищи, оружие к бою! Потому сейчас контру всякую показывать в газете буду. Народишко хитрющий, опасный.
Он отбежал на цыпочках к рампе, и одновременно на сцену ввалились шутовски разодетые белогвардейский генерал Деникин, банкир в картонном цилиндре, британский лорд, похожий на раскормленного быка, и тип, долженствующий изображать то ли купца, то ли деревенского кулака. За руки и за ноги они волокли по полу толстого эмира в шелковом халате, в чалме с бумажными звездами на груди. Размалеванные физиономии всех действующих лиц превращены были в отталкивающие зверские маски, обильно уснащенные усами и бородами из топорщащихся во все стороны конских волос. Зрители остались очень довольны маскарадом, и когда вся компания принялась танцевать гопака вприсядку, раздались громкие аплодисменты.
– Жми, буржуи! – грохотали бойцы.
Хором, на мотив распространенной частушки «Эй, Самара, качай воду» представители контрреволюции визгливо затянули:
В Бухаре сидели мы,
Жрали мы, жирели мы,
Много там нахапали
Награбили, награбили!
Пение и танцы резко оборвались. Вся компания вдруг понурила головы и уныло хором простонала:
– Увы, схлопотали мы по морде.
На сцену выскочил зверовидный, увешанный оружием басмач. Он был так реален и правдоподобен, что бойцы встрепенулись и дружно ахнули. Тотчас же все завопили: «Бей его!»
Эмир бухарский начал танцевать нечто вроде «кэк-уока» в обнимку с басмачом, и хор заверещал:
Гей, басмач мой, подбодрись.
Храбро с красными дерись.
Вот патроны, получай,
Да гляди, не подкачай.
Скрывшийся было за кулисами английский лорд появился снова, волоча большой кошель с золотом и деньгами.
Суя пачки денег, он лез целоваться с басмачом, подвывая:
– Басмаченька ты наш очаровательный, надежда ты мирового капитала, бери, бери деньжат-то. Бей окаянных большевиков.
И хоть представитель мировой буржуазии окал, как истый волжанин, красноармейцы подняли шум и свист. Послышались крики: «Долой буржуев, долой кровавый капитализм!» На сцену полетели окурки, кусочки засохшей глины.
Тогда буржуй повернулся к зрителям, отвёл от лица в сторону бороду и усы и, обнаружив круглое курносое лицо, недовольно сказал, всё так же напирая на «о»:
– Да я ж артист. Какого же лешего! Не порите хреновину! – И, снова обратившись в буржуя, продолжал: – Бей их, да оглядывайся, а то самому по заднице надают. Эта реплика, очевидно, не входила в текст инсценировки, но очень понравилась аудитории, и все закричали:
– Валяй дальше, Савчук! Жми!
Артист, игравший роль басмача, неловко державший в охапке патронные подсумки, винтовки, пачки денег, наконец получил возможность открыть рот. Он закричал, зверски вращая белками:
– Ррр... разделаюсь в два счета, раз, два.
– Э... э... мистер, – заикаясь, загнусавил вдруг британский лорд, показывая пальцами на зрителей, – э-э... кто... кто там?
– Караул! Красные! – взвыл басмач.
Под оглушительные аплодисменты на сцене началась невообразимая кутерьма. В конце концов все в панике убежали. Дольше всех метался по сцене басмач, теряя винтовки, патроны, деньги, он выл самым забавным образом, по-щенячьи, шлепая себя по ляжкам. Но, наконец, и он исчез.
Тогда вышел на сцену Самсонов и самодовольно объявил:
– Минуточку внимания... Продолжаем нашу постановочку.
Мгновенно на сцену ввалилось с десяток басмачей и, расположившись в кружок, зажгли костер из соломы.
– Сцену не спалите! Осторожнее! – послышался явственно голос из публики.
– Нехай, товарищ комендант, не спалим! – ответили басмачи, и заголосили уже в соответствии с текстом инсценировки хором:
– Грабь! Режь!
Жги, руби!
Эмир удрал!
Пятки показал,
А нам наказал!
Грабь! режь!
Жги! Руби!
Появился новый артист в английском френче, галифе, с красной феской на голове и заорал:
– Смирно! Встать! Басмачи повскакали.
– Ты кто? Чего орешь?
– Смирно! Молчать! Не разговаривать!
– Ого какой!
– Я зять божьей милостью халифа, глава всех мусульманских попов, главнокомандующий бандюками-басмачами, генеральская шкура, паша Энвербей!
Басмачи все бросились ниц. Тогда Энвербей спел:
Я Энвер-генерал!
Повсеместно бит бывал.
В Бухару теперь попал,
Бедноту за горло взял.
Правоверные, ко мне:
Марш ко мне,
сыпь ко мне!
Обучу я вас войне.
Вас войне, да!..
Став в позу и подкручивая усы, Энвербей объявил:
– Эх вы, шпендрики правоверные. Плохо воюете. Плохие вы военспецы. А я в академиях учился, науку военную немецкую превзошел, золотишко французское в карман положил, винтовки английские получил. А посему объявляю себя мировым Наполеоном! Вперёд!
Выхватив из ножен саблю, он устремился за сцену, басмачи – за ним. И вдруг все попятились. Из-за кулис выступили красноармейцы со штыками наперевес.
Спрятавшись за спины перепуганных «басмачей», Энвербей, прыгая, точно петух, завопил:
– Вперёд! Бей красных!
Басмачи заметались. Но бежать было некуда. Со всех сторон штыки.
Занавес сдвинулся как раз вовремя. Где-то за темными деревьями сада послышалась дробь выстрелов.
К комдиву, сидевшему в первом ряду, подбежал адъютант и что-то быстро сказал ему на ухо.
Тогда комдив поднялся и громко обратился к аудитории:
– Товарищи! Настоящий Энвер поопаснее, чем самсоновский. Сейчас его разъезды появились под городом.
– Разойдись! Седлать коней! – послышалась команда.
Ровно через минуту раздвинулся занавес, Самсонов вышел на авансцену.
– Товарищи!.. – сказал он.
Но обращаться ему было не к кому. Там, где только что шевелились и бурлили сотни голов, стало пусто и тихо. Тогда он закричал в глубь сцены:
– Тревога! Редколлегия, костюмы, грим долой! По коням!..
Гриневич не пошел в ночную операцию. Комдив оставил его для доклада. При свете коптилок они долго сидели в штабе. Вызывали Джаббара. На рябом лице его отображалось такое неудовольствие, что даже комдив обратил внимание. «Только спать улегся», – ворчливо ответил он. «У него молодая жена», – улыбнулся Гриневич. «А, ну дело извинительное». Втроём они просидели до первых петухов.
– Скоро поедешь проводником в Гиссар, – сказал комдив Джаббару под конец.
– Наступать будете? – встрепенулся тот. Комдив пристально посмотрел на степняка, и вдруг какое-то мимолетное сомнение мелькнуло у него, и он, покачивая головой, проговорил:
– Там видно будет.
– Товарищи командиры, я прошу отпуск. Мне нельзя оставить жену в Байсуне, если я уеду. Не с кем, надо отвезти жену.
– Куда ты поедешь? – спросил комдив.
– В горы... в Шахрисябз... Только отвезу – и сейчас же назад.
– Хорошо, посмотрим.
Когда он ушел, Гриневич заметил:
– И у вас сомнения?
– Да черт его знает! И в верности Советам клянется, и сведения бесценные дал, а не лежит к нему сердце. Кулак, жмот – во!.. Не наш он человек. Ну да ладно. Я хотел тебя, Гриневич, поздравить... Ташкент даёт тебе бригаду.
– Комбриг? Гриневич – комбриг. Подумаешь. Сколько я их перевидал! – Сухорученко заглянул в карты и расстроился. Ему, мягко говоря, не везло. Карта шла маленькая, разномастная, и он зло добавил: – Теперь Гриневич совсем занесётся.
Сырость, запах плесени, холодные струйки из-под двери не мешали Сухорученко напряжённо уже не один час сражаться в преферанс. Преферанс хоть и умственная игра, но позволяет болтать с партнерами о том о сём, и, как ни удивительно, хоть комдив держал приказ о назначении в секрете, все командиры узнали о нем задолго до самого Гриневича.
– Гриневич – комбриг, ого! Строгонёк, – сказал командир взвода Павлов.
– Чепуха, и не таких строгих на место ставили. – Настроение Сухорученко поднялось. Когда он поднял карты, то увидел, что картина улучшилась, на руках у него оказалось девять верных взяток.
– А ты его знаешь?
– Я всех знаю, а с нашим Гриневичем я служил в одном полку. Рубать умеет. Когда нас беляки к Оренбургу гнали, он из Москвы приехал, военным комиссаром. Я тогда в Оренбургский трудового казачества полк попал...
Сухорученко замолчал. Он сосредоточенно думал. Ход оказался не его. Тем не менее он объявил десять и понял, что положение его снова ухудшилось. Он увидел страшную угрозу. Одну взятку он терял при умелом ходе вистующего.
Павлов такой ход и сделал.
– А ты что, казак? – спросил он.
– Никакой я не казак. Хреновский я. То есть из города Хренова. Насчёт меня особый разговор... Ну вот в Самару нас послали, уж тут я порубал. Помню, у станции Преволецкой. Мороз пятьдесят градусов…
– Уж и пятьдесят.
– Не мешай... Ураган, вьюга, руки – ледышки, клинок не держат, А тут беляки. Ну, Гриневич скомандовал: «Даёшь!» – и в атаку…
Тут окончательно озлился Сухорученко. Эх, не везёт! Так оно и случилось. Как говорят преферансисты, он при «рефете и тёмной» поставил на полку 72.
– Чёрт! – заорал он.
– Постой, постой, ты лучше о Гриневиче.
– Гриневич, что Гриневич! Известно, питерский пролетарий.
Как-то сразу Сухорученко обмяк, скис. Видно, воспоминания о Гриневиче, против его воли, вызвали в памяти не слишком приятные обстоятельства.
– Что Гриневич? Ну назначили комбригом – и бог с ним, – попытался оборвать разговор Сухорученко.
Но все же пришлось ему рассказать:
– У нас в ту пору полк только полком назывался. Казаки-то побогаче пошли с Дутовым, а к нам – голытьба. Конь есть, седла нет. Седло есть, шашки нет. Одно расстройство. Каждый за свою собственность зубами держался. Уральцы не дремали, ни с того ни с сего ударили на станицу Сорочинскую, что около Бузулука. Пожары, стрельба. Ад! Геена огненная. Грабят казаки, мужиков бьют, девок, баб на сеновалы тащат. Наши кто куда. Откуда ни возьмись – Грииевич! Тогда я его первый раз увидел. В кожанке такой, с наганом. Раз, раз. «Всех трусов расшлёпаю!» – спокойненько так говорит. Моментально у крестьян собрал коней, сёдла, шашки, Кто не давал, тем в морду. Не до уговоров. Сорганизовал сотню. Сам на коня – и давай! И пошёл, и пошёл! Лихо мы атаковали уральцев под Гниловкой и Бакайкой. В одних подштанниках по морозцу офицерня драпанула. Двуколки с патронами, сёдла, оружие побросали. Ну, сдонжили мы беляков убраться по добру по здорову.
– Чего ты сказал? – спросил Павлов. – Какое такое сдонжили?
– А это наше слово... сдонжили... ну, заставили. Потом под Белебеем во-евали. А скоро полк стал как полк, и включили нас в 3-ю Туркестанскую кавалерийскую дивизию. Здорово драться пришлось. Так все и говорили: «Гриневич повоюет весь Урал». Ну и бросили нас в степи на реку, Урал. Что ни день – то бой, что ни ночь —то схватка! Казаки – они отчаянные. Сколько раз на нас лавой ходили. Под Гарпино трофеев мы взяли неслыханно. Беляку генералу Акулинину в Илецке тоже дали прикурить. Пока 4-й Туркестанский в лоб нажимал на Акулинина, Гриневич повёл нас в обход, да так ловко, скрытно! Через Урал – вплавь, держась за седла. Словно снег на голову. На улицах всех и покрошили. Весь август гонялись за Акулининьим. Чего только не было!
– Неужто одни только победы да победы? – лукаво сощурил глаза Павлов. – А не вас ли от Вознесенского до самой станции Яйсан гнали?..
– Патроны кончились, ну и пришлось податься назад, – мрачно поглядывая на Павлова, продолжал Сухорученко, – без патронов что делать, ну Акулннин и напал. Только не думай, что мы растерялись. Гриневич нам паниковать не позволил. Отходили с самыми что ни на есть малыми потерями... а потом: «Да здравствует пролетарская революция!» Да как вдарим обратно на Воскресенскую. Вот лихая была атака, вот звону было. Оглянуться Акулинин не успел, а Гриневич забрал в плен в полном составе батальон пластунов со всеми винтовками и снаряжением. Вот! Вот было дело! А там ударили на Актюбу. Шли день и ночь. Лихим налётом. Нагрянули гостями в село Всесвятское и прибрали всех пластунов, что остались от Воскресенских. Две тысячи пленных при оружии да с красным крестом, докторами и сестрами милосердия. Даже ветеринарный околоток захватили. Спирту этого медицинского обнаружили, страсть.
– Ну известно, Сухорученко мастак воевать с милосердными сестрицами да со спиртом, – съязвил Павлов.
– Чёрт! Держи карман шире. Гриневич – тут как тут. «Не сметь! Не тро-гать, не прикасаться», – и повёл в атаку. А у нас тыщи две пленных беляков. Куда хочешь день. Ну ничего, пошли мы с обузой этой, взяли Актюбинск, прописали ижицу генералу Белову. Кто из беляков подался в киргизскую степь, кто побежал на Уил, а белый 9-й Оренбургский сложил оружие, и казачки Гриневичу сдались при всём боевом снаряжении. Пошли после того мы на отдых в поселок Кудниковский. Отдыхали крепко. Самогону было вволю! Кудниковские девки по нас и сегодня плачут, убиваются!
Игра приняла острый характер, но Павлов не удержался, сказал:
– Гречневая каша сама себя хвалит. Ты всё про себя да про себя. А Гриневич? Трефи козыри... Прикуп мой.
– Гриневич что, Гриневич, известно, воевал. Он не то что мы – он пролетарской кости человек. Строгий, смотрит исподлобья, железный характер... Гм... гм... Нарушений революционной дисциплины не любил. Чуть что – к стенке.
– Иначе с вами, охламонами... нельзя... Небось, вы и город разнесете.
Сдав карты, Сухорученко буркнул:
– Ну, и мне попало – представление на революционный орден... За дебоширство отменили... Девок обижал. И катанули меня аж в Сибирь. Гриневич что? Я к Гриневичу претензий не имею.
Сухорученко явно не везло в игре. Впрочем, он в преферанс играл весьма посредственно. Предпочитал он «железку», «двадцать одно», однако азартные игры в дивизии были строжайше запрещены, и приходилось коротать время за преферансом. «Умственная игра, – жаловался Сухорученко, скобля пятерней в своих грубейших рыжих патлах, – интендантам да писарям в неё играть. Нам бы сразу – либо выиграл, либо штаны профершпилил. Пан или пропал».
Он и сейчас скучал, зевал со стоном, потягивался, кряхтел. Проиграв какую-то ерунду, он обиделся и ушёл.
– Расстроен наш комэск, – заметил Павлов. У него с Гриневичем всякое было, – добавил он.
– А что?
– Сухорученко – прирожденный анархист... Ндраву его не препятствуй. Драться он умеет, храбрости неимоверно, а когда в раж войдёт – не остановишь. Беды наделает. Не понимал, что иной солдат или казак не по своей воле к белым попал, что к таким подход требовался... А он всех косил... Сколько раз его предупреждали, сменяли, перебрасывали... Если бы не это быть уже Сухорученко комдивом, а он выше, командира эскадрона ни тпру ни ну. Беда с ним.
Жизнь Гриневича после Актюбинского фронта сложилась всё такой же бурной. Воспользовавшись передышкой, он обратился с просьбой к команду-ющему Михаилу Васильевичу Фрунзе отпустить его в Петроград к себе на завод.
Такая не совсем обычная просьба, да еще во фронтовой обстановке, могла показаться слабостью, и даже кое-чем похуже, но Фрунзе понимал, что у Гриневича имелись все основания проситься из армии.
Дело в том, что Гриневич, ещё будучи подручным мастера в прессовом цехе, попал в аварию. Рёбра его тогда плохо срослись и давали себя знать, особенно перед плохой погодой. До революции никогда Гриневич себя военным не мыслил, а о лошадях имел представление весьма относительное, то есть знал он, что их запрягают в извозчичьи пролетки и телеги... Сел на коня впервые Гриневич во время боя с белоказаками под Сорочинской. Присланный из Самары в качестве политработника, он наводил порядок среди дебоширивших добровольцев-красноармейцев. События развивались бурно и стремительно. Врасплох напали белоказаки. Раздумывать не приходилось. Сколотив жёсткой рукой сотню, он сам залез в седло и, крикнув «За власть Советов!», погнал на беляков, не оборачиваясь и не зная, скачут ли за ним новоявленные кавалеристы. Одно он чувствовал – это невыразимый стыд, что он болтается в седле, как собака на заборе. Ему казалось, что над ним хохочут и его бойцы, и белоказаки, и весь мир. Размахивая неуклюже тяжелым клинком и вопя во весь голос «ура!», он всеми силахми тела и души старался удержаться в седле. Он вцепился в коня ногами и бормотал: «Только не упасть, только не упасть». Страх свалиться с лошади заглушил страх перед пулями и казачьими шашками, и потом, после боя, он очень удивился, что удержался в седле. Добровольцы, обуреваемые чувством ненависти к зажиточным казакам, ринулись за своим комиссаром, и, говоря по чести, в тот момент никто из них не заметил странной посадки Гриневича в седле. Сотня дралась ожесточённо, белоказаки бежали. А когда бой кончился, то Гриневич уже сидел в седле вполне удовлетворительно, даже с точки зрения природных кавалеристов, какими являются жители оренбургских степей...
Став кавалеристом, Гриневич постоянно чувствовал свою неполноценность. Ему казалось, что он больше принесет пользы советской власти и большевистской партии на заводе, у станка.
Дважды он был ранен. Раны плохо заживали. В боях он не замечал недомогания, но когда полк стал на отдых, старые и новые боли почувствовались очень остро.
Возможно, что бурная, но короткая боевая карьера Гриневича так бы и оборвалась после того как он подал заявление.
В ответе, вскоре полученном из Москвы, он прочитал:
«Ваше заявление доложено Главкому. Командование рассматривает вашу просьбу как проявление малодушия, недостойное красного командира, и дезертирство, за которое полагается трибунал. Сдайте немедленно полк и явитесь в ставку».
Столь же мало боялся Гриневич трибунала, сколько и вражеских пуль. Он немедленно отправился лично в штаб армии к Фрунзе.
– Из армии тебе уходить не след, – сказал Михаил Васильевич. – Нам сейчас командиры с пролетарской хваткой вот как нужны! Начинаем поход в Туркестан. Раны? Хворости? Подлечим,
Командир Гриневич в Питер к родным станкам не вернулся, а со своей частью двигался на юг, в Туркестан.
Через два месяца Гриневич у селенья Гарбуи впервые встретился с коварным, хитрым врагом – Мадамин-беком. Весь 1920-й год он сражался почти непрерывно в боях с басмачами. Курширмат, Мадаминбек, Халходжа, Порпи и все другие курбаши познали, как они сами говаривали, «силу железной руки и остроту разума кызыл-сардара Гриневича». Жестоко биты они были не только «в смертельных столкновениях оружия, но и в хитроумных состязаниях слова» – изощренной азиатской дипломатии. Гриневич забыл, что такое сон, гоняясь за басмаческими шайками. С неистощимым упрямством вёл он непрерывное преследование басмачей, не давая им ни минуты покоя. Умный и, пожалуй, наиболее смелый из басмаческих курбашей Мадаминбек в отчаянии говорил: «У кызыл-сардара Гриневича сто глаз, сто рук, сто сабель, сто ног. Спит ли он когда-нибудь? Подлинно дичь превратилась в охотника. Увы! А мы, охотники, стали дичью!» Никогда Гриневич не успокаивался. Он не жалел своих бойцов, но он не жалел и себя. Никто никогда не слышал от него «я устал!». Но когда бойцы или командиры из его подразделения начинали говорить об усталости, он не слышал или делал вид, что не слышал. Приходилось тяжело. Все обтрепались, обносились. Республика была не в состоянии удовлетворить красных бойцов обмундированием, обувью, питанием. Эскадроны стали похожи на шайки бродяг в своих потёртых кожаных куртках немыслимых цветов, в порванных, просалившихся буденовках, в заплатанных чембарах. Но сытые, всегда начищенные до блеска кони играли, а личное оружие было готово к бою. Сам Гриневич носил галифе с заплатками на коленях, но его никто не видел ни разу небритым, а клинок его на взмахе слепил своим блеском. Ел Гриневич из общего котла, курил солдатскую махру с «медведем» на шершавой обёртке и мечтал о сапогах без дыр на подошве. Но он был жесток, беспощадно жесток к малейшим проявлениям мародёрства или душевной слабости. Он воспитывал и поддерживал в своих бойцах революционное сознание великого дела, за которое они сражались. Серд-це переворачивалось у него, когда приходилось хоронить друзей – бойцов, сражённых чаще всего не в честном бою, а в предательской засаде. Залпы траурного салюта громом раскатывались над вершинами тополей, напоминая, что жив еще революционный дух полка Гриневича. И часто гром салюта без пауз, без передышки переходил в грозный огонь против банд. «Плакать некогда, плакать о друзьях будем потом! По коням!» – звучала команда. И Гриневич вел своих конников вперёд, оставляя в Коканде, Оше, Андижане, Ассаке, Бухаре могильные холмики – памятники доблестного пути освободителей трудового дехканства от байско-феодального гнета. Вперёд! Вперёд! В горах и степях, в жару и жестокий мороз, без сапог, без шинелей шёл конный полк через пески, скалы, ледяные перевалы, и никогда бойцы не теряли мужества, боеспособности, Одним из первых Гриневич во время штурма Бухары ворвался в город.








