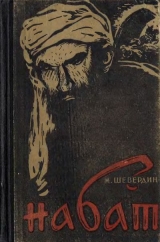
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 46 страниц)
– Значит, речь идёт о вашем отце, значит, вы пришли сказать что-то о вашем отце? – Пантелеймон Кондратьевич вздрогнул, но постарался скрыть своё возбуждение. Он холодно, испытующе смотрел на Иргаша, который под его взглядом весь сжался, скорчился.
– Господин, – пролепетал он, – мой отец Файзи Шакир.
– Это нам известно.
– Я думал, отец пропал. Умер в Бухаре, а он... он... Чёрный огонь опалил мне сердце. Умоляю. Я отца люблю сыновьей любовью. Ужасно говорить сыну против отца... но...
Он судорожно сглотнул слюну и закашлялся. Пантелеймон Кондратьевич терпеливо ждал, хотя по телу его волной прошла дрожь отвращения.
– Я люблю большевиков... и я помогаю вам, хоть и знаю, нет мне пощады в том мире... Когда я предстану пред ангелом Азраилом, он скажет...
– К чёрту Азраила! Говори дело! – Пантелеймон Кондратьевич понял, что на Иргаша надо прикрикнуть.
– Говори дело! – повторил он.
– Сейчас, сейчас. Я спешу! Надо спешить, надо остановить руку предательства, руку моего... о... моего отца!
– Так! – вырвалось у Пантелеймона Кондратьевича. Ему стоило больших усилий скрыть всё нарастающее беспокойство. «Файзи?!. Не может быть! Хотя тут и почище происходят истории...»
– Сейчас, сейчас, но в сердце боль.. – бормотал Иргаш. – Сколько мне Советская власть даст за мои слова… об отце?
– Скотина! – только и смог от неожиданности пробормотать Пантелеймон Кондратьевич. «Ах, вот кто ты такой!» подумал он.
– Понимаете, – деловито продолжал Иргаш, – моего отца расстреляют. Мне большое горе, большой убыток. Прошу немного мне заплатить, самую малость!.. Новость стоющая, а потом я без отца останусь.
Пантелеймон Кондратьевич вдруг вскочил, схватил за плечо Иргаша, поволок его с неожиданной силой к пробитому, видно, недавно окну. Толкнул ставню. Горячий ветер пахнул в лицо сушью, огнем.
– Видишь, – сказал он Иргашу, – вон там домишко, тебя сейчас отведут туда... поставят спиной к стенке и расстреляют. А поганый твой труп прикажу бросить в степь – пусть его сожрут шакалы.
Он отшвырнул Иргаша от окна на палас – Понял?! Говори правду, только правду!
– Я твой раб, начальник. Ты дал мне свободу. Моя жизнь и смерть в твоих руках. Я хотел сказать и скажу... Стреляйте. Я не боюсь. Отец прикидывается другом Красной Армии, но зачем он жжёт по ночам на склонах холмов костры? Он говорит: «Я большевик! Я большевик!» А сам готовится напасть на заставу... Зачем он писал письма Энверу, я спрашиваю?
– Энверу?
– Да, да, я сам возил письма его к зятю халифа.
Впоследствии Пантелеймон Кондратьевич утверждал, что первым его движением было выкинуть за дверь этого подлеца. Однако он ограничился только тем, что закурил новую папиросу и постарался оттянуть немного времени, чтобы спокойствие вернулось к нему. Он стоял у окна и смотрел перед собой. «Экая гадина. И это сын!» Но угнетала Пантелеймона Кондратьевича даже не подлость Иргаша... Угнетала его новость, принесенная Иргашем. Как ни верил он в честность Файзи, но... трудно представить себе, что сын возведет напраслину на отца. Отряд Файзи сражался на чрезвычайно ответственном участке. И если «пащенок» прав, если... если Файзи... тогда...
Взгляд Пантелеймона Кондратьевича привлекло какое-то движение в степи и притом совсем близко. На теле у него выступила испарина. Он вдруг захлопнул ставню и стремительно повернулся к Иргашу, всё ещё сидевшему в покорной, полной картинного горя позе.
– «Прикидывается собака!» – мелькнула мысль. Сделав несколько шагов и остановившись перед Иргашем, Пантелеймон Кондратьевич произнёс вслух:
– Ну, ну? Как же ты всё узнал?
Иргаш истерично закричал:
– Я твой слуга, я твой раб. Я хочу помочь.
– Как ты узнал про отца?
– Клянусь, я говорю правду. Он заставил меня помогать ему в чёрных его делах. Увы, я соучастник. Но я сказал себе: «Нет, так нельзя. Я пойду к командиру и скажу правду. Наш пророк приказывал говорить правду». И я пришёл.
Издалека донёсся приглушённый закрытыми ставнями топот многих коней, и Пантелеймон Кондратьевич заволновался.
– Ты грамотен?
– Плохо.
– Тогда вот что, идём.
Он быстро вывел Иргаша из комнаты, пересёк дворик, где всё ещё сидели, но уже в широко расплеснувшейся прохладной тени, кунградцы, втолкнул его в соседнюю мазанку. Там, за сбитым из грубых досок столом, сидел командир.
– Снимите с него дознание! А ты подпиши.
Иргаш кивнул головой.
– Никому ни слова не скажешь.
– А что с отцом будет?
– Не твоего ума дело...
– Но как я ему в глаза буду смотреть?
– Ничего не поделаешь. Сделанного не воротишь. Ну, а семью вечером по холодку повезёшь... Смотри только... Не боишься?
– Нет, довезу.
Пантелеймон Кондратьевич поспешил вернуться к себе. По дороге он отдал приказ:
– Поднять всех бойцов. В ружьё.
– Товарищ командир, к заставе подъезжают вооруженные всадники... тридцать сабель... из добровольцев Файзи.
– И я знаю, что Файзи,
Он вернулся к себе и только тогда вздохнул свободно. Постояв с минуту около окна, он пересёк комнату и, открыв широко дверь, воскликнул:
– Входите, входите!
Вот уже полчаса Пантелеймон Кондратьевич следил через окошко за движением всадников. Степь в тех местах ровная как стол, и наблюдение не мешало разговору. Волноваться начал командир только тогда, когда он убедился, что среди приближающихся к заставе всадников едет сам Файзи. Сначала Пантелеймон Кондратьевич подумал, уж нет ли известной доли истины в словах Иргаша. Но вся застава стояла под ружьём и беспокоиться не было смысла.
Здоровался Файзи, как обычно, холодновато, без проявления особого жара. Раньше бы Пантелеймон Кондратьевич не обратил на это внимания, но сейчас несколько равнодушный, скорее тусклый, голос Файзи показался натянутым и неестественным. Файзи явно постарел за месяц боев и походов. Правда, вид его, подтянутый и строгий, делал его теперь более похожим на военного командира, но голова чуть тряслась, а в глазах замечалась тоска, как у человека, снедаемого внутренней болью. Он осунулся, похудел, резкие тени легли на его иссеченное ветрами лицо, грудь впала. В течение всего разговора он кашлял. Пантелеймон Кондратьевич на мгновение, почти невольно помедлил протянуть свою руку. Файзи заметил задержку и медленно вскинул глаза, испытующе посмотрел на командира, на его хмурое лицо. Старик инстинктивно почуял неладное, но ничего не сказал, а остановился в выжидательной позе.
«Нет, разве он похож на предателя? Рабочий. Пролетарий», – думал Пантелеймон Кондратьевич, но преодолеть недоверия, посеянного Иргашем, не мог. Стараясь не глядеть прямо в глаза Файзи, он сам сел и предложил сесть ему.
– Пожалуйста, прошу. Сейчас попьём чаю.
– Вы, – покачал головой Файзи, и в углах рта его появились горестные складки,– вы, я вижу, всё уже знаете.
– Что я знаю?
– Я пришел посоветоваться к вам, как к другу. Я хочу спросить... да... нехорошее дело, когда у командира... э... начальника отряда... человека... такого... ну, такого...
– Что случилось? Что вы? – в голосе Пантелеймона Кондратьевича звучала такая фальшь, что ему самому стало противно.
– Я думал вам всё сказать откровенно, – с горечью проговорил Файзи, – но вы, вижу, всё сами знаете. По вашему обращению вижу – всё знаете, – он тяжело вздохнул. – Я заслужил такое обращение... Я отвечаю за всё, за всё.
И хотя Пантелеймон Кондратьевич уважал и даже любил Файзи, но сейчас, когда он снова заговорил, тон его был деловитым, сухим:
– Пожалуйста, я слушаю вас.
Очень спокойно, без всякой рисовки, точно все это его не касалось, Файзи рассказывал:
– Я говорил вам, что у меня было два сына: Рустам и Иргаш. Рустам погиб, а Иргаш уехал ещё до революции из Бухары, и я не знал, что с ним. Теперь, увы, я узнал. Народ у нас говорит: судьба имеет длинную руку. – Голос Файзи становился каким-то мёртвым. – Воспитывал я сыновей в честности, справедливости, мужестве. И один проявил себя в испытаниях честным, справедливым, храбрым. И он умер как подобает мужчине, хотя ему тогда не исполнилось и восемнадцати лет. А Иргаш? И его я воспитывал в понятии чести, но, увы! Я говорил ему – не лги, а он лгал, я ему говорил – не лице-мерь, а уста его говорили другое, чем глаза. Я говорил – будь честен, и вот... вина моя... в сердце его капля за каплей вливался яд... Я виноват. Я отец... А за поступки сына отвечает отец.
Тяжело было смотреть на Файзи. Весь он дрожал. Лицо его отражало такую боль, что Пантелеймон Кондратьевич вдруг почувствовал, что вся его суровость, порожденная предубеждением, тает. Он старался припомнить сло-ва Иргаша, чтобы не поддаться обаянию большой души старика.
Самые противоположные чувства боролись в душе Пантелеймона Кондратьевича. Ему так хотелось вскочить взять руки старика, обнять его, успокоить, но червячок сомнения шевелился где-то внутри, капельки горечи отравляли сознание. Лицо его оставалось сумрачным, каменным. Файзи опускал голову всё ниже, а голос его становился тихим, блеклым, что противоречило страстному содержанию его слов. Файзи не мог смотреть на суровое лицо комиссара, в котором он ждал и боялся прочитать себе приговор.
– Он мой родной сын, и я думал: пшеница – из пшеничного колоса, ячмень – из ячменного колоса. Разве я мог знать, что из моего семени выйдет сорная трава... Мир непостоянен. Нет верности в нем... Ты хочешь создать жилище, но забываешь, что строишь на текучей воде. И что случилось с Иргашем?! Виноват я! Разве смел я тогда отпускать его от себя, разве мог допустить, что он ушёл один в степь и горы и остался там без отцовского совета. О если б это был Рустам, мужественный Рустам. Когда, наконец, я забуду тебя! Лгут те, кто говорит: память стирается, как монета, брошенная в чашку нищего... Рустам, Рустам! Он не поддался бы... И вот, начальник, я пришёл насчёт Иргаша... Даже если твой сын идиот, пусть он будет здоров, – говорит народ. И я здесь...
Последние слова Файзи прозвучали мольбой, стоном... Он долго не мог продолжать, собираясь с мыслями, и Пантелеймон Кондратьевич не мешал ему, а только курил и курил.
– Они купили его, – после долгого молчания сказал Файзи.
– Кто они? – вырвалось против воли у Пантелеймона Кондратьевича.
Файзи с удивлением поднял голову и посмотрел на командира.
– Я не знаю, ты лучше знаешь, кто они, – и он только добавил: – Я отец, Иргаш – сын. И видит бог, я люблю сына, но горы разрушаются землетрясением, любовь и дружба разрушаются словом. Энвер и его свора пришли сюда непрошенные. Они взяли народ за глотку. Они повернули оружие людей на тех, кто несёт им свободу от гнёта и капитала. Я приехал сюда сражаться против помещиков и баев за народ и вдруг вижу: много людей из народа встали на защиту своих злодеев и угнетателей. Я не понимаю, что случилось. Тысячу лет батрак целовал руку хозяина, готовый укусить эту руку. А сейчас я вижу: баи сказали несколько сахарных слов, и сколько крестьян забыли свои обиды, забыли горечь унижений. Что случилось? Неужели они поверили, что аллах им прислал сюда зятя халифа? Неужели достаточно капли мёду, чтобы люди шли лизать прах его ног?
Выяснилось, что в отряде Файзи в самый разгар боёв с энверовской бандой неожиданно появился Иргаш. Файзи безмерно обрадовался, что его сын хочет сражаться против Энвера. Иргаш получил винтовку и показал себя храбрым воином. Но вскоре из разговоров выяснилось, что Иргаш в бытность свою за границей служил саисом – стражником у кундузского губернатора. Более того, Иргаш проговорился, что уже бывал несколько раз в Восточной Бухаре, в районах, захваченных Энвером. Когда Файзи спросил, что он здесь делал, Иргаш туманно сказал: «Товар привозил, торговал хозяйским товаром. У меня есть хорошие друзья. Отец, они хорошие, щедрые люди. Они могут быть и твоими друзьями. Всё в твоей воле». Когда Файзи потребовал назвать этих «друзей», Иргаш замялся, запутался. Ошеломлённый, полный подозрений Файзи на вечернем привале устроил совет с Юнусом и другими своими командирами. Решили допросить Иргаша построже, но когда за ним послали, оказалось, что он исчез.
Тогда-то Файзи решил встретиться с кем-нибудь из командования Красной Армии.
Ближе всего оказалась пограничная комендатура, и Файзи поехал к Пантелеймону Кондратьевичу.
Жалкая улыбка кривила губы Файзи. Он сжимал руки и вздрагивал.
Пантелеймон Кондратьевич знал суровый, сдержанный нрав Файзи, и сей-час столь бурное проявление чувств заставило поверить в его искренность. У него возникла окончательная уверенность, что напыщенностью, аффектацией Иргаш хотел произвести впечатление. Чем дальше, тем картина делалась запутаннее.
– Что решил отряд? – спросил Пантелеймон Кондратьевич.
Вдрогнув, Файзи поднял глаза. Он ждал продолжения, но Пантелеймон Кондратьевич предпочел остановиться и только вопросительно смотрел на собеседника.
Чуть слышно Файзи начал:
– Я знаю: большевик должен стоять как скала. На чистом лице больше-вика даже маленькое пятнышко – позор. Мой сын Иргаш – пятно, большое пятно. Мне партия доверила большое дело. Партия сделала меня начальни-ком отряда. Разве можно отцу продажного сына, быть начальником коммунистического отряда? Я больше не начальник. Я пришёл к тебе, брат, отдать своих людей, своих воинов.
Предложение Файзи застало Пантелеймона Кондратьевича врасплох.
– У нас народ рассказывает, – вдруг печально заметил Файзи, – жил лев, а у него был верный друг – собака. И лев стал непобедим, ибо собака охраняла его с тыла, когда он сражался. Собрались звери, и лиса сказала: «Скажем льву – собака хочет тебя загрызть и сесть на твоё место». Звери ответили: «Лев посмеётся и только». «Нет, – сказала лиса. – Лев сначала посмеётся, потом задумается, затем заподозрит и сожрёт собаку.» Так и случилось. Подозрение – жало змеи, но и своим жалом маленькая змея может убить слона!
«Он прав, – думал Пантелеймон Кондратьевич, – если действительно враги подослали Иргаша ко мне, чтобы посеять подозрение, они отлично справились со своей задачей. Вот я вижу перед собой честного человека. И почти не верю ему!».
– Нет, – сказал он в полном противоречии со своими мыслями, – никто вас, товарищ Файзи, не отстранит от командования. А что касается Иргаша, вы сами сказали, что он хороший вояка. Ну подумаешь, возил контрабанду из-за рубежа. На то вы и отец, чтобы присмотреть за сыном, повлиять на него.
Файзи обрадовался и бросился обнимать Пантелеймона Кондратьевича, бормоча:
– Друг... брат...
Он заспешил, заторопился:
– Я тогда поеду! Мне легче стало! Увы, хоть кость и осталась в ране, но... я сейчас же поеду.
– Вот, забыл, – сказал Файзи, возвращаясь от двери, – и положил на столик несколько писем.
– Что это? Ого, от самого Энвера? – спросил Пантелеймон Кондратьевич и быстро пробежал лежавшее сверху письмо.
Энвер призывал Файзи и его, как было сказано в письме, львов ислама повернуть оружие против нечестивых Советов. За что Энвер сулил бойцам отряда и самому Файзи золотые горы на этом свете и райские услады в потустороннем мире.
– Каждый день пишет, – усмехнулся Файзи, – писем больше, чем пуль! Плохо видно ему, если вместо меча взялся за перо.
– Ну, а вы? – невольно Пантелеймон Кондратьевич вспомнил слова Иргаша о письме Файзи к Энверу и покраснел.
– Мы, – вздохнул Файзи, – у нас в отряде писаря нет. Стрелять нам легче, чем писать. Ну, я ему письмецо одно написал, крепкое, ласковое... Наверное, и сейчас ещё плюется.
– Писать ему, пожалуй, и не стоило. Мало ли как он повернет самый факт переписки. Провокатор известный. Ну да чёрт с ним. Я вот что хотел сказать. На вас, Файзи, смотрит весь фронт. Не подпускайте, сколько можете, господина Энвера к Кабадиану. Стойте крепко. Учтите: ишан Музаффар недоволен Энвером и с ним не пойдёт. Значит, тыл у вас крепкий. Держитесь. Подмога на пароходе из Термеза, наверно, уже вышла. А я буду за границей смотреть, чтобы с той стороны не ударили.
Файзи обнял Пантелеймона Кондратьевича и выбежал из сакли. Голос его звучал громко и чисто:
– Друзья, садитесь на коней! Поехали. Мы сегодня же ударим на врага!
За ним вышел во двор Пантелеймон Кондратьевич. Он рассеянно поглядывал на файзиевских конников, подтягивавших подпруги, взнуздывавших коней. И вдруг лицо его просветлело. Он увидел Юнуса и открыл уже рот, чтобы окликнуть его, но остановился. Он стал свидетелем сцены, какие не забываются.
Весь Юнус был один порыв, одно движение: руки его протянуты, рот при-открыт, глаза горели... Пантелеймон Кондратьевич проследил этот взгляд, устремлённый на проходивших по двору женщин: молодую жизнерадостную блондинку Ольгу Алексеевну, несшую на руках ребенка, и рядом с ней Дильаром, ревниво державшуюся рукой за кончик одеяла, в которое была завернута её дочка.
Из горла Юнуса вырвался сдавленный возглас. Дильаром обернулась, и лицо её вспыхнуло. На какое-то мгновение она задержалась и смотрела на мужественное лицо Юнуса. Оно тоже медленно темнело от прилившей к коже горячей волны.
Но Дильаром вдруг накинула на голову камзол и с легким возгласом: «Господь всесильный, это он!» бросилась за Ольгой Алексеевной, и её гибкая фигура скрылась в чёрном провале двери.
Юнус так был ошеломлён встречей, что даже не удивился, когда Пантелеймон Кондратьевич обнял его.
– Это она, Дильаром. Небо и земля! Наконец я нашёл её. Как она здесь оказалась?
Когда Пантелеймон Кондратьевич рассказал все, что он знал о Дильаром, Юнус опустился на землю и обхватив голову руками, застонал:
– Меджнун не искал Лейли и нашёл, на беду себе, в пустыне. Нашёл и потерял. Горе моему сердцу! Я искал тебя по лицу земли, сердце моё звало тебя, и я нашёл тебя на берегах реки... Зачем? Чтоб разлука когтями вцепилась в моё сердце – сердце несчастного Меджнуна... О Дильаром, мечта души моей. И ты стала женой другого... Что делать? Что делать?
Горе свое Юнус проявлял так непосредственно, что Файзи долго не решался беспокоить его. Он стоял над сидевшим на земле другом и поглядывал то на его вздрагивающие плечи, то на Пантелеймона Кондратьевича.
Смущение и беспокойство овладели Пантелеймоном Кондратьевичем. С одной стороны, ему жалко было этого мужественного, сильного Юнуса, а с другой – надо было выпроводить как можно скорее с территории заставы Файзи, чтобы он не встретился с Иргашем.
Но Файзи всё же принудил Юнуса подняться и сесть на коня. Весь отряд ускакал в вечернюю степь, и необыкновенно длинные фантастические тени пролегли до самого горизонта.
Пантелеймон Кондратьевич уже разговаривал со стариками-кунградцами. Он недолго колебался:
– Хорошо, – сказал он, – я вам верю. Вы люди почтенные, бороды у вас белые. Советская власть уважит вашу просьбу. Забирайте ваших пастухов, забирайте ваши отары. Власть конфискует у бая баранов за то, что он хотел угнать их за границу. Советская власть дарит баранов вам, беднякам и батракам. Поделите стада и живите. Но если хоть один баран подойдёт к Аму-Дарье, не видать вам ваших отар как ушей своих. Идите!
Старики не уходили, они галдели и шумели.
– В чём дело? – закричал Пантелеймон Кондратьевич, – уходите, а то я передумаю.
– Господам, – сказал один из кунградцев. – За твою милость и беспокойство я хочу отблагодарить твоё превосходительство. Возьми пятьдесят баранов.
– Что-о?! Вы хотите мне дать взятку?! Убирайся, проваливай.
Пантелеймон Кондратьевич успокоился не раньше, чем старики скрылись за покрасневшими от лучей заходящего солнца домиками пограничной заставм.
С самым тягостным чувством Пантелеймон Кондратьевич смотрел на яркий закат, охвативший полнеба, на багровую, словно залитую свежей кровью саклю, на степь, за краем которой уже давно скрылись всадники Файзи и куда в облаках пыли медленно ползли отары кунградцев.
Он зашёл в мазанку к командиру, ведшему дознание. Тот сидел в одиночестве и перебеливал начисто протокол дознания.
– Ну, что?
– Чепуха. Ничего определенного,
– Где Иргаш?
– Я приказал каптенармусу накормить его.
Но Иргаша на кухне не оказалось. Он забрал жену, дочь и уехал так, что никто не заметил.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава семнадцатая. ВВЕРХ ПО РЕКЕ
Иссохли все древние источники
и не осталось влаги, кроме сиротских слёз.
Саади
Когда гнилое рвётся, прочное вытягивается.
Мансур
Они выползали из камышей и кустарников на четвереньках, влача ослабевшее тело на руках, падали в мокрый прибрежный песок, в колючую траву и выли: «Хлеба, Хлеба!». Тощие ноги-тростинки отказывались нести их, они не могли стоять, а только бились в прибрежной тине. Издали они походили на скелеты, выбравшиеся из могил. Они смотрели голодными глазами на каюк и слабым голосом кричали: «Хлеба, хлеба!»
Но добровольческий отряд сам не имел припасов.
Не осталось почти ни муки, ни риса, ни сухарей, а ехать по реке предстояло ещё не мало дней.
– Могильные призраки, – бормотал Файзи, – у них голод. Говорят, они едят падаль, едят даже мертвецов, вырывая их из могил, о аллах!
Он сам со своим исхудавшим, позеленевшим лицом сидел на носу каюка, похожий на приведение, и приступ малярии сотрясал в ознобе его тело. Солнце палило, но Файзи не становилось от этого теплее, он кутался в ватный халат, а перед глазами его ходили чёрные и багровые столбы. Он чувствовал себя всё хуже и хуже, а жёлтая гладь реки безжалостно сверкала и дышала холодным дыханием смерти.
– Хины, – бормотал доктор, – три порошка «Хини-ни муриатикум». Полжизни отдал бы за три порошка хины!
Но хинин в хурджуне Алаярбека Даниарбека кончился ещё в Кабадиане, а малярия выбирала среди бойцов отряда всё новые и новые жертвы. Тучи комаров поднимались из прибрежных камышей, и не было от них спасения. На каюке все болели малярией, но если «застарелые хроники», как называл Петр Иванович себя и Алаярбека Даниарбека, плюя на «собаку лихорадку», держались бодро, то большинство бойцов болело более или менее тяжело и поразительно аккуратно по очереди сваливалось в приступе. Впрочем, не болел Иргаш, сын Файзи. Его розовые щеки, налитые кровью губы и бодрый вид вызывали у всех животную зависть, хотя, конечно, Иргаш ни в чем перед товарищами по путешествию не провинился. Просто его несокрушимый организм не поддавался малярийным возбудителям, отличался иммунитетом, как говорил доктор.
– Надо спешить, – всё время напоминал Пётр Иванович, – в Курган-Тюбе мы найдем хинин, там есть хинин, целые горы. И он всех сразу же поставит на ноги. Терпите, малярия – чепуха, малярией болеет половина человечества.
Но он с большой тревогой поглядывал на Файзи и заставлял систематически принимать сердечные лекарства.
Доктора тревожило и другое. Запасы продовольствия на каюке уменьшались с катастрофической быстротой, причём только себя он мог винить в этом. Ишан кабадианский хорошо снабдил их на дорогу, но доктор в первые дни путешествия «отдал дань альтруизму», как он сам иронизировал. Значительная часть муки, масла и риса пошла умирающим от голода детям прибрежных селений, и сейчас отряд сидел на голодном пайке. Бойцы не протестовали открыто, но взгляды их, голодные и мрачные, говорили сами за себя. Алаярбек Даниарбек ехидно посмеивался:
– Чего же вам. Везёт вас кема – корабль. Лежите полёживаете. Лучше плохо ехать, да в арбе, чем бежать, да пешком. Утешайтесь! Зато воды, пейте сколько хотите! И какая вода! Из Вахта! А что такое Вахш? Начало Аму-Дарьи, а во всём мире издревле говорят: вода в Аму лучше, чем в Ниле!
Он и сам злился и на небо и на землю. Терпеть не мог все способы передвижения, кроме путешествия верхом, да и то обязательно на спине своего незаменимого Белка, а где теперь он – милый сердцу Белок, такой красивый, беленький, с такой замечательной, мягкой, успокаивающей душу ходой?
Не нравилось Алаярбеку Даниарбеку все это путешествие. Очень сиротливо, неуютно чувствуешь себя на открытой всем ветрам и взглядам палубе каюка, когда с черепашьей скоростью ползёшь мимо густых камышей. Он проклинал и Петра Ивановича, и самого себя за то, что сел на эту гнусную лодку. «Страх присущ осторожному, – твердил он себе, – какой из меня вояка! Не всё, что кругло – грецкий орех! Довольно. У тебя семья, дети, Алаярбек Даниарбек. Ты бросаешь камни не по своим силам!»
В промежутки между малярийными пароксизмами Файзи как начальник отряда с упорством маньяка твердил:
– Эх, доктор, разве можно! Добрый ты человек, но что станет с нашим делом? Понимаешь?
И Пётр Иванович понимал. Чувство вины перед товарищами побудило его совершить поступок, вовлекший его в приключения поистине опасные, но это случилось несколько позднее.
А сейчас тяжёлый каюк со скрипом и стоном полз, именно полз, по шоколадному, дышащему льдом и снегам Вахшу.
Здесь, в низовьях, эта бурная река, вырвавшись из гор, текла важно и срав-нительно спокойно среди степей и холмов. Местные вахшские речники обижались, что их неуклюжие ладьи Юнус называл каюками. Свои суда, в которых испокон веков плавали по Вахшу, они именовали кема, то есть корабль. Действительно, громоздкие лодки, грубо сшитые из тёмных, почти чёрных, досок, могущие вместить сразу по два десятка лошадей и множество народу и груза, больше походили на корабли. Сходство усиливалось, когда на таком кема поднимался огромный квадратный парус.
По берегам тянулась ярко-зеленая полоса камыша, серебристые шапки лоха, а дальше жёлтая степь поднималась плоскими ступенями к фиолетово-красным горам. Оттуда тянуло раскалённым воздухом, временами перемежавшимся холодными струями, освежавшими лица и вызывавшими приступы озноба у маляриков.
Вдали, в жёлтом мареве, маячили фигурки рабочих-бурлаков. Шагая по береговой тропинке, они тянули каюк. Канат шлепал по мутной воде. Бурлаки пели что-то однообразное и унылое, вроде: «Тянем, тянем... Тянем, тянем!». Солнце всходило, поднималось к зениту, грело всё сильнее и сильнее. Дула винтовок накалялись так, что к ним нельзя было прикоснуться. Наступал вечер, а люди всё шли и шли по берегу сквозь камыши, шагая по коричневой воде болот, по колючке, через высокие мысы. Тучами слетались комары. Местами, когда попадали на мелководье, все здоровые хватали шесты и, упираясь в галечное дно, толкали каюк. На мачте всё время сидел боец и смотрел на степь, горы, тугаи: не скачут ли воины ислама.
С наступлением темноты каюк подтаскивали к берегу, зажигали дымные костры, больных укладывали поближе к огню, чтоб им не повредила ночная сырость и не докучал особенно гнус. На свет из зарослей выбегали большие рыжие фаланги. Чавкали и сопели в камышах кабаны. Пётр Иванович не раз порывался пойти подстрелить секача, но каждый раз его останавливала мысль: «На выстрелы ещё кто-нибудь наскочит!» Он сидел у костра, смотрел на огонь. Сосало в пустом желудке, и оставалось только жалеть, сколько «отбивных котлет» гуляет по камышам, в то время как приходится подтягивать солдатский ремень на животе.
Почему-то на доктора напала бессонница. По-видимому, от последних событий, сдали железные докторские нервы. Опасность ходила рядом, повсюду. Каюк плыл по реке медленно, но что было там, за узенькой полоской берега, никто как следует не знал. Голодающие, выползавшие к реке, говорили о басмачах, о разорении, о голоде, но ничего больше сказать не могли или не умели. Вооружённые люди разъезжали по степи и горам, нападали на селения, угоняли скот, забирали хлеб. Кто-то передал слух, что в Курган-Тюбе – басмачи. Файзи и доктор долго советовались, что делать, и решили плыть дальше. Возвращаться было всё равно, что лезть в пасть тигру.
Ворочаясь на камышовом ложе сбоку на бок, злобно отбиваясь от комаров, Пётр Иванович всё думал. Мысли его вихрем проносились в мозгу и нет-нет возвращались к ишану кабадианскому.
Много людей встречал и видел на своем веку доктор, но Сеида Музаффара не понимал. В первые две встречи на Чёрной речке и в Павлиньем караван-сарае он показался ему обыкновенным дервишем, странствующим монахом, каких много. Теперь же, после всего случившегося два дня назад, доктор просто недоумевал.
Когда отряд Файзи после тяжелых боев с энверовцами, наконец, оказался в Кабадиане отрезанным от частей Красной Армии, Сеид Музаффар не проявил к добровольцам никакой враждебности. Но никто не мог сказать, что он чем-нибудь им помог. Ишан кабадианский не выходил из своего подворья и запретил своим людям даже разговаривать с добровольцами.
На второй или третий день ишан Музаффар прислал за доктором человека.
Войдя в михманхану, Петр Иванович сразу же тогда признал в ишане кабадианском «своего дервиша», как он мысленно выразился. Сеид Музаффар и виду не показал, что он знает доктора. Он жаловался на боли в ногах и попросил лекарства.
Когда доктор осматривал его, Сеид Музаффар вдруг вполголоса заметил:
– Аллах соединяет людей и разъединяет.
– Да, – заметил Пётр Иванович, – кто бы знал, что вы подниметесь на вершины благополучия.
– Благополучие земное – труха! – ответил ишан, – но ты хороший табиб и светлый ум. Сегодня придет к тебе некто Мурад. Требуй с него всё, что нужно для твоих людей.
– Это не мои люди. Наш начальник Файзи.
– Я не знаю Файзи. Я знаю тебя, доктор.
Мурад оказался очень расторопным и дельным человеком. Он обеспечил отряд всем необходимым. Он точно из-под земли раздобывал баранов, муку, овощи.
Каюк медленно плыл по реке, а на дне каюка лежал увесистый груз – винтовки и патроны. Судно трещало от четырёхсот пудов, борта его погрузились почти вровень с коричневой, холодной стремниной реки. На палубе день и ночь сидели бойцы отряда и всматривались воспаленными глазами в низкие скучные берега, как бы не выскочили откуда-нибудь головорезы-басмачи и не попытались бы отбить драгоценный груз, извлечённый из погребов ишанского подворья.
Три дня назад каюк отчалил от берега.
Три дня назад ишан кабадианский после ужина снова позвал к себе доктора, но на этот раз не одного. Он попросил прийти к нему начальника отряда Файзи. Пошли Файзи, Юнус, доктор. Принял их ишан Музаффар без свидетелей. Держался он высокомерно. Тонкие хрящеватые ноздри его шевелились, а пергаментная, просушенная солнцем кожа на лбу и в уголках глаз больше чем всегда морщинилась в мельчайшие складки. По обыкновению, ишан смотрел мимо лица собеседника, саркастически сжав губы:
– Наступил час, – проговорил он по своему обыкновению желчно, – вам надо уехать.
– Уехать? – удивился Файзи, – но я и мои люди должны оставаться здесь, в Кабадиане, чтобы не пустить сюда энверовцев.







