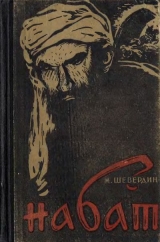
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц)
Стон прошел по кишлакам Горной страны, когда стало известно, что басмачи жгут мосты на горных реках. Проклятия посыпались на голову Энвербея. Титул зятя халифа в устах многих теперь звучал ругательством.
Но Энвербей уже меньше всего беспокоился о своей популярности. Вырвавшись в плодородные районы Бальджуана и Куляба, он приводил в порядок свою потрепанную армию.
Глава двенадцатая. ПРИЗНАНИЯ ЛЮБВИ
Дело юноши легче – он перелетная птица,
мчится из страны в страну.
Дело девушки хуже – она слаба и беспомощна.
Фазил Юлдаш
Увидел её и воскликнул: «Я сгорел!»
Хафиз
Тот не понимает цену благополучию, кто не испытал бедствия. И эту мудрую истину могла с успехом отнести на свой счет Жаннат. Правильнее было сказать, что она зазналась. Успех вскружил ей голову. Где бы она ни появлялась, где бы она ни агитировала, молодежь шла за ней. То ли она научилась в последнее время красноречиво говорить, то ли горцы и степняки её хорошо понимали, потому что она сама вышла из семьи простого угольщика, но зимняя её командировка от комсомола по кишлакам сопровождалась подлинным успехом. Её встречали с радостью, её слушали, открыв широко рты. Она несла в своих речах такое новое, такое потрясающее, что темная, невежественная жизнь горцев озарялась сиянием неведомых горизонтов. Жаннат с гордостью вписывала в заветную тетрадку новые и новые ячейки комсомола и по неопытности воображала, что за ней по всей стране уже поднимается волна молодёжного движения. Старики, духовенство, баи мало интересовались тогда деятельностью молодой женщины. Им было не до того. Что же касается главарей басмачества, то они просто еще не соблаговолили заметить Жаннат. Что-то говорит какая-то смутьянка, о чем-то болтает, хорошо бы взглянуть на неё, но и у них имелись дела поважнее.
Случай, когда Жаннат столкнулась лицом к лицу с самим Ибрагимбеком, испугал её, но мало чему научил. Она одержала такую неожиданную, такую лёгкую победу, что невольно возомнила о себе, о своих силах слишком много. Как говорится: «В доме щепотка муки, а на крыше две трубы». К тому же эта история окружила в глазах кишлачной молодежи её своенравную головку ореолом мудрости, хотя на самом деле здесь было больше молодого задора, опрометчивости, безумства, смелости.
С началом весенних военных действий в Восточной Бухаре почти повсюду партийные и комсомольские организации потеряли связь друг с другом и со своими работниками на местах, но Жаннат, забравшись в глухие дебри, бесстрашно продолжала агитировать юношей и девушек вступать в коммунистический Союз Молодежи. Её молодость, очарование, мужественная прямота помогали ей. Она легко шагала по жизни, и многих трудностей, с которыми столкнулся бы любой другой, она просто не замечала. «Красавице, чтобы побеждать, нет нужды в причёске и нарядах», – говорил восемьсот лет назад Саади, и ошеломленная её глазами «цвета ночи», молодежь проникалась подлинно высокими поэтическими чувствами, окружая её почти языческим, полным восторга поклонением, охраняла её и единодушно оберегала от всяких неприятностей и бед, подстерегавших в те времена юную беззащитную женщину в превратившейся в бурлящий котел стране. Сама Жаннат успех своей агитационной работы относила только за счёт своих агитаторских и ораторских способностей и безжалостно отвергала малейшие проявления внимания к своей красоте. Она с искренним возмущением рвала и жгла многочисленные газели и рубай, вроде «Луна не так блестит, как твои щеки» или «О ты, с телосложением розы», слагавшиеся в её честь юными и не очень юными поклонниками. Можно сказать, что её появление вызывало жажду сочинять стихи даже в таких селениях, куда грамота и не заглядывала, и где от Ноева потопа не складывалось и двух рифмованных строк. И надо отдать должное: негодующий блеск глаз, беспощадный излом бровей, строгость в одежде и обращении воздействовали на молодежь и стариков с не меньшей силой, чем неотразимое очарование внешности. В период боевых операций на Тупаланге и Кафирнигане Жаннат оказалась в самой гуще отступающих энверовских банд. Она не успела прийти в себя, как бешеный вихрь завертел её и помчал точно пушинку в непогоду. Она нашла было надёжное, как ей казалось, убежище в Курусае, но неугомонный её характер, ненависть к притеснителям заставили её броситься в самый огонь. В ночь налёта касымбековской банды Жаннат не смогла усидеть на месте, когда услышала вопли женщин, плач детей, хотя и не отдавала отчет, что происходит и чем можно помочь. Она не успела даже поднять юношей Курусая, которые, быть может, пошли бы за ней, по её призыву, так как они знали её как победительницу самого Ибрагимбека. Но беда обрушилась на Курусай столь неожиданно, налёт Касымбека продолжался так недолго, что пастухи и дехкане вообще не успели ничего толком сообразить. Призывы Жаннат потонули в воплях избиваемых, в детском плаче, мычании коров, треске факелов. Но Жаннат кинулась на гарцевавшего сотника Камила-Юзбаши, одного из вожаков банды, и попыталась стащить его с седла. Только тут Камил разглядел в этой простоволосой, разъярённой ведьме неземную красавицу и, не теряясь, ухватил её за растрепавшиеся косы и втащил к себе на седло. Он счёл её законной добычей и попытался увезти, пользуясь тьмой, смятением, воплями. Но он не учёл, с кем имеет дело. Жаннат отчаянно отбивалась. Он сделал ей больно. В ярости молодая женщина вытащила у Камила нож и...
Потрясенная всеми событиями, больная от перенесённых побоев, Жаннат много дней металась в жару. Болезнь затянулась, и Касымбек решил во что бы то ни стало доставить красавицу в безопасное место. Повсюду двигались упорно на восток разъезды красных, стычки и перестрелки происходили ежечасно. Больной Жаннат не давали ни минуты покоя. То её везли на арбе, то оставляли в кишлаке на попечение женщин, то заставляли ехать всю ночь напролёт верхом, чтобы снова на рассвете укрыть в какой-нибудь пастушьей хижине или шалаше рыбака. Касымбек передал Жаннат на попечение Фариды, своей пожилой двоюродной сестры, которая своими широкими плечами, растительностью на верхней губе и подбородке и густым низким голосом более походила на мужлана-скотовода, нежели на женщину. Впоследствии Жаннат смутно вспоминала жаp и холод, мучительную усталость и боль в суставах, муки жажды и голода их бесконечных скитаний. И всё время перед ней стояла добродушная, украшенная настоящими усами физиономия Фариды, и звучали её угрозы: «Тебя, потаскушка, растерзать в клочки надо. За что братца Камила погубила, ведьма? Своими руками сердце тебе вырвала бы, да Касым с ума сошёл! Видишь ли, любовь у него к убийце брата родного! Ах ты, сучка! Жениться на тебе хочет».
И даже сквозь болезненный туман, окутывавший её сознание Жаннат вспоминала не раз возникавшие перед ней исажённые, обезображенные черты Касымбека, более похожие на отталкивающую маску, и обоняние её ловило запах тления и гноя. Сердце ее сжималось, и она желала умереть.
А Фарида всё говорила:
– Правда и ложь, красота и безобразие, где начнется одно и где кончается другое? Он сошёл с ума, братец мой Касым. Он, который может иметь любую красавицу; он, который может купить самую богатую и знатную невес-ту, и вот он говорит о любви к какой-то бродяжке, подобранной на дороге, к злой джинье, зарезавшей его брата Камила. Или ты на самом деле джинья? Не пойму, что с ним!
Полуразложившийся труп Камила-курбаши по приказу Касымбека завернули в кошму, положили туда написанные на бумаге молитвы и отправили на верблюде на родину.
– А сам Касымбек, – причитала Фарида, – сидит и вздыхает по убийце своего брата. Что же это творится в мире! Вместо того, чтобы переспать с тобой разок и выкинуть на растерзание собакам, братец ошалел. «Нет такой красавицы в мире», – бормочет он и читает стихи Машраба и Фузули о любви. Приказывает лелеять и выхаживать её точно царскую дочь. Сам сидит и стонет подобно Меджнуну по этой сухопарой, тощей, чёрной, когда может получить, хоть и больной, любую розовотелую, жирную, белолицую. Поистине околдовала его эта цыганка. Уж я-то сама женщина и знаю, что природа наша у всех нас одинакова. Горе мне. Воткнула бы я этой колдунье в брюхо ножик, да как бы братец мой не зачах, не заболел бы от горя, больно уж он, бедняга, несчастный.
Не отличалась Фарида молчаливостью, говорила, молола языком непрерывно, и по словам, доходившим в минуты прояснения сознания, Жаннат узнала про Касымбека не только все обстоятельства его жизни, но даже такие подробности, о каких никому не надлежало знать.
По словам Фариды, шесть-семь лет назад не было во всем Кухистане более ловкого, красивого, не говоря уж о богатстве, джигита, нежели Касымбек. Происходил он из старинного рода, владевшего неисчислимыми стадами овец и бескрайними полями пшеницы по берегам рек Таир-су и Кзыл-су. И дед и отец Касымбека – кызылсуйские арбобы – никогда не служили бекам, хакимам и ханам. Они считали себя слишком гордыми, чтобы пресмыкаться даже перед самим эмиром. Но, хоть и не состояли они на государственной службе, их все боялись. Имели они всегда у себя вооруженных слуг и нукеров и не стерпели бы обиду ни от бека, ни от господа бога, как говаривал дед Касымбека. А чёрную кость и вообще они за людей не считали.
Ещё Касымбек не стал басмачом, в полном смысле этого слова, ещё он жил, так сказать, в любимых сынках своего папеньки-арбоба, но уже молодого джигита побаивались изрядно в бальджуанских и гиссарских кишлаках. Поговаривали разное, но ничего определенного, ничего точного.
Говорят в народе: «Сын бедного бездельничает сам по себе, сын бая бездельничает в складчину». Как и в большинстве гиссарскнх кишлаков в центре Регара на так называемом гузаре стояла чайхана Кривого, место сборища всех регарцев, особенно в вечернее время.
Завсегдатай чайханы Касым, сын кзылсуйского арбоба больше всего любил перепелиные бои и кости. Он заходил всегда в чайхану с гордо поднятой головой, широко распахнув и летом и зимой халат на голой до пупа груди и лихо сдвинув лисью шапку на затылок. Небрежно поздоровавшись с присутствующими, он направлялся в свой угол, где друзья и приятели уже ожидали его, стоя с почтительно прижатыми к животу ладонями, прячущимися в длинные рукава халатов.
Почёт и лесть Касым воспринимал как должное, он впитывал в себя знаки уважения и делался оживленным, весёлым и порой даже наглым. Оборвать человека на полслове он умел, высмеять, поиздеваться, унизить, втоптать в грязь. Да и носил он на поясе очень внушительных размеров нож уратюбинской стали в кожаных с красивым тиснением ножнах с кисточкой из обрезков казанской кожи. Впрочем, и халат, и лаковые сапожки, и конь у Касыма были получше, чем у остальных кишлачных юношей.
Но за невинными чайханными забавами Касыма, за его надоедливым, но безобидным лихачеством, как поговаривали в кишлаке, скрывалось кое-что посерьезнее, кое-что похуже. Когда нашли на отмели горной речки Регар поруганное, растерзанное тело шестнадцатилетней Салимы, дочери дехканской вдовы Насихотой, пошёл слух о каких-то «чёрных джигитах». Вскоре исчезла ещё одна местная красавица. Поговаривали, что держат её те же «чёрные джигиты» в горной хижине себе для развлечения. Брат девушки пошёл искать её в горы, и вскоре парня нашли с горлом, перерезанным от уха до уха на бережку холодного ключа. Видел регарский пастух в тот день около ключа касымовского коня и рассказал об этом в чайхане. А назавтра на отару, которую пас тот чабан, напали разбойники, угнали десятка два баранов и увели пастуха. Так и сгинул он, и никто ничего о нём больше не слышал. Шептались в кишлаке, что о девушке, о пастухе и баранах мог бы немало порассказать Касым и кое-кто из его друзей. Приезжал стражник из самого бекского дворца, но только посидел в чайхане, попил чайку, плотно подзакусил и уехал восвояси.
Строго обстояли в те времена дела с вопросами мусульманской морали, беспощадно избивали камнями пойманных на месте преступления любовников, а прелюбодеев отдавали на растерзание родственникам обманутого мужа. Но это не мешало Касыму почти открыто совращать с пути истинного регарских девушек и заводить любовниц из замужних на глазах мужей.
На двадцать пятом году жизни Касым не то что остепенился, но как-то притих, стал реже появляться на улицах, глубже надвигал на голову свою меховую шапку, перебрался в еще более глубокий уголок чайханы. Стали замечать, что лицо арбобова сына пухнет, волосы на густой бороде и усах редеют, голос меняется. Но всё также из кучки джигитов, среди которых он сидел, доносился пьяный хохот, вопли, стук костяшек...
Время шло. Мало что менялось в селении Регар, но лицо Касыма менялось на глазах. Красивый, чернобородый джигит стал неузнаваемым. Опух, обрюзг, облез.
По кишлаку поползли разговорчики, но ещё очень робкие, неувренные.
Однажды вечером в регарской чайхане остановились приезжие из Бухары не то купцы, не то чиновники, благообразные, с белыми чалмами на головах, с круглыми бородами. Они не знали местных порядков и поздоровались со всеми, не выделяя особо Касыма и его компанию. Они сидели на паласе, попивали спокойно чай, поджидая, когда им подадут плов, запах которого приятно щекотал ноздри. Старший из бухарцев почтенный сорокалетний толстяк, удобно подложив под свою спину туго набитый хурджун, много шутил, вызывая взрывы смеха у своих спутников. Но чайханные завсегдатаи из регарцев сидели молчаливые, сумрачные, Они чего-то тревожно выжидали.
Тогда от касымовской группы отделился парень и, подойдя к бухарцу, сказал с нагловатой усмешкой:
– Добро пожаловать, господин хороший, но не сочтете ли вы трудным для своих нежных ножек протопать вон туда, – и он показал в угол, где сидел Касым и его друзья, – и поприветствовать нашего уважаемого Касыма. Долг вежливости всё-таки... – Он хихикнул и пошёл, покачивая шутовски бёдрами. В чайхане все вдруг замолкли.
– Это вон того приветствовать? – не меняя позы, сказал бухарец. – Вон того губошлепа, у которого борода вся повылезла?
И он принялся с независимым видом допивать чай.
Стало так тихо, что шаги Касыма по мягким кошмам громко шуршали, когда он неторопливо встал и направился к группе приезжих. Он остановился позади бухарца и вкрадчиво сказал:
– Посмотри на меня.
Нехотя бухарец повернул голову и поднял глаза.
– Кто тебе дал право говорить «ты» старшему, олух ты невоспитанный?! О, – прервал он сам себя, вглядываясь в лицо Касыма и, обращаясь ко всей чайхане, – да он прокажённый... – Уже не смотря на Касыма, он закричал: – Как вы можете сидеть здесь с прокаженным, разве...
Он не смог договорить. Последнее слово его оборвалось ужасным хрипением. Касым спокойно вынул свой длинный нож уратюбинской стали. Попробовал его острие пальцем и затем одним ударом сзади перерезал горло бухарцу.
Не торопясь он отделил ему голову от туловища и положил рядом с корчащимся в конвульсиях телом, залитым кровью, тщательно вытер чалмой убитого свой нож и, вложив в ножны, неторопливо вернулся к своим.
– Налей-ка мне чаю, – обратился он к кому-то из приятелей.
Он даже не посмотрел в сторону окаменевших приезжих, дико уставившихся на всё ещё вздрагивающий труп только что жизнерадостно шутившего и разговаривавшего спутника. Касым пил медленными глотками чай. Затем что-то сказал своим и пошёл к выходу. Проходя мимо убитого, он ногой перевернул круглую мёртвую голову, подтолкнул к обезглавленному туловищу и ушёл. За ним удалились спокойные, невозмутимые его приятели.
Приезжие бухарцы только теперь подняли вопли и крики. Они метались по чайхане, призывали посетителей в свидетели, требовали правосудия.
Убитого завернули в чалму, как в саван, и закопали на местном регарском кладбище. Бухарцы уехали в Гиссар искать правосудия, а Касым по-прежне-му каждый вечер заседал со своими друзьями-приятелями в тёмном уголке чайханы. Но всё ниже надвигал он меховую шапку на лоб до самых бровей, становился всё мрачнее и раздражительнее.
Но в разговорах между собой регарцы, произнося имя Касыма, тихо, шёпотом, отныне добавляли махау – прокажённый...
Слушая в горячечном бреду рассказы мужеподобной Фариды, Жаннат переживала их в кошмарах, точно наяву
Из мрака затуманенного сознания возникали образы и картины недавнего детства. Снова она видела дворик с единственным деревом тутовника, вечно старую, согбенную мать Раиму, хлопочащую у тандыра, охающего и кряхтящего отца Хакберды...
Снова переживала она чёрный день, оставивший горечь во рту на всю жизнь. Беда переступила порог хижины в образе изысканно вежливого, любезного зякетчи. Oн никогда не повышал голоса, не сквернословил, не пускал в ход камчу, как поступали зякетчи на всем пространстве благословенного Бухарского государства. Зякетчи всегда вежливо приветствовал хозяев дома. Он скромно потуплял глаза, если в помещении оказывались женщины или взрослые девушки, и просил очень вежливо: «Оставьте нас. Здесь мужской разговор». Но боялись его все не меньше чем любого другого налогосборщика, потому что непреклонностью своей с ним никто не мог сравниться. Он ни когда не выказывал своего превосходства и сидел одинаково важно и на дорогом текинском ковре во дворц бека и на растрепанной циновке бедняка. Он всегда любезно отведывал угощение, даже грубое, изготовленное на чёрном кунжутном масле. Он не раздражался, услышав что хозяин опять не в состоя-нии уплатить. Наоборот, oн вздыхал, выражал сочувствие, но, едва вытирал после трапезы руки о дастархан, давал знак всегда сопровождагшим его двум стражникам, и тут и сам хозяин, и его жена могли проливать слезы, охать, стонать, сколько им угодно. Всё, что только представляло ценность в доме из утвари или одежды, забиралось, сундуки вытряхивались, лари взламывались, припрятанные деньги мгновенно отыскивались. Зякетчи только сидел, посматривая и вздыхая. Но сегодня в доме Хакберды ничего не нашли стражники. Взглянув ещё раз на двор, где Жаннат стояла с матерью и горестно взирала на грубых, хамоватых стражников, рывшихся в нищенском имуществе, зякетчи вежливо обратился к Хакберды:
– Увы, вы говорите, что у вас ничего не осталось. Что ж, такова воля аллаха. Но зякет от бога, и надо платить. Примите совет, если угодно, сахар вам в рот. Если бек узнает про вас, разгневается, и тогда вам не миновать палок и ямы с клещами, что кусаются больнее палок. Но вы неправду говорите, что обнищали вконец. У вас есть ценность и большая...
– Что вы имеете в виду, господин зякетчи? – трясясь и вздрагивая, пробормотал Хакберды. – Уж не смеетесь ли надо мной? Вы так обложили мои три танапа сада, как тридцать три.
– Ценность, которая стоит налогов за пять лет, – вон та стройная, изящ-ненькая девственница. Если не ошибаюсь, она ваша дочь.
– Ч... что вы хотите сказать?
– Я беру у вас вашу прелестную дочь и отвезу к господину беку. А он скостит ваши прошлые недоимки да ещё освободит вас от налогов на пять, ну, скажем, на шесть лет.
– Н... но, но... девчонке только семь лет исполнилось...
– Тем лучше. Что же касается трёх и тридцати трёх танапов, то, в случае, если вы согласитесь с моим предложением, мы проверим и установим справедливость... Гм... мне кажется, что, действительно, ваш садик не похож тридцать три танапа...
– Но Жаннат слишком мала.
– Поймите, здесь ваша дочка недоедает, недосыпает, весь день в тяжёлой работе, а там – ковры, шёлковые одеяла, золотая роспись... Рай. Там её с её красотой счастье. Сахар и леденцы, персидский сладчайший шербет, мёд пчелиный и виноградный бекмес, фисташки и изюм, коровье масло и благовония, зеркала и платья из хан-атласа, соглашайтесь...
– О господи, а вы дадите и мне малую толику денег?
– Да, по рукам.
Зякетчи и Хакберды тогда сделку заключили, Жаннат только радовалась. Разговор о коврах и леденцах заинтересовал её. Лишь позже она поняла, какая участь ожидала её...
К счастью, с зякетчи что-то приключилось: не то он заболел, не то его убили разбойники, но Хакберды получил передышку. А Жаннат продали позже...
Продали... Да, девушек, девочек, женщин продают... Их не спрашивают. Их мнение никого не интересует. Они рабыни...
И она рабыня...
Хочет этот Касымбек её убить – убьёт, захочет сделать женой – сделает.
Женой прокажённого!.. Она молодая, красивая – жена прокажённого!
И Жаннат билась и кричала в безумном страхе, умоляя дать ей нож.
– Не кричи! Какое тебе дело, больной он или здоровый. Пусть муж – раб, лишь бы у жены уши в сале были, – ворчала Фарида, – он берёт тебя, непутёвую, в жены. Он хочет возвысить тебя до себя. А ты ещё привередни-чаешь. И какой дурак выдумал, что мой брат – махау – прокажённый. Я плюну в глаза каждому, кто так посмеет сказать.
И, распалившись, Фарида кричала:
– Лучшие табибы в мире лечат моего брата, и никто не говорит, что он болен проказой. Просто он нездоров, просто у него застой крови. И с чего бы к нему прикинулась эта проказа? Разве у богатых бывает проказа? Он ест нежнейшую баранину. Плов ему готовит повар, каким не мог похвастаться даже ак-падишах – белый царь. На хлеб в доме братца идёт только тончайшая и нежнейшая мука из лучшей в мире пшеницы «кабаи». Лепёшки На молоке и масле ему печёт хлебопек самого эмира бухарского. А утром я пою его ширчаем с самым свежим сливочным маслом из лучшего коровьего молока, с высшим сортом зеленого чая, с перцем черным из Бирмы. Виноград моему Касыму везут из Ура-Тюбе за тридцать ташей через ледяные перевалы, а мёд он получает из далёкого Джетты-су. Братцу Касыму выращивают сладчайшие и ароматические дыни несравненного вкуса. Лук мы получаем из Намангана, перец и пряности – из Индостана. Колбасу-«казы» в нашем доме изготовляют из мяса трёхлетних коней, взращенных на душистых пастбищах Алая. Рис я покупаю самых лучших самаркандских сортов. Кумыс брат мой пьёт от кобылиц своих табунов, каких не имеют богатейшие баи казахской степи, фазанов с мясом, вкусным и пахучим, стреляют нам лучшие бальджу-анские мергены. Если Касым захочет варёного, ему парят барана целиком на пару. Ему привозят с юга фисташки и кокосовые орехи, плоды, названия которых не знает даже всеведующий гиссарский муфтий, кичащийся своей образованностью. На обед брату подают и жареных перепелов, и шурпу из рябчиков, и шашлык из шестимесячного барашка, и шашлык по-самаркандски, и по-кавказски, и по-индийски. Но, увы, пища не идет ему на пользу. Тело его подвержено изнуряющему недугу, как будто он жрёт, подобно презренным дехканам, коровий навоз... Тьфу, заболталась я тут с тобой... глупостей наговорила. Прижечь бы мне язык. Но ты слышишь, неблагодарная, как живёт мой брат?! И ты, когда, не дай бог, женой его станешь, тоже так будешь есть... Недостойна только ты... А нам, женщинам, надо терпеть. Имей терпение, и ты из кислого винограда сделаешь сладкую халву.
И она снова пускалась в длиннейшие разглагольствования, хотя только что грозилась подвергнуть свой язык столь болезненной операции...
После долгих дней болезни Жаннат почувствовала себя лучше. К этому времени она оказалась в горах, в саду какого-то Алакула Хакима, на большой шумной реке... Алакул Хаким, дядя Касымбека, владел несметными богат-ствами. Чистый воздух, аромат созревающих плодов, синие горы, толпящиеся по бокам долины, быстро вливали силы в измученное тело молодой женщины. Она выздоравливала. К ней вернулся аппетит. Она заметно поправля-лась.
В Жаннат пробудился интерес к жизни. Она бродила по саду, завела друж-бу с забавными козлятами и вместе с ними забиралась по корявому стволу двухсотлетнего шахтута – царской шелковицы – столь огромного, что к нему вполне подходила пословица: «Одно дерево – целый сад!» На этом дереве зрели крупные красные, почти черные ягоды непередаваемо приятного вкуса. Жаннат ела тут и любовалась видом на величественную реку, мчавшую свои воды под горой, на которой стоял дом Алакула. Она узнала вскоре, что река называется Вахшем или по-другому – Сурхобом, а кишлак носит название Шир-уз и принадлежит Алакулу. Заглядывала Жаннат и во двор, и во дворовые помещения. Острый язычок её отдохнул за время болезни, и она жаждала разговоров и бесед. Не осталось вскоре ни одного из представителей бесчисленных чад и домочадцев престарелого Алакула, с которым бы Жаннат не поговорила. Она умела рассказывать просто и задушевно, и вскоре вся дворня знала и о Советской власти, и о великом Ленине, и о Красной Армии – друге трудящихся, – и об Октябрьской революции. Дело дошло до того, что алакуловские батраки, и в особенности здоровый широкоплечий Шукур, стали каждый день спрашивать у Жаннат: «А Ленин скоро придёт?» Не оставила в покое неугомонная Жаннат и Фариду. Вместо того, чтобы слу-шать её бесконечные назидания и рассказы о братце её Касымбеке, Жаннат принялась её агитировать и небезуспешно. Пожилой, не видавшей жизни, проданной в ичкари с малолетства женщине вдруг открылись такие просторы жизни, что она сидела ошалевшая, округлившая глаза и непрерывно восклицала: «Оббо!», «Тауба!», «Да охранят нас, бедных женщин, чильтаны!»
Но тут же она спохватывалась:
– Ну, ну, хватит болтать! Ты мне совсем голову заморочила. Ты думаешь, чем жирнее воображаемый плов, тем лучше?! Ну нет, твоими сырыми мечтами меня не накормишь. Помалкивай уж лучше.
Но вскоре роли переменились. Из наставницы и проповедницы добронравная Фарида превратилась в покорную, перепуганную, но любознательную ученицу. Она покачивала головой: «От всякого, кто в детстве был плохо воспитан, с возрастом счастье уходит. И подумать только, если бы не ты, доченька, я так и воображала бы, что мы, женщины, рождены рабынями, живём рабынями и умираем рабынями!»
Бегая по двору вперегонки со своими козлятами, Жаннат заскочила как-то на большой двор. Здесь её внимание привлекла шумная возня. Дряхлый старик (Фарида сказала ей, что это сам Алакул) ругался и бранился с бедно одетыми дехканами. На земле валялись гупсары – козьи и бараньи шкуры. Из разговора выяснилось, что, по приказу Энвербея, гупсары у прибрежных жителей отбираются, чтоб никто не мог переплывать на другую сторону реки. Жар почувствовала в груди Жаннат, когда поняла, что за Вахшем находится Красная Армия. Молодая женщина часами сидела теперь у пролома в дувале и до боли в глазах разглядывала скалы и рощи по ту сторону реки, надеясь увидеть родные островерхие буденовки.
И вдруг Фарида сказала такую вещь, oт которой Жаннат чуть не стало опять плохо:
– Мой брат Касым сказал: «Попроси разрешения у Жаннат зайти к ней». Эх, что ты сделала с ним, девчонка, если он просит тебя, когда может приказывать?!
В страхе Жаннат заплакала. Но что она могла сказать?
Касымбек пришёл. Он держался поодаль, робко, как влюблённый. Он закрывал лицо шапкой. Он бормотал:
– Не смотри на меня, красавица, умоляю... Я пришёл только взглянуть на тебя. Я пришёл только выслушать твои желания.
Жаннат молчала.
– Душа моя, – чуть не рыдал Касымбек, – я в глазах твоих вижу страх. Не бойся. Клянусь, я не подойду к тебе, пока не стану здоров. Я не прикоснусь к тебе, не прикоснусь к твоему серебряному стану, пока болезнь не покинет меня. О любимая, мне знаменитый табиб сказал: «Ты будешь здоров и опять красив!»
Действительно, Касыма лечил какой-то великий табиб, вывезенный из далёкого Тибета. Ему все верили, хотя он был и проклятым язычником из монастыря Нималунга с священной горы Алина-Нангри. Мудрость мира пряталась в его узеньких глазах-щелочках. Он знал всё! Со снисходительным презрением он отверг все лекарственные снадобья, применявшиеся гиссарскими, самаркандскими и даже мешходскими табибами, фальбинами и прочими лекарями. «Ваша болезнь, – сказал табиб, – считается неизлечимой!» «А вы что скажете, вы?» – встревожился Касымбек. «Нет неизлечимых болезней!» – опустив глаза, проговорил тибетец, и тонкая улыбка тронула его тонкие губы. Безусое и безбровое лицо аскета и подвижника осталось бесстрастным. Таким же бесстрастным, непроницаемым оставалось оно и в дальнейшем. Тибетец осмотрел язвы и болячки Касымбека, он ни разу не поморщился, даже когда тяжелый запах душил его. Он только заметил: «Болезнь запущена и потребует многих лекарств». «Я выздоровлю?!» – вскричал Касымбек. «Сосредоточь свои мысли на излечении и повинуйся мне!» Табиб потребовал золота. Не в качестве платы за лечение, нет. Золотые монеты он растирал в порошок и мешал с размолотыми драгоценными камнями и со многими снадобьями. Он привез с собой сорок лекарственных веществ Запада и Востока, Хабашистана и далёкой Японии. Целыми ночами напролёт тибетец что-то варил, жёг, мешал. Он ходил по степи и собирал травы. За некоторыми редкими специями и пряностями он гонял джигитов в Иран, в далекий Буджнурд, в древнейший центр индийской медицины – Кумбаканам и даже загадочную Лхассу. Редчайшие снадобья, кроме своей таинственности, обладали ещё другим свойством: они все были на вес золота. И золото из кармана кзылсуйского арбоба при содействии тибетца текло ручьем. И нельзя сказать, что он оказался шарлатаном и обманщиком. С неистовой радостью Касымбек ощутил прилив сил. Он ещё не выздоровел. Более того, не наблюдалось никаких признаков, что лечение остановило разрушения, производимые болезнью в теле, но чувствовал себя Касымбек гораздо лучше. А когда тибетец принялся делать китайские уколы и прижигания, продолжая пичкать больного разными пилюлями своего собственного изготовления, Касымбек начал вставать с постели и даже, хоть и изредка, выезжать верхом. Лицо его утратило свою одутловатость, пальцы заживали, почти исчезли ревматические боли. Перемены происходили столь разительные, что Касымбек как-то решился заглянуть в зеркало, и хоть на него глянула безбровая, искажённая маска, он уловил в ней черты прежнего красавца, каким был ещё лет пять-шесть назад. Вполне естественно, что когда тибетец потребовал сто червонцев, чтобы послать за какой-то чулмугуровой травой в Каракорум, Касымбек немедленно раздобыл золото, хоть и стоило ему это огромных трудов.
Чувствуя себя поздоровевшим, Касымбек ликовал. Ему не терпелось похвастаться своими успехами, и он всё чаще появлялся в саду у Жаннат. Она и не пыталась скрывать отвращение, но он не унывал. Он стоял обычно у калитки и говорил, обращаясь к Фариде:







