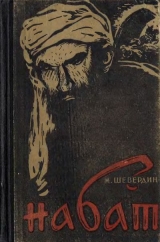
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 46 страниц)
Глава девятнадцатая. ВРАЧЕБНЫЕ СОВЕТЫ
Смотри, не считай дородства достоинством.
Саади
С этими невежами, полагающими со своей
глупости, что они свет мудрости, будь ослом,
ибо они от изобилия ословства всякого,
кто не осёл, называют неверным.
Абу Али ибн-Сина
Сопя и пыхтя, Ибратимбек обошёл стоящего посреди комнаты пленника. При всей трагичности своего положения доктор нашел в себе силы усмехнуться. Усмешка получилась жалкая, почти незаметная, но Ибрагимбек её заметил и изумился:
– Ты смеёшься?
Насколько позволяли туго стягивавшие веревки, доктор пожал плечами.
– Чего ты смеёшься? – грозно заворчал Ибрагимбек, всё ещё топчась вокруг, и устрашающе засопел ещё громче.
– Нюхаешь? – сказал по-узбекски доктор. – Похоже, как собака нюхаешь.
– А! – заорал Ибрагимбек и замахнулся, но тут же опустил руку, потому что доктор даже не откинул голову, не попытался уклониться от удара, продолжая усмехаться.
– Гм-гм, – пробормотал Ибрагимбек, – не боишься, значит? Этого того... Я тебя могу... по кусочкам... этого того... и не боишься?..
Помотав головой, доктор показал, что не боится.
– Ты урус-табиб? – посопев ещё, спросил Ибрагимбек и, наклонившись, ткнул мясистым пальцем-обрубком доктору в грудь.
Так как пленник по-прежнему молчал, Ибрагимбек повторил вопрос. Не дождавшись ответа, он снова замахнулся, но лениво поглядел с удивлением на свой кулак, на равнодушное лицо доктора с чуть ходящими под скулами желваками и, перестав топтаться, вышел во двор.
Он долго, кряхтя и сопя, совершал омовение. Сняв осторожно с головы чалму и положив её рядом с собой, пробормотал с важностью: «Во имя аллаха милостивого, милосердного», – присел на корточки, троекратно вымыл правую руку, затем, громко вздохнув, левую. После этого он долго ополаскивал обе руки. Наконец он плеснул ладонью немного мутной тёплой водицы прямо в открытый рот и принялся полоскать его, урча и журча. Громко выплюнув воду в сторону, он скосил глаза и, убедившись, что проклятый кяфир стоит посреди комнаты, всё так же не двигаясь с места, снова зачерпнул воды и втянул её ноздрями в нос, начал чмыкать и сопеть. Движения его стали совсем медлительными, когда он принялся мыть лицо и вновь руки, теперь уже до локтей. На это ушло немало времени, потому что он повторил омовение три раза, в полном соответствии с установленным ритуалом. Сняв тюбетейку, он смочил покрытую отросшей щетиной голову и, расчесывая пальцами бороду, снова искоса бросил взгляд на пленника, надеясь увидеть на его лице страдание от пытки ожидания, но, ничего не обнаружив, вздохнул с сожалением, почистил, всё так же не торопясь, уши, омочил шею, а затем стал тщательно трижды мыть ноги до щиколоток, сначала правую, потом левую. Наконец он вытер осторожно руки и лицо, расправил платок и повесил на колышек в дувале. Только тогда он приступил к намазу. Уже встав в молитвенную позу, он бросил, словно невзначай:
– Когда прирежу тебя, проклятый кяфир, осквернюсь я, о господи, придётся опять трудиться, совершая омовение.
Пётр Иванович промолчал. В состоянии полного отупения он не мог поймать в мозгу ни одной связной мысли. Это бывает, когда человек переволнуется до того, что ему уже все безразлично, даже смерть.
Ибрагим кончил намаз, вернулся в комнату и уселся ка кровать.
Закрыв глаза, Пётр Иванович не подавал признаков жизни.
– Эй, Кривой, иди сюда, – вдруг заорал Ибрагимбек.
Вбежал нукер с бельмом на глазу. Он переломился в пояснице так, что чуть не коснулся лбом паласа.
– Этого-того, – отдуваясь, как после больших трудов, приказал Ибрагимбек, – где мой сундук?
Не разгибаясь, Кривой вытащил из-под кровати кожаный яхтан, какие грузят обычно на верблюдов.
– Открой!.. Вынимай! – приказал Ибрагимбек.
– Эк его разбирает, что он ещё выдумал, азиат несчастный, – зло думал доктор.
От туго стянутых верёвок всё тело невыносимо болело, во рту пересохло, мучили жажда, голод.
Ибрагимбек занялся, по меньшей мере, странным делом. Кривой стал вытаскивать из яхтана один за другим халаты: суконные – синие и голубые, на вате и на меху, шёлковые, полосатые, самых немыслимых расцветок: зелено-розовые, пурпурно-жёлтые, красные, ядовито-сиреневые. Поразительно много халатов вмещал небольшой, но уёмистый яхтан.
Утишив судорожное биение сердца и всячески стараясь изобразить на лице невозмутимость, доктор исподтишка озирал комнату. «Очевидно, здесь главный аппартамент всемогущего Ибрагимбека, – думал он и поразился способности человека даже в смертельной опасности проявлять любопытство. – Комнатёнка неважная... Сыро, темно, грязновато, не слишком удобно. Комфорта никакого, если не считать кровати, обыкновеннейшей кровати с прозаическими никелированными шишечками. Наверно, в кровати даже и не панцирная сетка. Одеял много, но все изрядно потрёпанные, затрапезные, а вместо подушек – валики-ястуки. Впрочем для такой дубины и это хорошо!»
После такого определения доктор почувствовал удовлетворение и в душе остался собой доволен.
«Скотина! Что он тут возится с халатами, любуется, перекладывает? Чёрт, как ноют руки. Эх, скрутили! До кровоподтеков, наверно; даже саднит. Скотина! Мало убить, так хочет продлить мучения...»
Он всё стоял посреди комнаты около очага, и голова его почти касалась почерневших от копоти кривых неровных балок потолка. Ныло сердце от ожидания. А Ибрагимбек всё рассматривал халаты, заставлял Кривого раскладывать их на кровати, подносить к двери на свет, распяливать на руках. Ничем не объяснимое поведение Ибрагимбека злило доктора.
Наконец басмач приказал убрать халаты в яхтан и спросил:
– Ну! Что скажешь, урус?
– Ничего не скажу.
Изумление отразилось на лице Ибрагимбека, он поскоблил пятерней открытую, поросшую ржавой шерстью грудь и снова приказал:
– Принеси... то самое.
Кривой принёс из соседнего чулана два грубо сколоченных ларца. В них оказались деньги. Золото, серебро, пачки николаевских кредиток, бухарские большие бумажки, покрытые стрельчатым замысловатым орнаментом и красно-синими арабскими надписями.
Слюнявя пальцы, Ибрагимбек шуршал кредитками, звенел золотом и всё украдкой поглядывал на доктора.
«Богатствами хвастается, собака, экий примитив. Психология собственника-стяжателя», – думал Пётр Иванович. И вдруг чувство страха почему-то исчезло. Басмач опять засопел и важно спросил:
– Видал?.. – И добавил: – У меня ещё есть!
Он сказал это совсем как малое дитя, хвастающееся своими ашичками. Сочетание детского и звериного производило отталкивающее и страшное в одно и то же время впечатление, но доктор, отупевший от боли в руках, окончательно вышел из себя и зарычал:
– Животное ты! Развяжи мне руки!
Удивление разлилось по лицу Ибрагимбека.
– Ийе! – пробормотал он, тараща глаза. – Чего ты на меня кричишь?
Поразмыслив немного, Ибрагимбек приказал Кривому:
– Убери! – И мотнул головой на халаты и деньги. Сам он развалился поудобнее и, разглядывая из-под мохнатых бровей спеленатую арканом фигуру доктора, проворчал:
– Плохо твое дело, русский, а? Этого-того, а? А? Хе-хе. Даже тысяча дру-зей не прибавит плешивому Калю и волоска.
Очевидно, Ибрагимбек наслаждался силой. Он захихикал и, наклонившись, ткнул пальцем доктора в бок. Не дождавшись ответа, Ибрагимбек продолжал:
– Ты, урус, как тот плешивый из сказки. Теперь тысяча красных солдат – твоих друзей – не прибавят тебе и минуту жизни. А-ха-ха! О-хо-хо! Локайцы никого не боятся. На небе звёзд много, на земле локайцев много, хо, хо!
Он хохотал, держась за бока и странно подвизгивая. Наконец он успокоился и с удивлением поглядел на доктора.
– Ты чего губы надул, урус, ты понимаешь, что пришёл твой последний час? Ты почему жизни не просишь? Ты понимаешь: захочу – жизнь тебе дам. Жить-то хочется, а? Ночью коту снится бараний курдюк, а? Хо-хо!
«Нет, определенно эта скотина в добродушном настроении», – думал доктор.
– Это враги говорят, что Ибрагим плохой, что Ибрагим кровопийца, нет, Ибрагим великодушный, хо-хо!
– Ты великодушный? Кормленная мякиной кляча скакуном не бывает, юрта с глиняной крышей не бывает, – не выдержал доктор. – К чёрту, к чёрту!
Всё тело ныло, саднило от тугих верёвок, и злоба прорвалась. Пётр Иванович даже не отдавал себе отчета, что говорил, как говорил. Он бессильно опустился на кошму.
– Ишь ты какой! – удивился Ибрагимбек. – Не веришь, значит? А вот и великодушный я, – обиделся вдруг он. – Клянусь аллахом, великодушный я... Увидишь сам... Живи, вот! Этого-того.
Он даже засопел от удовольствия, но тут же опять забеспокоился.
– Почему не благодаришь? А? Гордый? О пророк! И воробей хочет, чтоб его подковали. Спеси сколько у тебя! Охо-хо!
Он принялся за чашку с кумысом. Громко чавкая, поглядывал с любопытством на лежавшего неподвижно Петра Ивановича, у которого вдруг засосало под ложечкой, так ему захотелось есть. Наконец Ибрагимбек кончил хлебать, вытер рукавом ватного халата усы, бороду,
– Вот ты табиб, значит, – проговорил он, отдуваясь. – Да? Этого-того... У меня к тебе, табиб, дело…
– Ни о каких делах, собака, я говорить с тобой не буду!
– Ийе, как кричит! – снова удивился Ибрагимбек. – Почему не будешь говорить? Заставлю!
– Раз ко мне дело, значит, я гость, а это что? – И со стоном от резкой боли доктор повернулся спиной к Ибрагимбеку.
Мысли туго ворочались в голове Ибрагимбека, он посопел с минуту и только тогда крикнул:
– Эй, Кривой!
Вбежал слуга и снова переломился пополам.
– Дай ножик!
Ибрагимбек резко перевернул доктора лицом вниз и, кряхтя и сопя, долго возился. Пётр Иванович чувствовал резкую боль в спине, но стиснул зубы: «Ох, что он там делает!» Вдруг он испытал невообразимое чувство облегчения: верёвки ослабли и сползли на пол. Пошевелив пальцами и помахав руками, чтобы восстановить кровообращение, доктор сел рядом с Ибрагимбеком поближе к пышущим жаром углям в очаге.
– Прибери ножик, – сказал Ибрагимбек Кривому, – аркан сверни, положи на место.
Только теперь доктор увидел, что верёвка не разрезана, а, очевидно, аккуратно развязана: «Вот чего он копался».
– Этого-того, сейчас чай будем пить, а? – сказал Ибрагимбек. Голос его стал в высшей степени добродушным.
– Чай хорошо, – в тон ему ответил доктор и добавил, правда в нарушение всех правил восточной вежливости: – но хорошо бы гостя и покормить.
Он разминал руки и размышлял: «Азия! Невероятно. Только что ждал смерти, а сейчас – в гости попал. Думаю: «Хорошо бы закусить». С того дня, как он заболел «папатачи», Пётр Иванович почти ничего не ел и только теперь по-настоящему ощутил, насколько пусто него в желудке.
– Ой молодец, доктор, правильно. И я голоден, – располагающей готов-ностью проговорил Ибрагим, – хорошо бы, этого-того, бешбармаку, а?.. Или казан-кабаб сделаем, а? Что поскорее.
Он всё заглядывал в лицо доктору, хитро щуря свои глазки, и расплывался в улыбке. Переход от холодной и тупой жестокости к радушию гостеприимства и даже изъявлениям дружбы в Ибрагимбеке произошел совершенно незаметно и непосредственно. Ибрагимбек совсем забыл, что он только что издевался и истязал пленника и даже грозился убить. Да, собственно говоря, и пленнику не приходилось жаловаться. Ибрагимбек подарил ему жизнь, обласкал, хочет накормить. Естественно, пленник должен отнестись к нему с великой благодарностью. Удивительно только, что сидит этот русский, как истукан, не благодарит, не обнимает ему ног, ни словом не изъявляет своей признательности.
Пища у Ибрагимбека оказалась жирная, тяжёлая, и Пётр Иванович быстро наелся. Ибрагимбек всё потчевал и потчевал: «Не могу больше есть, – не скажи! Такой пустой разговор – разговор людей чёрной кости». Но доктор решительно отказывался. Он ответил другой пословицей: «Мало говорить – велит мудрость, мало есть – велит приличие».
Хотел было опять Ибрагимбек рассердиться, да некогда было, в голове его зародилась, закопошилась мысль, еще неоформившаяся, неясная, но очень важная.
Уже за чаем и едой Ибрагимбек высказал свою мысль:
– Понимаешь, ты табиб, большой хаким. Тебя вся Бухара знает. Урус табиб, великий табиб. И вдруг ты ко мне в руки попал, бог мне споспешествует. Здорово получилось, а? Этого-того. Поэтому тебя я не позволил резать, этого-того. Зачем резать, когда можно пользу получить. Ешь, доктор, хорошенько ешь. Смотри, чувствуй – большой человек Ибрагим, главнокомандующий, а хороший человек, добрый. Ты всё знаешь, лекарства знаешь. Хорошие лекарства знаешь, чёрные лекарства знаешь, а?
Доктор недоумевал. Ибрагимбек пояснил:
– Хорошие лекарства излечивают, чёрные – убивают. Есть такие лекарства, я слышал, которые убивают, быстро убивают, есть, которые мало-пома-лу изнутри тело разъедают, точат. Потихоньку человека за горло берут. Уф!
Ибрагимбек отдувался. Для него речь была хуже тяжёлой работы. Он от разговора устал, но никак не мог добраться до сути.
– Вот мне табиб мой Ходжа Насрулла дал чёрное лекарство. Сказал Ход-жа: немного клади лекарства в плов, немного в похлебку. День клади, два клади, десять дней клади. Враг твой пусть мало-мало плов ест, похлебку ест, потихоньку подыхать будет. День я клал, два клал, десять дней клал чёрное лекарство и в плов, и в кавардак, и в шурпу. Никак, шайтан хитрый, не помирает...
– Куда клал, какой яд? Кто не помирает? – ошеломлённо спросил Пётр Иванович. У него мурашки поползли по телу. Этого ещё не хватало: яды, отрава.
А Ибрагимбек твердил свое:
– Сыпешь, сыпешь, всё без толку, – и, доверительно наклонившись к самому уху доктора, зашептал: – Может быть табиба Ходжа Насруллу заду-шить, а? Теперь ты станешь моим табибом, а? Чёрное лекарство настоящее сделаешь, а? Чтоб, этого-того, Энвера, а? Тсс...
Он приложил палец-коротышку к губам и на четвереньках быстро подполз к двери, выглянул, прислушался. От неожиданности Пётр Иванович не воспринял даже комизма сцены: грузная туша властителя Локая ползёт совсем уж по-кошачьи, с высоко поднятым задом в вздрагивающими забавно ногами. Неприятный холодок подкатился к сердцу доктора, и появилось ощущение, похожее на тошноту. «Экая похабная личность, – мелькнула мысль, – но разве можно показать, что ты так даже думаешь...»
– Так ты хочешь отравить зятя халифа, – выговорил он с трудом, – генералиссимуса, командующего и прочая, чёрт бы его взял, самого Энвера?
Закивав быстро головой, Ибрагимбек показал, что мысль его правильно понята.
– Да, да, уже насруллинскрго яду целую коробочку споил, а он всё не помирает. Каждый день «ох» говорит, «здоровье плохо» говорит, а не умирает.
– А почему ты его не... – и доктор красноречиво провёл ребром ладони по горлу.
– Что ты, что ты! Разве можно, друг! Такой большой человек, посланец аллаха, так сказать, друг!
«Вот я и в наперсники попал басмачу!» – подумал не без ехидства Пётр Иванович, но вслух заметил как можно равнодушнее:
– Значит, прирезать нельзя, а отравить можно?
– Э, если ножом... этого-того... кровь прольётся... А он, конечно, мусульманин. Аллах... этого-того... разгневается...
Он так запутался, что даже вспотел и принялся утирать лицо ситцевым бельбагом.
Не замечая, что доктор смотрит на него с ужасом и отвращением, Ибрагимбек пояснил:
– Если ножом... значит кровь, если лекарством – сам человек, хе-хе, без болезни и без раны помрёт, душа через рот выйдет. Яд – тоже нехорошо... этого-того... но для кривого дерева – кривой топор.
Он фамильярно обнял доктора за плечи и уже совсем доверительно зашептал:
– Пусть помрёт. Зачем он приехал? Тихо пусть скончается. Мы ему мазар построим, а сами будем Бухарой править. Ты знаешь, табиб, у него, у этого турка, на руке перстень с чёрно-красным камнем? Знаешь, это перстень самого халифа Маъамуна, властители мира. У кого перстень, тот всех победит, властителем мусульман и немусульман сделается. Просил у него перстень, этого-того, двести кобылиц давал, не даёт. А когда жизнь его пресечётся, перстень вот на моей руке будет. Тебя, табиб, приблизим, одарим, видел, сколько у нас богатств?! Давай свое лекарство, пусть тихонечко помирает. Только смотри молчи, а то... – и глаза Ибрагимбека свирепо округлились. – Известно, чтоб тайна осталась тайной, пореже доверяй её друзьям... Хе-хе, пореже доверяй её друзьям, – повторил он, – Хе-хе, не бойся... это я так, тебе я верю. Ты не обманешь... Этого-того...
– Как же так, Ибрагим, – в отчаянии заговорил доктор, – десять дервишей спят на одной рваной кошме, а два властителя не могут уместиться во вселенной...
Он подбирал новые доводы. Ему отвратителен был этот локайский Борджия, и в то же время он боялся отказаться прямо. Случай пришёл ему на помощь.
Шумно звеня шпорами, в михманхану вошёл сам зять халифа. Пётр Иванович узнал его сразу: уж очень много говорили о нём в те времена в Бухаре.
Коротко, небрежно бросив: «Селям!», Энвербей уселся и вытянул ноги в лакированных сапогах. Он не смотрел ни на кого, но под тонкими стрелками усов его бродила слабая улыбка.
– Прошу, прошу, – поперхнувшись, проговорил Ибрагимбек, – покушайте с нами... Позвольте узнать ваше здоровье, дорогой гость.
Задавая вопрос, Ибрагимбек старательно подмигнул Петру Ивановичу: «Мол, слушай».
С интересом и даже робостью смотрел Пётр Иванович на сидящего перед ним худого, почти тощего человека. Уже почти два десятилетия имя его не сходило со страниц мировой прессы.
Безразличным тоном Энвербей ответил:
– Неподобающе. Здешний воздух неблагоприятно отражается на мне.
Ибрагимбек снова подмигнул доктору и продолжал:
– Мало кушаете, эфенди, или пища наша неугодна вам?
Энвербей поднял голову, поймал суетливый взгляд властителя Локая и помрачнел:
– Пища здешняя грубая, плохо изготовленная... и желудок мой отказывается принимать её.
«Ясно, почему все ухищрения Ибрагима остаются втуне, – подумал док-тор. – Энвер оказался похитрее».
Каждый день Энверу несут отравленные блюда, но Энвер не так-то прост. Яснее ясного – он что-то заподозрил и держится осторожно. Ибрагимбек ещё не сообразил, что обманут. Пока только смутные догадки шевелились где-то в тёмных уголках его сознания. Оскалив жёлтые клыки, он смотрел на Энвербея, не прикасавшегося ни к чаю, ни к кушаньям и задумчиво потиравшего бледные, женственно нежные руки.
– Вы меня обижаете. Не едите, не пьете.
– Что же, воздержание предписывал пророк наш, да произносится имя его с подобающим благоговением, – промолвил многозначительно Энвербей. Затем он медленно повернул голову и, пристально посмотрев на Петра Ивановича, спросил:
– Вы доктор?
– Да, – кивнул Пётр Иванович, несколько удивленный.
– А наш друг Ибрагим успел похвастаться, что заполучил настоящего европейского доктора. Разрешите вам задать вопрос?
– Чего там, – тоном собственника сказал Ибрагимбек, – он скажет, я разрешаю, грешно не ответить самому зятю халифа.
– Скажите, на Востоке проказа считается очень заразной. А что говорит медицина?
– Да, с тех пор, как норвежец Гансен открыл бактерию лепры в 1871 году, проказу принято считать инфекционным заболеванием.
– А лечение?
– Неизвестно.
– Благодарю.
– Меры профилактики, – продолжал Пётр Иванович: – мыло, мытьё рук с мылом... Эпидемия лепры прекратилась в Европе с тех пор, как завели обычай мыть руки с мылом...
Со всё возрастающим любопытством и вниманием Ибрагимбек прислушивался к разговору между зятем халифа и Петром Ивановичем.
– Мылом нельзя мыть руки, – авторитетно вмешался Ибрагимбек, – если будешь мыть руки мылом, когда помрешь и твоя душа ступит на мост «Сиръат», толщиной и остротой подобный сабле дамасской стали, поскользнёшься и сверзишься в ад. Но... этого-того, почему вы говорите здесь о махау, о прокаженных? – спохватился Ибрагимбек. Он впал в страшное волнение, завертелся на месте, стал пристально осматривать свои руки-коро-тышки и, воровски поглядывая по сторонам, ощупывать себе лицо.
– В чём дело? Этого-того, что случилось?
Не отвечая Ибрагимбеку, Энвербей снова повернулся к Петру Ивановичу:
– Вот вы доктор, да? Можете вы определить, болен или нет человек проказой?
– На определенном этапе болезни нет ничего легче. Во всяком случае, вам нечего беспокоиться, – продолжал Петр Иванович, пристально разглядывая чистое, покрытое ровным розовым загаром лицо Энвербея, – у вас-то не заметно никаких признаков проказы, хотя в Турции...
– При чём тут Турция? – несколько раздражённо прервал его зять халифа, – я бы советовал приглядеться к окружающим. – Он опять замолк.
Ибрагимбек повертелся на месте, подмигнул доктору, и заговорил, обращаясь к Энвербею, вкрадчиво:
– Вот, вы нас обижаете... не кушаете... этого-того... словно подозреваете... Смотрите, – он пятернёй залез в блюдо и засунул в рот поджаренный до хруста кусок баранины. Ещё не прожевав его, он продолжал с полным ртом: – Вот, видите... вредное смешение пищи в желудке не произойдёт.... Еда у нас чистая... Яду тут нет...
«Экий балда! – успел только подумать доктор. – На воре шапка горит. Идиотская помесь хитрости с наивностью».
– Нет и нет, мы всей душой, – продолжал Ибрагимбек. – Не кушаете, скучаете, нас не посещаете, – с непостижимой «логикой» Ибрагимбек перескочил на другое, и даже Энвербей вышел из состояния сонливого равноду-шия и посмотрел на него. Искра любопытства зажглась в его взгляде.
– Да, да, от одиночества чёрные мысли, застой крови.
И, заранее наслаждаясь впечатлением, которое произведут его слова на Энвербея, брякнул:
– Хочешь женщину, а?
– Вы снова о своём? – пробормотал Энвербей. К лицу его начала приливать кровь, не столько от смущения, сколько от неожиданности.
– Ну, красивую, полнотелую, с белой кожей, толстобёдрую. А? Вижу, хочешь? Почему тебе не жениться, не осчастливить какую-нибудь...
– Я пришел говорить о деле, – сухо проговорил Энвербей, – а вы всякую чепуху говорите. Пока моё знамя не осенит победа, я не думаю о земных делах и плотских наслаждениях. Мне не до этого. Когда мы, наконец, решим вопрос – выступят ваши локайцы или не выступят?
– Э, тебе не до этого, – хихикнул Ибрагимбек, – вот увидишь красавицу – не то скажешь. Этого-того... Если не положишь рядом, то и дрова не разожжёшь, а если положишь рядом... хэ-хэ... и ледяные сосульки загорятся... И калым совсем маленький возьму, Хэ-хэ, всего-навсего вот этот ваш агатовый перстень.
– Нет, – резко оборвал Энвербей и покраснел, – я говорил уже...
– О, мы только пошутили, – спохватился Ибрагимбек. – Нет, нет, ничего не надо... Она вдова... и обойдёмся без калыма... Но не подумайте, что плохая... И старый лоскут, да шёлковый...
Заподозрив какой-то подвох, Энвербей помолчал. Он уже серьезно раскаивался, что приехал в ставку Ибрагимбека. Последние тяжёлые неудачи вынудили это сделать. Приходилось поступиться гонором, самолюбием и сделать первый шаг к примирению. Красная Армия наступала, не встречая серьёзного сопротивления. Нависла угроза над Бальджуаном и Кулябом. Широко задуманная операция под Кабадианом сорвалась. Добровольцы Файзи ускользнули из-под самого носа, со всеми запасами оружия и амуниций, а энверовцы нарвались у самой границы на крупные соединения Красной Армии, подброшенные по Аму-Дарье из Термеза. Пришлось Энвербею отступить на север. Очень неуверенно чувствовал себя и Ибрагимбек в Локае. Казалось, возникшие общие интересы и беды должны объединить Энвербея и Ибрагимбека для совместной борьбы, заставить их забыть соперничество и обиды. Обнаружив, что запасы оружия ускользнули, Энвербей прямо поскакал к Ибрагимбеку. Но Ибрагимбек вот уже несколько дней ходит вокруг да около, ничего не решает и вообще о деле не говорит. То он устраивает грандиозный «той» по случаю обрезания своего племянника, то ему понадобилось ни с того ни с сего поститься, то захотелось поехать на охоту, иначе джейраны уйдут, то ещё что-то. Шли непрерывные угощения, пиры. Резали баранов, в котлах прел плов, горели жарко костры, на конских играх ломали себе шеи всадники и кони. Игнорируя опасность, Ибрагимбек предавался необузданному разгулу и никак не хотел начинать переговоры. Вот и сейчас... Энвербей шёл к Ибрагимбеку с твёрдым решением говорить о деле, только о деле, заставить, наконец, этого тупого конокрада высказать свою точку зрения и тогда принять окончательное решение. Но полудикий конокрад опять поставил в тупик Энвербея.
Мудрость Ибрагимбека не шла далее честолюбия, пищи, женщин. Он думал, что никто не устоит против лести, сытного угощения, красивой бабы. И заметив на лице Энвербея краску растерянности, басмач заржал от восторга.
– Кривой, – заорал он, – приведи-ка сюда ту женщину.
Он весь подпрыгивал от нетерпения, сидя на паласе.
– Сейчас, сейчас! За чем дело стало. Сейчас и посмотришь. Если жену берёшь – погляди, если лошадь покупаешь – поезди. Женщина масло и сливки. Молодая, толстая. Вдова! Калыма... этого-того... большого не возьму... пленница, рабыня.
В жар и холод бросило Петра Ивановича, когда в михманхану ввели женщину и сдернули с неё покрывало. Он сразу же признал в ней Жаннат.
«Несчастная девочка! Только этого не хватало!» – Он сжимал и разжимал кулаки в полной растерянности.
В полу накинутого на голову камзола Жаннат прятала пылающее лицо, но при виде Петра Ивановича не могла удержаться от возгласа удивления и радости. Но она тут же умолкла, не зная, как себя держать, и только умоляюще смотрела на доктора. Полные ужаса бездонные глаза её спрашивали: «Что делать? Что делать?» Она не понимала, как оказался доктор у Ибрагимбека, почему он сидит здесь за его дастарханом, но для неё его появление пробудило надежду на избавление.
Посматривая то на Жаннат, то на доктора, Ибрагимбек молчал. Он изучал лица своих пленников и тупо соображал: «Вроде они друг друга знать не должны, и вроде знают. Чего-то женщина обрадовалась, а? Крикнула даже». По-бычьи уставился он на Жаннат, но она снова спрятала свое раскрасневшееся лицо в камзол.
– Открой лицо! – Он сдернул с её головы камзол, и для Петра Ивановича стало словно светлее, такую прелесть излучало лицо молодой женщины. Произвела впечатление красота Жаннат и на Энвербея. Он был не стар. Сохраняя строгость почти аскетическую в походной жизни, отнюдь не избегал женщин. Необычная ли яркая красота Жаннат, просто ли мгновенно пробудившаяся чувственность, или всё вместе взятое подействовало, но Энвербей безотчетно и безвольно пошёл в расставленные Ибрагимбеком сети. Теперь краска залила лицо зятя халифа, и он мучительно побагровел. Дрожащей рукой он пощипывал стрелки усов и отчаянно старался принять безразличный холодный вид. Однако он не в состоянии был справиться с охватившими его желаниями.
Энвербей резко встал и, холодно, по-европейски поклонившись, щёлкнул каблуками:
– Ханум, извините, я вас не знаю, но вы ведь мусульманка, а мусульманке подобает скромность. Прошу вас, закройте ваше лицо.
– Ага, – хихикнул Ибрагимбек, – красива, прелестна, а? Верблюдица в период течки, а? Тяжесть любого нара выдержит, а? Берёшь? Я её украл у Ка-сымбека. Он в неё, ха-ха, влюбился... А тебе даром отдаю... из уважения!..
– Были вы гуртоправом и остались гуртоправом-табунщиком. И рассуждаете, как табунщик, – резко сказал Энвербей. – Извините.
Галантно поклонившись Жаннат, он вновь щёлкнул каблуками и вышел.
– Табунщик!.. – закричал Ибрагимбек. – Подумаешь, а в случке я понимаю толк побольше вас, городских. Правда, красавица?
Только тихо вздрагивали плечи Жаннат под камзолом, который она успела подобрать с пола и снова накинуть на голову.
– Не реви! Скажи спасибо, что сватаю за зятя халифа. Вместо брачного ложа, тебе бы, большевичке, живот вспороть да в степи на растерзание шакалам бросить. А мы в своей милости тебя хотели приблизить, больно ты красива, собака. При взгляде на тебя жарко делается. Нежиться бы тебе, красавица, на той кровати, – крикнул с вожделением Ибрагимбек, ткнув рукой в тёмный угол, где поблескивали никелированные шишечки. – А вот теперь придется отдать тебя... ему. – Он кивнул на дверь, куда только что вышел Энвербей. – Хо-хо. Надо же ублаготворить зятя халифа... хо-хо, теперь ты через него породнишься с самим, хо-хо, халифом мусульман... вроде тебя освятит он... Хо-хо, своим... Хо-хо, прикосновением. Святой Хатун-биби станешь.
Он долго хохотал, захлебывался, наконец пришел в себя. Быстро, по-собачьи подобрался к двери, выглянул и крикнул:
– Кривой, сиди, собака, никого не пускай.
Пока он распоряжался, Жаннат приоткрыла лицо и умоляюще шепнула побелевшими губами:
– Боже, что делать?
– Хитрость... упорство, – успел только, шевеля почти безмолвно губами, проговорить Пётр Иванович.
– Эй доктор, эта женщина не для тебя, – зарычал Ибрагимбек. – Шашни заводить! Застрелю. Тысяча джинов! Не успеет кобылка травку пощипать в степи, а уже со всех сторон жеребцы набежали, и она уже – играть с ними.
– Что ты кричишь? Что здесь, конский базар, что ли? – в тон Ибрагимбеку закричал доктор. – Не видишь, женщину напугал своим ишачьим криком.
– Ийе! – удивился Ибрагимбек. Глазки его пытливо перебегали с Петра Ивановича на Жаннат.
– Разве вы не разговаривали? – примирительно осведомился он.
– Даже если и разговаривали... Спросил, как её зовут, – стараясь говорить небрежно, пробормотал доктор.
– А? – протянул Ибрагимбек. – Садись, красавица, и слушай.
– Нехотя Жаннат присела у порога. Она опустила голову и исподлобья поглядывала то на доктора, то на обиженно пыхтевшего Ибрагимбека.
– Выдаю замуж за него... – Ибрагимбек махнул рукой куда-то в пространство. – Он, – ткнул пальцем в Петра Ивановича, – даст тебе лекарство. Насыпай каждый день ему... то есть зятю халифа, в пищу... Незаметно... Да не очень спеши... мало-помалу... Арба, которая не спешит, скакуна догонит, поняла? Поласкай его, ублаготвори, а там подсыпь малость... Эй, эй! – зарычал он, заметив, что Жаннат сделала протестующий жест, – прикажу, отрежут язык, груди, привяжут за ноги, за руки к хвостам жеребцов и... Ну, иди, красавица, готовься. Одета ты плохо... Пойди к моей старшей жене... Пусть оденут... Невеста всё-таки. Иди!
Повернувшись всей тушей к доктору, он вздохнул:
– Эва, какая красивая змея, а? Держал её Касым-бек в саду, а она возьми и убеги. Да только недалеко убежала. Моим джигитам в лапы попалась, а они меня уважили и привезли её ко мне. И отдаю. Ничего, лучше, наверно, отдать. Змеи жалят. Пусть лучше его ужалит, а? Не то взял бы к себе, позабавился... – он даже облизнулся и зажмурил глаза. – Я жала не боюсь. Родился под счастливой звездой.







