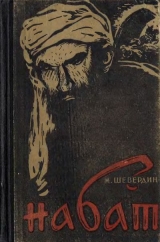
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 46 страниц)
Тотчас же следом выскочил из ворот Ибрагимбек. Глаза его бегали, он сгпел и хрипел.
– Где Энвер?
– Что с ней? – закричал Пётр Иванович. Он забыл, где он, кто стоит перед ним. Он кричал и тряс Ибрагимбека за отвороты халата. – Что ты сделал с ней?
– С ней, – растерянно мямлил Ибрагимбек, – с этой дрянью? Она сказала, что она спала с Касымбеком прокажённым...
И, оттолкнув Петра Ивановича, он крикнул ему:
– Всё равно она тебе не годится. Она прокажённая. Мы её прогнали.
Где-то далеко за низкими плоскими домами слышались удаляющиеся вопли, свист, улюлюкание. С криком бежали люди; скакали всадники. Казалось, весь кишлак бросился изгонять с позором несчастную Жаннат.
– Они убьют её!
Пётр Иванович бросился к воротам. Но на этот раз его не выпустили. Ни просьбы, ни угрозы не помогли. Его отвели к Ибрагимбеку…
Глава двадцать третья. ПЕСОК ЗАСЫПАЕТ СЛЕДЫ
Разгаданная загадка легка.
Хакани
– Вы знаете, что такое таввакуль?
– Упование на бога... Слышу часто от эмира... Он начинает с таввакуля и кончает таввакулем.
– Ну так вот, пусть эмир уповает себе на таввакуль, а...
– Но имя его... эмир Сеид Алимхан! Это звучит на Востоке... это знамя.
– Ни для кого уже не знамя... Эмир – миф, отживший, покрытый пылью и паутиной символ... Сейчас за ним идёт кучка слепых фанатиков... В игре он битый козырь...
Разговор шёл где-то на берегу беспокойной речки между двумя охотниками. Из них один – купец Мохта-дир Гасан-эд-Доуле Сенджаби – внимательно, но с до стоинством слушал очень высокого, очень тёмного лицом, очень подвижного сахиба в типичном индусском костюме, с зелёной сикхской чалмой на голове. Достоинство и важность сахиба измерялись высоко, судя по дорогому убранству великолепных коней вооруженных саисов, расположившихся шагах в ста.
Поглядывая на белое брюхо лежащей у его ног подстреленной антилопы, сахиб продолжал:
– Здесь дьявольски жарко, но одно хорошо: нет длинных ушей проклятых негров. Ужасно любят они подслушивать.
– Чёрт бы их побрал! – охотно подхватил Мохта-дир Гасан-эд-Доуле Сенджаби.
– Нет, уж лучше продолжим на фарси, – смерил глазами расстояние до группы саисов сахиб, – а вдруг ветер сыграет с нами шутку... Вернёмся к фактам.
– Факты? Позвольте тогда представить факты. Бухарский рынок, завоёванный нами с таким трудом, ускользает. Большевики вышли на линию Вах-ша. Ещё всюду расчёты ведутся только на рупии и на фунты... Доходы мы получаем неплохие. Но золото... я говорю о российских империалах и полуимпериалах, мы выкачиваем, и недопустимо потерять страну в двести тысяч квадратных миль... я говорю о торговом рынке... Положение с каждым днем всё острее.
– Каковы планы большевиков?
– Красные, как сообщают наши люди, а они есть всюду, даже в штабах, в ближайшие дни нанесут, если уже не нанесли, удар в направлении Куляб-Бальжуан.
– О, они не бездействуют.
– Они встретят отпор... Такие вожди, как Ибрагимбек...
– Главари разбойничьих банд... Что с нашей базой?
– В Кабадиане? Большевики пронюхали об оружии. Оружия там нет... его вывезли. Часть потопили в Вахше, часть доставили в Курган-Тюбе.
– Чёрт бы побрал Хикса. Он слишком самоуверен. Итак, базы нет. Тогда переправьте немедленно последние партии оружия и амуниции Энверу, пока не поздно. Пусть вооружит имеющийся у него контингент. Сейчас пойдём на всё... Сэр Уинстон чрезвычайно недоволен. Он требует... Ташкент.
– О!
– Дело серьёзное. Надо, чтобы басмачество продержалось ещё немного. Поход решён. Этой осенью. На Самарканд, Бухару, Хиву... Только неясно, кто его возглавит. Кому мы передадим все эти тысячи винтовок, патроны, пулемёты...
– Ибрагиму.
– Туркестанскому Робин Гуду... Храброму Робин Гуду, но он только Робин Гуд... тупой, невежественный...
– Но он верен нам.
– Что делает Энвер?
– Собирает силы... ведёт переговоры с главарями... с Ибрагимом.
– Придется рискнуть. Пусть Энвер станет полноправным главнокомандующим, пусть собирает силы. Ибрагиму дайте указание подчиняться Энверу.
– Значит, оружие передать ему?
– Послушайте, Петерсен. У вас сомнения? Говорите.
– Большой караван оружия уже на той стороне... Его повел Хикс. У него задание передать всё Энверу.
– Пошлите нарочного. Пусть поделит между Ибрагимом и Энвером – по-братски.
Сахиб замялся. Мохтадир Гасан-эд-Доуле Сенджаби выжидал.
– Неприятно одно обстоятельство, – проговорил сахиб. – Мы получили из Бухары сведения, что Энвер как будто делает ставку на религию, на панисламистское движение... По всей Бухаре кричат: «Борьба с неверными»... не против большевиков, а против... кяфиров.
– Это точно.
– И у вас такие сведения? Вот видите, мы должны действовать крайне осторожно. Фанатизм – дьявольски опасная штука.
– А без него как поднять горцев?
– Ну, знаете ли... Мы сами в Индии сидим на пороговой бочке. Мы покорили Индию мечом и мечом её удержим. Я не настолько лицемер, чтобы утверждать, что мы держим Индию в своих руках ради просвещения бедняжек-индусов. К чёрту. Индия – рынок сбыта, Индия – источник наших богатств. И мы не позволим какому-то авантюристу совать нос в наши дела... Посмотрим. Пусть Энвер смотрит на север, но если только он сунется на юг... Впрочем, это в будущем. Сегодня мы делаем ставку на Энвера. Желательно, чтобы вы лично повидали его.
Важный сахиб не был бы столь самонадеян, если б услышал другой разговор, происходивший примерно в то же врехмя.
– Дело чрезвычайной важности, – сказал Пантелеймон Кондратьевич, – и очень спешное.
Он разложил на столе карту.
– Мы стоим ориентировочно на линии реки Вахш. Кое-где наши части уже переправились на ту сторону. Гриневич где-то здесь. Дальше не разбери-поймёшь: наши, басмачи, бандиты, головорезы, энверовцы. А вот здесь, в районе междуречья – между Кафирниганом, Вахшем и Пянджем, – идёт мышиная возня. Мы получили сведения, что здесь двигаются караваны с английским оружием, боеприпасами. Тайные склады. Наступать мы начнём не раньше, чем дней через десять, а за это время винтовки и пулемёты уплывут к басмачам.
Сухорученко посмотрел на Файзи и проворчал:
– Одного не понимаю, разговор серьёзный, командирский, а тут... сидят...
Лицо Файзи сразу начало темнеть, и рука запрыгала на колене.
– Потише, Сухорученко, – резко заметил Пантелеймон Кондратьевич, – Файзи Шакир – такой же командир, как и ты.
– Чего же он в халате... басмачом расселся.
– Файзи Шакир – командир коммунистического доброотряда. Понятно?!
Но Сухорученко остался не очень удовлетворён и пробормотал:
– Разные бывают доброотряды, а вообще...
Файзи не выдержал и поднялся, весь красный и дрожащий от гнева.
Пантелеймон Конадратьевич резко сказал:
– Товарищ Сухорученко, извинись. У нас не базар, а командирское совещание.
– Ладно, извиняюсь, – буркнул Сухорученко, – ты уж не сердись, – обратился он к Файзи, – такой я...
– В короткий срок надо прорваться в район кишлака Курусай, – продолжал Пантелеймон Кондратьевич.
– С боем? – спросил Сухорученко.
– По возможности, без боя. И ликвидировать контрабандистов. Оружие или вывезти, или уничтожить.
– Э, без драки тут не обойтись, – довольно потирая руки, заметил Сухорученко, но тут же взгляд его упал на Файзи, и он опять недовольно протянул: – А он тоже с нами?! В виде принудительной нагрузки?..
Больших усилий стоило Файзи сдержаться, но он всё же запротестовал:
– Он плохой... Много кричит! Зачем так много кричит? Думает – он один человек, другие собаки, что ли?!
– Слушай, Сухорученко, – рассердился Пантелеймон Кондратьевич, – прекрати. Не гавкай на людей, если не знаешь. Командир Файзи пойдёт не с тобой! У него другой путь. А показал я тебе Файзи, чтоб ты не напутал... А то встретишь конников в халатах – и давай: «В клинки!» Я тебя знаю, а потом по своей привычке начнешь разбираться, кто да что...
– Да, если они поедут, завтра же все от мала до велика знать будут. Едут-де красные, встречайте гостей.
– Командир, я вижу нас напрасно позвали, – вставая, сказал Файзи. – Позволь мне идти. Я не могу говорить с таким сумасшедшим.
Спокойный тон, выдержка этого худого, измождённого человека с выразительными, горящими умом и смелостью глазами начала действовать на Сухорученко, впрочем, как и всегда, с опозданием, и он пробормотал примирительно:
– Э, браток, не пойми... я не то... Ну, туда-сюда... начал бузу тереть...
– Нехорошо, Сухорученко... И разорался, и человека обидел зря. А Файзи – большевик, подпольщик. Много потерпел и от эмира и от прочих сволочей. И воевать умеет с умом.
С грохотом отбросив табуретку, Сухорученко с красным сконфуженным лицом устремился к Файзи и, облапив его, завопил:
– Не лезь в пузырь, брат. Ну, ошибся я. Давай почеломкаемся... Ей-богу, не нарочно.
Смена настроений в Сухорученко происходила молниеносно, без всяких переходов. Только что он в слепой ярости мог громить и крушить всех и вся – и вдруг малейший толчок делал из него скромную, конфузливую девицу.
– Давай поменяемся... клинками, что ли... или маузерами. Ей-богу, не знал, друг. Прости велакодушно!
И Файзи не мог устоять перед этим буйным напором простодушия и доброжелательства. Он отклонил предложение об обмене, но сердитые складки на лбу у него невольно разгладились, мрачный огонь исчез в глазах, и он ответил на рукопожатие.
Пантелеймон Кондратьевич только качал головой.
– Не место и не время, Сухорученко, говорить об этом, но вот в присутствии его, – он указал глазами на Файзи, – предупреждаю тебя последний раз: брось ты своё хамство. Помни, что мы здесь, русские рабочие и крестьяне, помогаем таким же бухарским рабочим и крестьянам бороться против эксплуататоров. А ты воображаешь себя завоевателем. Не получится.
– Да что ты, Пантелеймон, я уж и так...
– Если понял, хорошо, а извинения оставь при себе. Так вот: ты, Сухорученко, пойдёшь... вот отсюда... Следи в оба за бандой Даниара... Он тоже там кружится. Уж не пронюхал ли насчет каравана?
Тщательно разработав маршруты движения отрядов, он закончил:
– Установите связь в районе Курусая с Хаджи Акбаром, он сейчас там... наблюдает... Это ваш родной кишлак, товарищ Файзи? Где сейчас Иргаш?
– Я его послал на караванные тропы – сторожить.
– Ну и хорошо!
– Во всем остальном задача ясна. Ни день, ни час выступления, ни основная цель никому не должны быть известны, кроме двоих вас. Действуйте.
И добавил:
– А официальная, так сказать, ваша цель – демонстрация в тылу противника.
И самый короткий разговор произошел едва ли не в тот самый день в резиденции Ибрагимбека.
Сидя, по обыкновению, на кровати и выщипывая щипчиками «мучинэ» – волосы на подбородке, – Ибрагимбек проговорил, точно думая вслух:
– Ох, что-то неспокойно у меня. Ноет и ноет тут внутри, – он потёр себе под ложечкой, – на сердце тяжесть. И в голове гудит и гудит. Не пора ли помолиться, а, как ты думаешь, бек?..
Сидевший у дверей Алаярбек Даниарбек приподнялся и, сложив узловатые чёрные руки на животе, поклонился, как бы испрашивая разрешения говорить.
– Гм, гм, и вправду, не поехать ли тебе, бек, в Конгурт, а? – продолжал Ибрагимбек. – Теперь поезжай в Конгурт. Там смотри за Амирджановым. Ты Амирджанова знаешь?
– Знаю.
– Вот смотри за ним. Он человек Энвера. Там скоро пройдет караван с винтовками, патронами, как бы Амирджанов к ним не протянул руку... Очень нехороший человек... Глаза бегают туда-сюда. Но ты Амирджанова... этого-того... не трогай, не связывайся с ним.
– Так зачем же мне ехать в Конгурт? – спросил Алаярбек Даниарбек.
– Помолиться в соборной мечети. Только смотри хорошенько. Заметишь что-нибудь за Амирджановым – дай знать...
Усмехнувшись, Ибрагимбек откинулся на подушки и стал быстро-быстро перебирать чётки.
– Да узнай, где наш великий табиб, урус, что-то нам неможется, а он уехал к ишану и не возвращается, уж не попал ли он в лапы Даниара-курба-ши?..
При имени Даниара Алаярбек Даниарбек почувствовал странную слабость в животе, но виду не подал. Он встал:
– Ну, я поехал.
– Поезжай, только и сам на глаза Даниару не попадайся. Он ещё не забыл твоего фокуса.
Теперь, когда Аллярбек Даниарбек покидал подворье главнокомандующего, он с сожалением признался себе, что так и не сказал Ибрагимбеку, что он думает о нём, о его умственных способностях. Алаярбек Даниарбек нашёл простой выход: написал письмо, состоящее из мудрого изречения царя поэтов и мудрейшего из мудрых Алишера Навои, гласившее: «Не будь помощником невежественному тирану, ибо не годится пёс в сотрапезники, не посвящай в свои тайны дурака и невежду, ибо не годится он в друзья».
Записку свою Алаярбек Даниарбек не подписал. Неудобно ставить свою подпись рядом с именем такого великого человека, как Алишер Навои.
– Я не убивал врагов, и я не испачкал землю кровью, – рассуждал Алаярбек Даниарбек вслух, покачиваясь на спине своего верного коня, – но если я останусь советником при людоеде, то и сам скоро захочу человечины. Я не убийца, но могу стать убийцей. А зачем мне это? Правда, ты избавил меня от смерти, осыпал из своей торбы милостями, отобрал у бандитов моего драгоценного Белка, ты уважаешь мои слова и... Но не пора ли, Алаярбек Даниарбек, потихонечку убираться отсюда, а? Пётр Иванович счастливо уехал, теперь и наш черёд, а? Ибрагимбек, Даниар, Энвер дерутся, а мне, отцу семейства, что пользы! Деньги? Разбойничьи деньги, они жгут пальцы. Я добрый человек, и советы мои мудрые и добрые. Увы, звук домбры не заглушит шумливый барабан. Аромат амбры слабее запаха чеснока. Нет, Алаярбек Даниарбек, подальше от Ибрагима, подальше от его богатства. Пусть варится дерьмо в котле, лишь бы я его не касался.
Покачиваясь в седле, Алаярбек Даниарбек, как видите, произнёс целую речь. К сожалению, всё красноречие его пропадало втуне. Сам того не зная, Алаярбек Даниарбек уподобился легендарному ученому Востока Ахшафу, который, видя, что на его лекции слушатели не идут, приводил в аудиторию своего козла. Заменявший Алаярбеку Даниарбеку Ахшафова козла конь Белок, конечно, не мог оценить великолепной речи своего неугомонного хозяина.
Алаярбек Даниарбек легонько щекотал каблуком сапога в нежном паху своего коня, отчего тот переходил с усталого шага на игривую тропоту.
Изредка Алаярбек Даниарбек осторожно оглядывался. Он уверял себя, что всё спокойно, что он получил от Ибрагимбека разрешение покинуть его ставку и если сейчас оглядывается, то только потому, что предрассветное время в степи и пустыне – нехорошее время, с точки зрения возможности встретить-ся на дороге со всякой нечистью, вроде красноголового и зеленорукого Гульбиобони – демона пустыни. Но не Гульбиобони искал за собой своими испуганными, влажными, точно сливы, глазами советник Ибрагимбека, а самых обыкновенных скачущих во весь опор оголтелых ибрагимовских бандитов.
Глава двадцать четвертая. ДУША МОЯ, БРАТЕЦ!
Из четвероногих лучше верблюд,
из двуногих – родственник!
Казахская пословица
Бесстыжий родственник ест
и то, чем его не угощают.
Казахская пословица
В последние дни Тишабай ходжа совсем подобрел, и даже босоногие мальчишки и девчонки селения Курусай это заметили. Идя как-то на вечернее моление в мечеть, он дал всем по леденцу. Правда, конфетки засахарились от долгого хранения, имели затхлый привкус с мышиным запахом, но и такие они казались детям курусайцев небесным лакомством. Разговоров о байских конфетах было в кишлаке не меньше чем о достопамятной победе курусайцев над полчищами Энвера-паши. Что случилось с Семью Глотками? Ведь говорится: старый бай бедняку и дома не оставит, новый бай и соломинки не оставит. А Тишабай ходжа – Семь Глоток разбогател недавно, в кишлак приехал на памяти дехкан, и все его за спиной звали, в противовес старому, выжившему из ума, давно уже обнищавшему арбобу, новым баем. Тишабай ходжа никогда никому ничего не давал, только брал. Нанимая батрака, он пытливо оглядывал, щупал его мускулы, одежду: «Э, да ты мне не подходишь, на тебе слишком хорошая одежда». И он гнал парня, на плечах которого разлезались жалкие лохмотья. «Только умирающий с голоду не посмеет разевать рот», – полагал Тишабай ходжа. Он не знал жалости. Во всей округе про него говорили: «Дурного дня минуешь, дурного человека не минуешь». Но бай лишь усмехался. О, он ценил только червонцы, рубли, теньги, копейки. Он мог перегрызть горло человеку за единый чох, а чох, как известно, в два раза меньше полушки. Так с чего бы Тишабай ходжа стал раздавать кишлачным ребятишкам леденцы, да ещё, по подсчетам неких досужих старушек, на полтеньги, на целых десять копеек! Нет, неспроста бай расщедрился. Ну а когда люди узнали, что Тишабай ходжа решил пожертвовать на ремонт дома молитвы сто баранов, тут все, как говорится, приложили палец изумления та рту восхищения: «Поистине наш бай стал праведником!»
В одном курусайские старушки не ошибались. Необычное поведение Тишабая ходжи имело свои основательные, глубокие причины. Правда, они заключались не в том, что он стал детолюбом, и не в том, что его просветила внезапно благодать аллаха, и не в том, что ни с того ни с сего он вздумал стать праведником...
Просто, выражаясь торговым языком, Тишабай ходжа Семь Глоток «хапнул» крупный куш. С месяц назад, после достопамятных событий, прославивших Курусай, он объявил ревкому Шакиру Сами и двум-трем почтенным курусайцам, что по примеру торговцев Бухары он решил образовать «ширкат» – «торговое общество на паях». Но так как ни у Шакира Сами, ни у других включённых в список членов ширката почтенных людей кишлака ничего за душой, кроме уважения и славы, не было, а и то и другое денежного выражения не имеют, то бай великодушно взял все расходы на себя и соответствующие паи внёс за всех сам. Если учесть, что деньги он вносил самому себе, вполне понятно, он не терпел никаких убытков от этой операции. Он попросил всех подписаться под уставом ширката, а неграмотных – приложить большой палец к бумаге. Шакир Сами внимательно прочитал устав, сначала про себя, затем вслух своим друзьям и, так как не обнаружил ничего подозрительного или неправильного, поставил спокойно свою подпись. Бай угостил новых пайщиков пловом, и тем по существу обязанности новых членов товарищества исчерпались. Но скоро на имя ширката прибыл целый караван товаров, верблюдов шестьдесят. Как он смог пройти через степи и горы, кишевшие бандами басмачей и воров, аллах ведает. Пайщиков пригласили в байский дом помогать разгружать верблюдов и складывать товары в кладовые. Самих товаров Тишабай ходжа никому не показал. Вскоре прибыл ещё караван и ещё. Вопль верблюдчиков «хайт, хайт!», которым они погоняют верблюдов, стал самым приятным звуком для ушей Тишабая ходжи. Он забыл про свои изуродованные пытками ноги, оживился, бегал по двору, торопил Шакира Сами и других пайщиков, трудившихся над тюками и верёвками до седьмого пота.
Однажды Шакир Сами пришел к Тишабаю и завёл речь:
– Когда будете продавать мануфактуру?
– Какую мануфактуру? – испугался бай.
– Народ обносился, обтрепался. Женщинам нечем прикрыть срам, у мужчин пупок видно.
– Откуда я достану? – взвизгнул бай – Э, я вижу, услышали вы, что шумовка в котле бренчит, и прибежали. Ошиблись!
– Наши мусульмане уже два года вместо чая кипяток с мятой пьют, а сахара уже десять лет и языком не лизнули.
– А я при чём?
– О боже, да вот своими руками я снимал с горбов верблюдов и мануфактуру, и чай, и сахар, и конфеты, и...
– Стойте, Шакир Сами!.. – закричал Тишабай ходжа и поспешно прикрыл дверь. – Тише...
– Мы же знаем, тот товар к нам в ширкат прислали из Бухары по распоряжению самого назира финансов. А раз товар прислан благодаря правительству народа, значит, его надо отдать народу, а?
– Отдать? – поперхнулся бай.
– Ну, продать по сходной цене.
– Нет.
«Ой, ой, – думал Тишабай ходжа, – какая ошибка. Не позволяй озябшему подкладывать дрова в очаг, а я! Ай ай!»
Как ни уговаривал бая Шакир Сами, сколько ни просили пайщики, но бай упёрся на своем: «Нельзя продавать. Подождите. Получим распоряжение». Но члены ширката видели, что Семь Глоток растерялся, что бай хоть и спорит, но к чему-то словно прислушивается. А известно, что одну кошку и собака загрызёт, а две кошки и льва напугают. Дехкане сидели целыми днями на айване у бая и уговаривали его. Торопиться им было некуда. Сев закончили, жать было рано, и говорили они долго и много. Голова у бая аж закружилась. Временами он, казалось, начинал сдаваться, но потом на него снова находило упрямство, и он клялся всеми святыми чильтанами, что «не может», «ему не позволено», «он не в состоянии».
Бай приводил тысячи причин и доводов, но только одного он не мог и не смел сказать даже постоянному своему собеседнику, своему отцу, учителю и другу Шакиру Сами. А отцом, учителем и другом Шакир Сами стал для Тишабая с той поры, как его «ревкомство» признали все жители селения Курусай, и не только курусайцы, но и командиры Красной Армии и советские власти освобожденного от басмачей Дюшамбе. Дружба – лучшая крепость, лучшая защита от всех забот. Но как скажешь председателю ревкома Шакиру Сами, что товары, присланные в ширкат, совсем не предназначены для дехкан, что их прислал, как и во многие другие вновь созданные ширкаты, назир финансов, чтобы припрятать от большевиков. Для того и созданы повсеместно по всей Бухаре такие ширкаты из крупных торговцев, баев, арбобов, чтобы разбазарить огромные ценности, принадлежащие Народной республике. Назир финансов в секретном письме на имя Тишабая ходжи прямо писал: «Если мы так не сделаем, у нас всё отберёт чёрный народ. Сохраните товары до лучших времен – и мы вас возвеличим». Вот почему караваны пришли благополучно в Курусай, словно и не следили за всеми дорогами жадные глаза басмачей и бандитов. У каждого караванбаши имелась заветная фетва, которая заставляла самых строптивых курбашей пропускать невредимыми караваны и даже выделять вооруженную охрану. Разве о таких вещах можно хоть слово сказать этому большевику Шакиру Сами?! Горы разрушаются землетрясением, дружба – словом. Настроение у Тишабая ходжи всё ухудшалось. А тут ещё не вовремя приехал его папаша Самад-Кази и стал жаловаться на чёрные дни. Зимой его выгнали с поста казия байсуйского, и он завёл торговлю в Каратаге чаем, сахаром и всякой бакалеей. Из-за неустройств и повсеместного разорения он задолжал ростовщику и приехал просить взай-мы. Дети-де умирают с голоду, жёны болеют. Тишабай ходжа пожаловался на бедность и не дал ни копейки. Отец уехал с проклятиями: «Пусть подохнут все твои десять тысяч баранов, скаред несчастный!» Откуда он узнал про баранов? Ругань – что гром: погремит, погремит – а завтра тихо. Вот насчёт баранов и так старейшины племени Кунград, разагитированные этим, проклятие его отцу, комиссаром из пограничной заставы, поговаривают, что отары теперь принадлежат не ему, баю, а им. Конечно, это ещё посмотрим, но волнений не оберёшься. Совсем испортилось у Тишабая настроение, когда Шакир Сами после длительной напряжённой беседы сказал туманно: «Правильно говорят: «Не ломай дверей дома, куда ходишь», но также говорят: «Решетом крик кишлачников не накроешь», а помнить надо вам, господин Тишабай ходжа: «Стая сорок сильнее тигра». Он ушёл, а бай совсем почернел от огорчения. В словах ревкома Шакира Сами он почувствовал угрозу.
До сих пор Тишабай ходжа верил в своих курусайцев, смотрел на них, как на своих «сынков», а на себя, как на отца. Они слушались его.
«Зачем им против меня идти?! Плотник не украдет сундук, кузнец не украдёт подкову. Курусайцы они, и я... курусаец. Неужто они протянут руку к моему добру? Но...»
Но теперь он задумался. Тихие, смирные курусайцы предстали во время «битвы камней» совсем в ином облике. Оказывается, они умеют показывать клыки. Хорошо, пока они огрызались на бандитов и басмачей. Они тогда даже спасли его, Тишабая ходжу, из лап этого людоеда Батыра Болуша. Спасибо им. Но теперь почему-то в Шакире Сами он увидал угрозу. Да любят ли его курусайцы так, как он думал? Любят ли, как отца? Или... или боятся?
Курусайцы не видели света. И Тишабай ходжа знал, что в этом и его боль-шая вина. Ели они такой хлеб, от которого и волы воротили нос и пренебрежительно фыркали. Хлебом у дехкан именовалась тёмная камнеподобная масса из разломанной лепёшки торчали жёлтая размельчённая солома и недомолотые ячменные зёрна. От такого хлеба у многих начинались желудочные колики, но деваться, как думал Тишабай ходжа, дехканам некуда. Лепёшка за пазухой, живот сытый, а много ли им надо?! Пока они голодные, они тихие и смирные. Голодный ест хлеб с мякиной, бобовую кашу, а сытый начинает вертеть нос и от шашлыка. Поэтому когда у кого-нибудь из курусайцев в очаге варили плов или молочную рисовую кашу, Тишабай ходжа сейчас же посылал в тот дом своего слугу Самеда разузнать: «Уж не разбогател ли тайком от меня, проклятый?..» На сухих землях Курусая рис не родился, покупали его на стороне в Гиссаре, а чтобы купить, нужны деньги, а чтобы иметь деньги, надо рассчитаться с недоимками. Уставившись своими светлыми бесцветными глазами на провинившегося, Самед ласково увещевал: «Грешишь ты перед лицом господина Тишабая ходжи. Разве не ты приложил палец к той расписке? Только безбожник станет набивать брюхо, когда сам должен уважаемому человеку такие деньги. Несчастный, ты совершил кражу, ты вор!» Слово «вор» убивало, так как за воровство в эмирате полагалась смертная казнь, а в юридических тонкостях, конечно, простой дехканин не разбирался. Тишабай ходжа не забывал долгов – ни больших, ни малых. «За один грошик он жилы вытянет, у вдовы из котла поджарки выскоблит». И свое богатство он создавал именно на крохах. Но и став богатым, не изменил привычек.
Он копил и копил, рвал с живого и мёртвого. И курусайцы молчали, а Тишабай ходжа благодушествовал. Он окончательно уверовал в свою мудрость и в глупость курусайцев. Если бы у курицы был ум, стала бы она клевать сор? К началу революции он держал уже кишлак Курусай крепко в своих лапах, и слава о нём как о первейшем богаче пошла по всей округе. Но всякий, кто бывал у него в доме, только пожимал плечами. Жил бай, как последний нищий. Костёр посредине михманханы дымил день и ночь, зимой и летом отравлял воздух угаром. Свет в жильё проникал не через окна, заложенные для тепла комьями глины, а через дымовое отверстие в прочерневшем, прокопчённом потолке, сквозь которое вместе со скудным светом отлично лил дождь и сыпал снег. А когда на ночь дымоход закрывали циновкой, тогда и совсем становилось невмоготу. По небеленым стенам бегали пауки и сколопендры, а в пропыленных насквозь драных кошмах гнездились блохи, которые тоже не доставляли никакого удовольствия. Бай вечно сидел около очага на старом коврике, единственной роскоши, которую он себе дозволил, лениво отгонял мух, повторяя незлобиво: «Ах чтоб вас!» Он не вылезал из михманханы ни зимой, боясь холода, ни летом, ссылаясь на жару. В кои веки он уезжал из кишлака, да и то ненадолго. Кишлачные аскиябозы мрачно острили: «Наш бай сидит на одном месте. Зачем сидеть ему подобно наседке? Затем сидит, что золотые яйца высиживает, падаринга лаъанат! У всех оскомину набивает кислое, у нашего боя – сладкое». Халат он носил и летом и зимой один, ватный, расползающийся по всем швам, а бельё у него потемнело от грязи и пота. Только два раза в год к праздникам «руза байрам» и «курбан хаит» Тишабай ходжа накидывал на плечи новый халат гиссарского шёлка.
Когда Тишабай построил высокий, выше человеческого роста дувал, курусайцы удивились. Ни одна хижина курусайцев ни имела ограды выше пояса, и через такую ограду можно было не только видеть, что делалось во дворе соседа, но и спокойно перепрыгнуть через неё. Пусть перескакивают. Не было такого в Курусае, чтобы кто-нибудь когда-нибудь взял чужую вещь, украл. Никто никогда не вешал замков на двери, да и не знали никаких замков, а Адыл Кривозубый, имевший до приезда бая свою лавчонку в Курусае, уходя на закате солнца домой, задвигал открытую сторону лавчонки досками, входившими в пазы, а в петли засова на последней доске и притолоке всовывал палочку, чтобы доска не выскочила и не повлекла за собой остальные. А когда Тишабай ходжа воздвиг высокие крытые ворота, со сторожками по обеим сторонам, и навесил тяжёлые карагачевые створки с набитыми в них огромными гвоздями с четырёхугольными острыми шапками, тогда все старики сказали в один голос: «Э, да он бога не стыдится. Вон куда, к самому небу лезет».
Для Тишабая ходжи ничего не существовало в мире, кроме его дымной, тёмной михманханы, кованного медью сундука и пыльных кошм. Это был его мир. Так и жил бай от утренней молитвы до чая, от чая до полуденной молитвы. А там и вечерний намаз, и жирный сытный ужин, и тяжёлый сон с кошмарами.
Разбогатев, Тишабай присоединил к своему имени почетную приставку «ходжа» и заявил, что он из сеидов – потомков пророка. Но если бы кто-нибудь мог заглянуть даже не в очень отдалённое прошлое Тишабая, то он обнаружил бы его лет двадцать назад на базаре в Денау, когда занимался он усердным подкладыванием хвороста в печку торговца жареной рыбой. Хозяин не жалел его и день-деньской гонял: подать, принести, помочь, унести. Но все знали, что парень этот – сын Самада-Кази, казня Байсунского, а вот почему казийский сын попал в прислужники торговца жареной рыбой, никто толком не знал. Ходили слухи, что отец прогнал его из дому за противоестественный разврат. Конечно, теперь в белотелом Тишабае ходже никто бы не узнал грязного, оборванного, худого, с лицом, вечно измазанным сажей, слугу торговца рыбой. «Трудитесь, как я, – говорил Тишабай ходжа, – и вы устроите себе такую жизнь, что райские жители вам позавидуют». Но он благоразумно умалчивал о своих занятиях в молодости.
С тех пор как бай стал потомком пророка, он очень любил говорить: «Забота о бедняках, о вдовах, о сиротах – обязанность мусульманина». Вот и ширкат он организовал, чтобы помочь беднякам-курусайцам.








