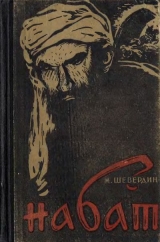
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 46 страниц)
– Иди, я тебе сказал! – заорал он на замешкавшуюся около дверей Жан-нат. Она умоляюще смотрела на доктора, но он только и мог, что кивнуть ей чуть-чуть головой.
Резким жестом обвернув голову камзолом, она кинулась, вся дрожа, из комнаты. Послышалось или нет, но в комнату донеслось рыдание. Сделал движение и Пётр Иванович. Он хотел броситься за молодой женщиной, но Ибрагимбек предупредил его и, положив тяжелую лапу ему на колено, пригвоздил, точно железной кувалдой, к месту.
– Эй, эй, постой, – заревел он, – куда глаза пялишь? Хороша кобылка, да не твоя. Смотри у меня!
Но доктор уже начал понимать Ибрагимбека, его повадки. Резким движением он высвободил колено и, в свою очередь, крикнул прямо в толстощекое распаленное лицо Ибрагимбека:
– Не кричи!.. Если б криком строили, осёл бы целый город построил!
– Что, что? – сразу же сник Ибрагимбек и, тараща глаза, забормотал: – Понимаю, – успокоился он, – для питья хорош кумыс, для веселья хороша девица. Вот подожди, я тебе тоже найду, да не такую... а непросверленную жемчужину, только помоги мне, а? Дай лекарство?
– Что же, я с собой яды всякие вожу? – грубо обрезал Пётр Иванович. Он уже успел оправиться от потрясения и нарочно говорил резко. Груб душой и умом был Ибрагимбек и понимал хорошо только грубости. Он даже уважал тех, кто осмеливался грубить с ним. Пётр Иванович играл на его наиболее чувствительной струнке.
– Э, да что же делать?
– Что?! Прикажи своим бандитам не медля найти мой вьюк и собрать, вернуть всё, что они там в камышах растащили.
– Поистине ты мудро рассуждаешь... А у тебя во вьюке есть такое... чёрное лекарство?
– У меня есть такое лекарство, что человек и не заметит, как перейдёт в жизнь вечную.
– Ого! – протянул Ибрагимбек и вдруг испугался. Он отодвинулся от доктора подальше и прохрипел:
– Слышал?
Доктор удивленно посмотрел на него.
– Непонимающего строишь, а? Хитёр!
– Не понимаю...
– А тут и понимать нечего. Слышал, что поёт Энвер... Этот хитрец хочет заполучить моих локайцев-батыров... воевать с большевиками. Хо-хо! Каждый воображает, что больше других, умнее других. Только... – он подмигнул Петру Ивановичу и вдруг, по своей привычке, подобравшись к порогу, с треском распахнул створки дверей: не подслушивает ли кто?
Вернувшись на прежнее место, он зашептал:
– Ничего... мои мысли рассеялись. Дам тебе коня... Дам тебе денег... Подожди, сейчас поймёшь... Поедешь к большевикам... к Гриневичу повезёшь бумагу.
– Какую бумагу?
– Вот скоро напишу бумагу... Не хочу воевать... этого-того... Хочу с большевиками мириться, а?
Он захохотал. Но, увидев недоверчивую улыбку на лице доктора, смолк и проговорил сухо:
– Не веришь?
– Кто же поверит?
– Э, разве Энвер не враг мне, а? Все знают: мы с ним – верблюд и кошка. Совсем разные. Разве я не просил лекарство для него, а? Этого-того... Чёрное лекарство, а? Разве ты не обещал дать чёрное лекарство, а? Эх, дали б мне волю: тело у него давно бы стало одной головой короче, чем когда он родился! Перстень бы мне... Волшебный, говорят, камень-агат. Сила в нём великая очень... Зачем ему перстень?.. Он и закона мусульманского не выполняет, вино пьет, а когда властитель роняет в пьянство голову, венец падает сам собой. Вот укоротит эта прелестница ему жизненный путь... кольцо могущества на палец надену... А тогда бумагу тебе дам... вестником поедешь... Большевики скажут: правильный человек Ибрагим, великий полководец Ибрагим. Перстень славного халифа Маъамуна у него. С ним надо... этого-того... Только ты, доктор, смотри... этого-того... если я внезапно и непредвиденно помру... с тебя живого кожу снимут и набьют сеном.
Он лукаво, почти добродушно посмотрел на Петра Ивановича, изучая, какое впечатление произвела его предусмотрительность на этого уруса.
– Трудно тебе жить, – сказал совершенно спокойно доктор.
– Почему?
– Да всех ты боишься, не знаешь, кто враг, кто друг. Разве я враг тебе? Ты меня кормишь, чаем поишь... жену обещал.
Перед такой логикой Ибрагимбек не мог устоять. Он засуетился, призвал Кривого, заставил вытащить из-под кровати сундук, сам выбрал халат, правда не из первосортных, и собственноручно набросил на плечи доктора в знак особой милости.
В новом халате Пётр Иванович шёл в отведенное ему, по приказу Ибрагимбека, помещение, поглощённый тревожными мыслями. Из раздумья его вывела воркотня шагавшего за ним Кривого:
– Один горшок, – бормотал он, – упрекает другой за то, что у него дно снаружи почернело. Плохо, когда ругаются великие мира.
Доктор резко обернулся, но Кривой только сумрачно усмехнулся.
Поразительная встреча произошла во дворе. Из мазанки, где помещался Энвербей со своими приближёнными, вышел... Нет, доктор никогда бы не поверил своим глазам. В богатом шёлковом халате шествовал Амирджанов. Нет, Пётр Иванович не ошибся. Правда, борода его стала длиннее и темнее (очевидно он её красил), а чалма больше, но взгляд, липкий, пронырливый, остался тот же. Да и пальцы. Вот пальцы Амирджанов спрятать не мог. Паль-цы его всегда шевелились непрерывно – то медленно, то быстро. А когда ему задавали, если так можно выразиться, трудный вопрос, то пальцы начи-нали бегать всюду: по бортам халата, по груди, по поясу, по краям длинных рукавов, по бороде. Казалось, вот-вот Амирджанов протянет внезапно руки и вцепится этими бегающими пальцами собеседнику в горло. Жадно, яростно! И только когда он находил ответ, упокаивались и пальцы, но ненадолго. Сдерживалось их суетливое движение и тогда, когда Амирджанов складывал подобострастно руки на груди перед тем, как склониться в низком вежливом поклоне. Кланялся Амирджанов уж очень часто, очень низко, по поводу и без повода. Вот и сейчас, с важностью шагая по двору, он сгибался в поясном поклоне, даже когда самый обтрепанный дехканин, запуганный, загнанный, подобострастно произносил ему «Ассалям алейкум!» А ведь Амирджанов, по всей видимости, обладал здесь властью и почётом. Пётр Иванович попытался поймать взгляд Амирджанова, но бесполезно, никак не удавалось заглянуть в глаза, – так они быстро бегали. Всё лицо его выражало скромность, смирение. Холёные усы, прикрывавшие наивно оттопыренные мясистые губы, несколько негритянского склада, прятали хитроватую улыбку.
«Что он здесь делает?» – думал доктор. И, решив во чтобы то ни стало выяснить, в чём дело, Пётр Иванович преградил путь Амирджанову.
– Ба, – проговорил тот добродушно, – и вы здесь?
– Что вы здесь делаете?
– Тсс... пойдёмте посидим... – И он потянул доктора в маленькую, устланную кошмами, довольно грязную каморку. Несколько опешив, Пётр Иванович смотрел на Амирджанова. Нет, Амирджанов ничуть не растерялся, увидев доктора. Перед ним сидел милейший, вежливейший человек, очень культурный, очень утонченный, прекрасный собеседник, типичный горожанин, воспитанный в вежливости, готовый оказать помощь, услугу. С таким человеком приятно посидеть, поговорить. Такого человека ещё приятнее иметь своим спутником в далёком пути...
Но глаза? Вороватые, хитрые глаза совсем с другого лица. Правильно говорят: «Глаза – зеркало души». И чем дольше смотрел доктор на Амирджанова, тем большее недоверие росло в его душе. Таким глазам нельзя верить. Такие глаза могут принадлежать только лицемеру и ханже. И глаза Амирджанова выдавали его. Они говорили: «Не верьте мне. Я совсем не такой, каким бы хотел казаться».
Знал ли это Амирджанов, но он сгибался в поклонах, опуская глаза долу, прятал их от чересчур уж проницательного взгляда доктора.
Амирджанов пытался отвлечь внимание доктора: – Ах, как я беспокоился о вас, дорогой Пётр Иванович, когда узнал... так опасно, так опасно. Но вы теперь нашли себе сильного покровителя, очень сильного! Не правда ли?!
– Что вы здесь делаете?
– Как я рад за вас. Вы приняли правильное решение, Пётр Иванович. Вы теперь сыты и богаты.
– К чёрту, – сказал доктор, – вы лучше скажите, как вы попали сюда?
– А почему?.. Я же мусульманин.
– Вы? Когда вы успели?
– О, давно уже... в Бухаре. Почему, скажете, я принял мусульманство? – усмехнулся Амирджанов. – Чего проще: восток, экзотика, проникновение в самые тайны азиатского космоса. Опять же привлекало многоженство. Вместе с пророком Мухаммедом я мог бы воскликнуть: больше всего на свете я люблю женщин и благовония. Иметь четыре жены! Для моего темперамента – восторг. Иметь гарем! Да меня ещё на гимназической скамье завид-ки брали... Уже тогда нам рассказывали, что султан турецкий имел четыреста пятьдесят две жены, а эмир бухарский – сотни полторы.
Стало ясно, что он гаерничает, и Пётр Иванович резко спросил:
– Сколько вам... дали за вероот... за ренегатство?..
– Какое громкое слово... ренегатство.
– Говорите!
– Да, я обещал... дал слово... Я всё скажу, только помните условие... Что мне оставалось делать в Бухаре, после своего бег... отъезда из Туркестана... когда произошла эта гнусная история... в совнархозе... Мне захотелось в мед-ресе... изучать восточные науки, но мне, естественно, не поверили. Туда допускались только последователи Мухаммеда... Оставался один выход... единственный... ради науки... принять ислам... Формальность, конечно, но...
– А сколько вам дали?
– Ну самую ерунду... так сказать, на обзаведение, Ну там дом с двором, парочку халатов, кисеи на чалму, средства на той.
– На первую жену?..
– А что тут такого?..
– Дёшево же вы продались. А что вы здесь делаете?
– О, – протянул многозначительно Амирджанов, – я закупаю кишки бараньи, коровьи кишки... Представляю германскую фирму «Мюллер и К°»! Разрешите, я на одну секунду...
Он вышел.
Доктор долго ждал его, но Амирджанов так и не вернулся. Пришлось Петру Ивановичу пойти к себе.
Между тем события шли своим чередом. Зять халифа прислал своего мёртвоголового адъютанта к Ибрагимбеку с сообщением, что он согласен сочетаться браком с той избранницей, которую ему нашли, что свадьба должна состояться скромно, но официально и торжественно, как подобает совершиться бракосочетанию главнокомандующего мусульманской армии, генералиссимуса и зятя халифа. Пиршеству подобает быть тоже скромным – число гостей не более пятисот. Разрешение на брак должен дать сам ишан Сеид Музаффар, которого надо срочно вытребовать из Кабадиана.
Скороговоркой мёртвоголовый адъютант добавил:
– Господин зять халифа изволят считать, что бракосочетание может состояться после окончания переговоров по военным вопросам.
– Видишь похоть его... разобрала, – хлопнул по колену доктора Ибрагимбек. – Как наш аскет и праведник торопится прижаться к прелестям красавицы... – Но тут же он спохватился: – Переговоры... видишь, переговоры он хочет вести... – и хитро усмехнулся.
Ибрагимбек проникся такой симпатией к доктору, что не отпускал его от себя ни на шаг. Это имело известные положительные стороны. Смерть не угрожала Петру Ивановичу. Ему вернули почти все его вещи, и, главное, аптечку.
Но мысль о Жаннат не давала покоя доктору. День и ночь он думал о ней... Отлучаться от своей михманханы Ибрагимбек разрешал ему только в сопровождении Кривого, очевидно не совсем доверял своему новоявленному другу. А как хотелось Петру Ивановичу хоть на минутку увидеться с бедняжкой Жаннат ободрить её, посоветоваться с ней. Он напряженно перебирал в своей голове способы спасения молодой женщины.
Дня через три Ибрагимбек устроил пиршество.
Все сидели теперь уже в ярко освещённой михманхане. Здесь был и величественно державшийся Ибрагимбек, и зять халифа, и басмаческие курбаши, и среди гостей он – скромный доктор Пётр Иванович. Шёл пир, настоящий предсвадебный той, «мальчишник», как в душе назвал его доктор. Его снедали самые разнообразные чувства. Мысли метались беспорядочным роем в мозгу. Он стал близким человеком Ибрагимбека. Тот сказал ему: «Мигни – и я любого посажу на кол». Ибрагимбеку очень нужен был урус-табиб, чтобы покончить раз и навсегда с заклятым врагом Энвером. Власть и сила оказались в руках Петра Ивановича, но, увы, в одном он был бессилен. Он ничем не мог помочь Жаннат. Все хитроумные планы рушились, не успев ещё сложиться в мозгу. Временами он стонал от ярости. Хорошо, что его никто не слышал. В михманхане становилось всё шумнее. Особенно буйствовал сам хозяин, накурившийся анаши и пристававший с любезностями то к Энвербею, то к доктору. Язык у него заплетался, и он мямлил нечто невразумительное, требуя, чтобы сравнивали красоту невесты зятя халифа с турецкими и русскими женщинами.
– Кра...са...вицы в Турции есть?.. – гнусавил он. А к-какие у них... этого-того, бедра... а? А русские.... э-э... очень белые вот тут?
Он всё больше распускал слюни, эротические видения туманили ему голову, и он сладострастно начинал расписывать тучные прелести гиссарок и локаек. Казалось, он уже ничего не замечал, окончательно погрузившись в похотливые видения, однако едва доктор путался встать из-за достархана, он наваливался на него всей тушей и бормотал:
– Душа моя, люблю тебя... За правду бьют, за лесть любят... я не такой... этого-того, наоборот... скушай вот этого-того... – И точно клещами цеплялся за его плечо, шептал: – Подсыпь ему... словчи... а я тебя озолочу.
Окончательно ошалевший от мусаласа и духоты, Пётр Иванович только мотал головой и, по правде говоря, уже терял всякое соображение, но вдруг словно что-то разорвалось в его мозгу, и сознание сразу же прояснилось.
– Касымбек!
Кто-то громко произнес это ненавистное имя. Доктор поднял глаза, ожидая увидеть лихого могучего йигита, каким он представлял этого известнейшего и кровожаднейшего курбаши, и ощутил приступ непреодолимой тошноты.
Против него, слегка раздвинув сидящих почтенных гостей, сел шумно приветствуемый всеми человек атлетического сложения в богатом халате и столь же богатом вооружении, украшенном серебряной насечкой с самоцветами. Он не снял с головы лисьей шапки, и тень её закрывала до половины его лицо, прятала глаза.
– Касымбек! Гроза кяфиров – Касымбек, – пьяно хихикая, загнусавил Ибрагимбек, – пожалуйте к дастархану.
С ужасом и отвращением смотрел на басмача Пётр Иванович.
Да, опытным взглядом врача Пётр Иванович сразу установил, в чём дело. Одного взгляда на протянутые в молитвенном жесте «бисмилля и рахман» руки Касымбека Петру Ивановичу было достаточно, но он перевел взгляд на лицо басмача. Теперь свет от керосиновой лампы падал на него сбоку и снизу, и оно хорошо видно. Лоснящийся красный румянец, такие же лоснящиеся, точно намазанные бараньим салом вздувшиеся бугры на безбровом лбу, воспаленные гноящиеся веки, деформировавшийся нос, вылезшие на подбородке и на губе борода и усы. И в голове мелькнул профессиональный термин: «Лепра!»
Нет сомнения, Касымбек – знаменитый басмаческий курбаши – болен проказой.
Всё завертелось перед глазами: блюда с кишмишом, пиалы, дастархан, отвратительное синевато-багровое распухшей лицо Касымбека, лица гостей. И только одна, глупая, банальная мысль назойливо сверлила мозг:
– И он целовал её...
Он не хотел смотреть на Касымбека, но невольно всё время с содроганием взглядывал на его оттопыренные маслянистые уши, на распухшие руки со скрюченными синюшными пальцами, пальцами мертвеца.
Неотступный взгляд доктора беспокоил Касымбека. Он болезненно подо-зрительно относился ко всякому, кто обращал чрезмерное внимание на его лицо. Не один слишком любопытный испытал вспышки его дикого гнева. В родном селении Касымбека, а тем более в его шайке, все предпочитали делать вид, что ничего не замечают. Крупный помещик, владетель многотысячных стад, Касымбек не знал отказа в своих желаниях. Война сделала его хозяином жизни и смерти своих соплеменников, боявшихся его хриплого голоса и мертвящего взгляда больше, чем плетеной из буйволовой кожи плетки и кавказской шашки, которой он в пароксизмах бешенства рубил и чужих и своих. Не один смельчак, отважившийся высказать свои сомнения по поводу странного вида Касымбека, поплатился головой. Поэтому никто и никогда не произносил вслух в присутствии Касымбека слова «махау» – проказа.
Но откуда мог знать такие подробности доктор? С отвращением, смешанным с чисто профессиональным любопытством, изучал он лицо Касымбека, устанавливая стадию болезни, степень поражения организма: «Плохи твои дела, господин курбаши. Тебе давно уже пора в лепрозорий».
– Что ты на меня уставился, проклятый кяфир! – покрыл шум и звон посуды пронзительно сиплый голос Касымбека.
Все сразу замолкли, с тревогой смотрели на Касымбека, а он, упершись ладонями в колени и нагнувшись вперёд, дыхнул зловонием прямо в лицо доктору.
– Эй, хозяин, почему среди мусульман язычник? Позор!
– О... этого-того... не язычник, – зарычал, вдруг совсем протрезвившись, Ибрагимбек, – он мой друг и советник.
– Большевик? – поражённо засипел Касымбек.
– Он великий табиб.
– Убери его, или... – рука Касымбека судорожно прыгала по поясу, нащупывая револьвер. Но Ибрагимбек вломился в амбицию.
– Кто здесь хозяин?.. Я хозяин... Ты ещё молод меня учить, тебе титьку материнскую сосать, а ты... взгляни на себя в зеркало!
– Эй, Ибрагим, смотри, планета Сатурн, как бы высоко ни стояла, солнцем не станет! А мусульманину подобает проявлять довольство дарами аллаха, в том числе и несчастьями.
Лицо Касымбека совсем уже посинело. Он скалил зубы и сипел что-то неразборчивое.
– Молчи, вонючий заика, – зарычал Ибрагимбек.
Почему-то Касымбек вовсе не казался страшным Петру Ивановичу, и он громко сказал, так, чтобы слышали все:
– Ты больной, друг, тебе надо лечиться, друг.
– Ага, Касымбек, видишь?! – забормотал Ибрагимбек. – На плохой лошади больше мух.
Опешив, Касымбек только открывал и закрывал рот.
– Ты болен проказой, махау, друг, – продолжал доктор, – а сидишь за общим дастарханом, разносишь заразу.
Слово «махау» прозвучало в комнате, как выстрел, и все сразу же шарахнулись от Касымбека. Кто-то даже взвизгнул: «Дод, бидод! Караул!»
– Да, да, и мой долг врача – сказать об этом во всеуслышание.
Что произошло дальше, Пётр Иванович помнит смутно. Началось нечто дикое. Всё смешалось в возникшей свалке. Касымбек рвался убить проклятого уруса. Хозяин рычал и призывал своих нукеров. Разбили стекло у лампы, и стало почти совсем темно. Запомнилось мелькавшее в хаосе тел, рук, физиономий недоумевающее, старающееся сохранить невозмутимость лицо зятя халифа.
Кажется, не стреляли, выстрелов Пётр Иванович не слышал, но могли и стрелять, потому что немного позже доктора водили к почтенному бородачу, у которого живот оказался простреленным револьверной пулей навылет.
Когда скандал достиг своей кульминационной точки, чья-то железная рука буквально вырвала доктора из рук душившего его Касымбека и вышвырнула на двор в прохладную тьму локайской ночи. Липкие следы пальцев на шее жгли кожу. Бессознательно поплелся Пётр Иванович, стараясь припомнить, где арык. Ему ужасно хотелось помыться, прежде всего помыться, но он плохо ориентировался. Некого было спросить, басмачи около мяхманханы, изнутри которой доносились душераздирающие вопли. В конце двора доктор почти наткнулся на какие-то шушукающиеся тени и невольно воскликнул: «Кто здесь?» В ответ он услышал робкие возгласы, и тени исчезли.
Мягкие женские руки коснулись его груди.
– Вы?.. Спасите меня!
Инстинктивно Петр Иванович (проклятая профессиональная привычка!) осторожно отстранил молодую женщину и, не скрывая радости, тихо пробормотал:
– Осторожно, Жаннат... я соприкасался с прокажённым...
– Ну и что? Чума, проказа! Что мне до них. Вы здесь. Вы меня спасёте.
– Касымбек... – сказал Пётр Иванович только одно слово.
– Что Касымбек? – удивительно просто и безразлично прозвучал голосок Жаннат.
– Он... ведь ты... он держал тебя два месяца и... он...
Жаннат засмеялась.
«Так говорить, так смеяться!» – подумал доктор.
– О, неужели вы думали!
– Господи, – пробормотал поставленный в тупик доктор, – что ты говоришь?
– А... говорю я то, что говорю. Ты боишься, как бы я не была с... прокажённым, но тебе, значит, всё равно, если б он был здоровым... о... как плохо ты обо мне думаешь!..
Снова послышался странный её смешок.
Из бессвязного торопливого рассказа Жаннат Петр Иванович только теперь узнал повесть о том, как она, вызволенная из касымбековского плена Гриневичем, вновь попала в более тяжёлый плен. Едва Гриневич с Шукуром-батраком уплыли на гупсаре, Жаннат почувствовала себя тоскливо и одиноко. Ещё несколько мгновений в мокрых отбелесках факелов можно было разглядеть что-то тёмное.
В темноте, удаляясь, всплески стихли. Теперь только слышался шум неугомонного Вахша да приглушенный рев далекого перепада в Трубе.
Ветер рвал дымное пламя факелов.
Возбуждение прошло, страх сжал сердце. Жаннат испуганно посмотрела вокруг. Лицо старика-паромщика, обращенное к воде, выражало напряжение и любопытство. Встревоженно смотрел, сжимая винтовку, Кузьма, Он напрягал глаза до боли, точно пытаясь пробуравить темноту. Стояли, пряча лица, крестьяне селения Ширгур.
И вдруг раздались поспешные тревожные шаги. Кто-то бежал по тропинке. Хрипло прозвучал возглас:
– Тушите огонь! Скорее!
Зашипели горящие ветви в воде. Никто даже и не спросил, в чём дело.
В темноте послышалось:
– На горе... в селении сам Касымбек... Слушайте. Откуда-то сверху послышались крики, ржание коней.
В безумном страхе бежала Жаннат через ночь, скалы, горы...
Кузьма вёл лошадь под уздцы. Она спотыкалась, скользила, скрежеща подковами о камни.
– Но, дура! – ворчал где-то в темноте Кузьма.
– Тише, – шептал горец, взявшийся вести их через горы.
Перед рассветом Жаннат задремала в седле.
Очнулась она от выстрела.
В серых сумерках Жаннат различила домики кишлака, каких-то всадников, бегущих людей. Кузьма исчез. Жаннат стащили с коня и втолкнули в хижину.
Бородатые угрюмые лица смотрели на неё, сжавшуюся в комок у очага.
– Кто ты такая? – спросил, повидимому, главарь.
– Я... я... – бормотала в ужасе Жаннат.
– Да это касымбековская женщина, я знаю, – сказал кто-то.
– Пусть идёт на женскую половину.
Жаннат перехватил двоюродный брат Ибрагимбека. Вместе с десятком всадников он пробирался после разгрома своей банды на восток. Он не нашёл ничего лучшего, как преподнести Жаннат в подарок своему брату и тем в какой-то мере искупить позор поражения. По счастливой случайности Ибрагимбек не узнал в Жаннат той самой отчаянной комсомолки, которая осмелилась вступить с ним в борьбу в Курусае. Впрочем, тогда было так темно, что он и не разглядел её.
Сейчас Жаннат жила в ичкари под строгим надзором ибрагимовских жён. Казалось, о её существовании забыли. Но Ибрагимбек недаром имел славу «гали» – пустой. Что, что, а про красивую пленницу он отлично помнил. Очевидно, он приберегал её для себя, когда вдруг в голове его сложился хитроумный план.
– Господи, – бормотал Пётр Иванович, – и нужно же было, чтобы это оказалась ты, Жаннат!
– Там тихо стало, сейчас придут. Что мне делать? – всхлипнула молодая женщина.
– Надо бежать.
– Никуда не убежишь. Увы, скоро меня отдадут турку. Несчастная я.
Шум в михманхане действительно стих. Только громко и пьяно что-то выкрикивал Ибрагимбек: «Этого-то-го!.. Проклятие!»
– Что делать? Что делать? – Пётр Иванович только крепче сжимал руку Жаннат и с тоской пытался зачем-то разглядеть в темноте её глаза.
– Доктор, – заорал Ибрагимбек на весь обширный двор. – Доктор, ку-да ты запропастился?! Кривой, найди доктора.
Послышалось шлепание каушей по двору.
– Прощай.
Рука Жаннат выскользнула из руки Петра Ивановича, и лицо её растворилось в темноте. Точно её и не было.
Тогда-то Петра Ивановича повели к раненому.
– Как я буду его лечить, – рассвирепел доктор, – и без инструментов, без бинтов? Безобразие.
Накладывая повязку на огромное волосатое брюхо стонущего басмача, доктор уже один за другим создавал планы спасения Жаннат, но тут же решительно отвергал их. Отчаяние охватывало его. В ярости он грубо ворочал раненого. С радостью он схватил бы скальпель и распорол бы это покрытое слоем жира в пять пальцев чрево, но опять сказывалась профессиональная привычка – раненый неприятель для врача уже не враг, а больной, нуждающийся в медицинской помощи...








