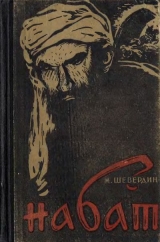
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 46 страниц)
Глава двадцать седьмая. СТЕПНЫЕ МИРАЖИ
Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!
Песня гражданской войны
Следы на степных дорогах занесло. «Афганец» свирепо дул и засыпал костры пылью и песком. Бойцы закрывали головы шинелями, но никто не мог заснуть. Ночь была тревожная. Горячая земля жгла сквозь одежду. Всё тело кололо, точно шипами. Под шинелью нечем было дышать. Пот катился градом, и отчаянный зуд заставлял человека подставлять лицо под ветер.
Днём солнце поливало землю расплавленным огнем. Дула винтовок так нагревались, что к ним больно было притронуться. У коней полопались языки от жажды и кровоточили.
Все искали хоть кусочка тени, притискиваясь к стенкам колодца. Глаза бродили по жёлтой мерцающей степи в поисках пятнышка тени. И тогда в бесчисленных струйках раскаленного воздуха, поднимающегося от земли, крошечный кустик полыни на глазах расплывался, рос и превращался в тенистый тополь, а уехавший версты за две в разведку боец – в целую башню. Всё становилось странным, необычным. Казалось, уже далёкий всадник не едет, а плывёт по небу, а между копытами коня и жёлтой степью разлилась стеклянной гладью голубоватая вода озера. В нём отражается и тополь и башня. Много тополей, много башен. Изумрудные берега озера, осенённые тенистыми садами, омываются прозрачно-голубыми волнами. Даже слышны всплески. Уже выросли в небе покрытые блестящей майоликой дворцы, уже... Но человек шевельнулся... и всё – сады, дворцы, башни и... увы, вода – исчезает. Остается жажда, безумная жажда. Каплю воды, только каплю воды! Но Юнус, прикомандированный к эскадрону для связи, не обращал ни малейшего внимания на миражи и уверенно вёл конников. Да и бойцы не унывали. Они привыкли к лишениям, солнцу, пыли, жажде.
Эскадрон Сухорученко шёл в рассыпную по холмам и долам. Караван с оружием как сквозь землю провалился. Лишь на пятый день после ожесточённой перестрелки удалось перехватить двадцать верблюдов.
Куда шли верблюды, чьи они были? Узнать не удалось. Караванщики-лаучи скрылись. Проверили тюки.
У Матьяша тряслись руки. Он перебирал и раскладывал прямоугольные кирпичики, издавая дикие восторженные возгласы:
– Кармин, настоящий кармин, о господи!
Оторвавшись от разбора нового вьюка с опиумом и наборами опиумных трубок, Сухорученко заглянул наконец, Матьяшу через плечо и с минуту смотрел на его странные маницуляции.
– Что за телячьи восторги?
Матьяш протянул ладонь всё с теми же кирпичиками.
– Понимаешь, роскошь! Настоящий краплак!
– Краски?
– Понимаешь, богатство.
Глаза у Матьяша странно горели. На них даже выступили слезы.
Сухорученко только покачал головой и неуверенно проговорил:
– А ты, что, художник?
– Конечно, конечно! Когда-то давно... очень давно, учился в Венгрии. До пятнадцатого года... немного писал маслом.
И Матьяш сконфузился, но ненадолго.
Он перебирал найденные краски, рассортировывал, раскладывал их в самом что ни на есть должном порядке в ящичке. Потом вытянулся, доложил:
– Ящик красок, акварель... производство немецкое... высший сорт, экстра. Не иначе, товарищ комэск, для топографических карт да чертежей. Тут вот и кисточки нашлись... Отличные кисточки из барсучьего волоса.
– Ну ладно, кончай...
В тюках нашли винтовочные патроны, пистолеты, палатки, коньяк, обмундирование, опиум.
– Наше вам с кисточкой, я теперь караванбаши, – острил Кузьма, прижимая к животу руки и раскланиваясь. – Смотри, какой верблюд, сколько везёт, эка силища. Только осталось хату на его спину поставить и пошёл топать.
Верблюды сильно мешали замедляли движение отряда.
Дромадер пожёвывал губами и поблескивал, как казалось Кузьме, ехидно глазами, шёл размеренной важной походкой и притом так легко, точно нёс на горбу пушинку. Из прямого озорства, Кузьма залез на спину верблюда, на самый верх пирамидой сложенного багажа. Веролюд и тридцать пудов понесёт. Он хотел проверить: сколько ещё может выдержать зверь. Но Кузьма не удержался, «загремел» на землю. К счастью, упал в глубокую пыль и не слишком разбился.
– Какой из тебя караванбаши? – злорадствовал Матьяш, – верблюд – он хитрый. Он любит вежливое обращение.
Поэтому на первом же привале Кузьма повёл своего верблюда поить к колодцу сам. Но каково было изумление бойца, когда вместо того, чтобы жадно кинуться к воде после трехдневной жажды, дромадер, понюхав пренебрежительно воду в ведре, сделал гримасу, жеманно отвернулся и пошел прочь в степь щипать колючку. «Экий барин!» – мог только сказать Кузьма. Колодезная вода всем казалась в первый момент совершенно чистой, но когда верблюд начал привередничать, решили заглянуть в колодец. Многих, выпивших воды, рвало, а проводники плакали. Они решили, что вода ядовита, и ждали смерти.
Вода имела странный привкус. Что-то сладковатое, с запахом серы, селитры и гнили. Даже кони, кинувшись к ведру и сунул в него морду, сразу же переставали пить. Они отбегали в сторону, дрожа всем телом и жалобно смотрели на людей, повизгивая.
– Только что кони дрались, грызлись из-за воды, а пить не хотят, – проговорил Кузьма и заглянул в колодец.
– А ну-ка, что там?..– сказал Матьяш и тоже повис над отверстием колодца.
– Не иначе вода отравлена. Конь мой плохое чует, он местных кровей, – мрачно отозвался Кузьма. – Он – мой конь – азиат. Всё знает.
– Что там? – спросил Сухорученко.
Но разглядеть что-нибудь Кузьма и Матьяш не могли. Подошёл Юнус. Он притронулся губами к воде и сразу же сплюнул. Заглянув в колодец, он вдруг сел и начал снимать сапоги. Разувшись и сняв халат, Юнус обвязался веревкой и полез вниз. Когда голова его уже оказалась на уровне края колодца, он сказал: «Подергаю веревку – тащите». – И исчез.
Очень скоро из глубины колодца послышался неразборчивый возглас. Веревка задергалась. Бойцы потянули её с усердием. Долго шуршала веревка, а снизу доносился монотонный голос Юнуса.
– Молится, что ли? – спросил сам себя Сухорученко. Наконец над краем отверстия показалось растерянное, посеревшее лицо Юнуса с трясущимися губами.
Ни слова не говоря, с помощью красноармейцев он выбрался из колодца и свалился рядом с ними.
– Что такое? – испугался Матьяш, но Сухорученко знаком заставил его замолчать.
– Ну, уважаемый Юнус, что там? – спросил он.
– Беда, товарищ! – простонал, отдышавшись, Юнус,
– Что такое? Ты там сатану увидел?
– Беда, – повторил Юнус, – там, о аллах! Там люди. – От этого слова у всех похолодели руки и по телу прошёл озноб. Преодолев душившую его спазму, Сухорученко задал вопрос:
– Какие люди? Кто?
– Мертвецы. Один под водой совсем, другой сверху. Очень плохое дело... – И, помолчав, добавил растерянно: – Вода не годится.
– Ах, так их растак. Кто же это сделал? – пробормотал Сухорученко. Он посмотрел на степь, на далёкие чуть желтевшие возвышенности, на небо. И сразу же в мозгу зашевелилась навязчивая мысль: а где наше охранение? Уже два дня от посланных вперед пятерых разведчиков не было ни слуху ни духу.
– Сколько их там? – спросил он уже дрогнувшим голосом.
– Двое.
– Ты точно знаешь?
– Да, я щупал руками.
– Что ты скажешь?
– Я скажу, – медленно проговорил Юнус, – что это... Я подумал, что там Файзи, но нет. Я скажу вот что: у них не узбекская одежда. Вот что я скажу.
– Почему ты думаешь?
– У нас ворот рубахи вот такой, – и он провел пальцами по круглому вороту рубахи с боковым разрезом на левой стороне груди, – а там... у них... он вздрогнул от ужасного воспоминания,—от такой, как у тебя... товарищ.
Юнус пальцем притронулся к отложному воротнику с нашитой синей петлицей командира.
Все стояли растерянные, понурив головы. И все теперь думали о товарищах, не вернувшихся из разведки... Но здесь двое... кто же? А остальные? Они озирались изподлобья, поглядывая на степь, такую мирную до сих пор и надвигающуюся с неведомой угрозой сейчас, когда они узнали, что колодец превращён в могилу. Кузьма вскочил на колодец и стал смотреть вдаль.
– Стать смирно, – внезапно приказал Сухорученко, – вызываю добровольцев.
Послышались голоса: «Я!» «И я!»
Подъём тел погибших из колодца не занял очень много времени.
Худшие опасения оправдались. На дне колодца оказались убитые, замученные жестокими пытками два бойца из числа разведчиков. Тление только коснулось их лиц. По следам пуль, обнаруженных на их теле, Сухорученко сразу, же установил, что оба бойца попали в плен тяжело раненными. Басмачи долго пытали их, прежде чем прикончить, а затем, чтобы отравить воду, бросили тела в колодец.
– Они знали, что мы идём за ними, начальник, – сказал Юнус, – они бросили их в колодец, чтобы устрашить нас, посеять в душе нашей малодушие...
Похоронив с воинскими почестями погибших, отряд пошёл дальше.
Жаркий ветер «афганец» гнал в тишине степей мимо одиноких холмиков песок, катил с лёгким трескучим шорохом клубы иссохшего перекати-поля.
Далеко на востоке таяло белесое облачко пыли...
Венгр Матьяш был недоволен. Ему, как и Кузьме, никак не хотелось возиться с верблюдами. Отряд ушёл вперёд. Далеко позади маячили конники охранения. Цепочка верблюдов ползла внизу по долине.
Природный конник, Матьяш никак не мог оставаться спокойным. Он то скакал вперед, то мчался на вершины холмов, то возвращался.
– Э, да ты коня вымотаешь, друг.
– Разве это конь? – сердито ответил Матьяш. – Разве наши унгарские огненные лошадки такие?! Смотри, ваш русский конь сырой... тамбовский выкормыш.
– Ты тамбовских не трогай... У меня дед тамбовский. Смотри, какой кра-сивый конь, орёл, а не конь...
– Красивый, красивый... Конь не женщина, чтоб его за красоту хвалить... Мне крепкий конь, быстрый конь требуется. А это что за копыта? Разве по камням он пойдет?
– Ковать надо вовремя! – заметил Кузьма. – А конь хороший, справный...
– Конь, конь... Без зерна в горах обезножит, в песках без воды подохнет. Лучше уж киргизская лошадка. Неказиста, да куда там, бежит себе и бежит... Или вот твой гиссарец! Мне бы такого, Кузьма.
Матьяш ворчал и был, пожалуй, прав. Конь его, привезённый с далёкого севера, неважно переносил и жару, и безводье, и лишения. Но он ещё ни разу не подводил своего хозяина, неистового венгра Матьяша. Да в душе Матьяш и гордился своим красавцем, его выгнутой лебединой шеей, его сухими ногами, крепкой мускулистой грудью, великолепным галопом и размашистым шагом. И хоть конь с непривычки не так уж спокойно вёл себя на головоломных скальных тропах и вяз в песках, изнывал порой в жару и зной, но Матьяш только энергично выругается и примется ходить за конем, как за малым ребёнком. Сам после длительного марша с ног валится, а коня водит, фураж добывает и, пока не напоит в положенное время, не заснёт. На ночлеге раза два-три ночью вскочит, посмотрит, всё ли в порядке. Матьяш не допустит, чтобы его коню мокрец прикинулся или какая-то там другая болезнь. Не допустит он с конем и ни малейшего баловства: зря коня не гоняет наперегонки, попусту не скачет. Зато и конь всегда в норме, всегда здоров – глаза весёлые, и селезёнка на рыси ёкает. К Матьяшу не раз подкатывались и бойцы и командиры: «Сменяй коня. Зачем тебе такой?» Меняли на хороших коней да с придачей. Но Матьяш ничего и слушать не хотел. Придёт, бывало, после такого разговора, обнимет коня за шею, приложится к бархату кожи и загрустит. Погрустит, погрустит, вздохнёт: «Эх, полетел бы на тебе к берегам родного Дуная!» – и пойдёт. А конь, точно поймёт, заржёт ему вслед так тихо, нежно.
– Эх, мне бы твоего коня, – повторил Матьяш, и в голосе его звучала самая откровенная зависть.
– Конечно, – самодовольно протянул Кузьма, – конь справный. Да только такого заслужить надо.
Конь Кузьмы составлял предмет зависти всего эскадрона. Даже Сухорученко – и тот довольно недвусмысленно пытался под всякими благовидными предлогами того коня заполучить, но Кузьма был непреклонен. «Конь дарёный! – говорил он. – Не дам!»
В тот день, когда Кузьма вместе с Жаннат спасались от басмачей Касымбека, они неожиданно в маленьком горном селении наскочили на джигитов двоюродного брата Ибрагимбека. Ошалел Кузьма до того, что не успел даже стащить с плеч карабина. Одним прыжком он перескочил каменную ограду и, петляя, как заяц, ушёл в камни и скалы огромной горы, высившейся над самой дорогой из Пуль-и-Сангина в Конгурт.
Недолго пришлось отсиживаться Кузьме. Уже в полдень он увидел разъезд своих.
Ему не очень влетело от комэска Сухорученко за коня по той простой причине, что после ожесточённых боев за Пуль-и-Сангин среди трофеев оказалось много огненных, великолепных коней. К тому же жители освобождённого Гриневичем от басмачей кишлака, увидев Кузьму, объявили его народным батыром, а победителей не судят. Весь день и половину ночи, пока эскадрон стоял в кишлаке, Кузьму водили по хижинам. Старухи ловили его руки, пытались целовать ему ноги, старики усаживали за дастархан на самое почётное место и смотрели ему в глаза, а единственные два музыканта кишлака – сурнайчи и нагарачи играли непрерывно до того, что от усталости падали с ног. Кузьма, хоть и имел поистине сибирский аппетит, но под конец запросил пощады. От изобилия плова, жареного и вареного козлиного мяса, его распирало и ему казалось, что вот-вот он лопнет. А благодарные кишлачники все потчевали его, уговаривая: «Попробуйте вот этого, не обижайте нас». Счастье, что в полночь эскадрон поднялся по тревоге. Далеко провожали батыра Кузьму и стар и млад. Перед ним джигиты вели на длинных поводьях отбитого у басмачей Касымбека чудного, глазастого коня в богатом чепраке и белой попоне. Долго ещё дехкане кричали: «добрый путь тебе, храбрый Кузьма-батыр!»
Коня Кузьма заслужил, как он говорил, в честном бою, любил и холил его. Он даже мечтал взять его с собой после демобилизации в Сибирь.
Матьяш и Кузьма лежали на травке, выбившейся из скудного слоя почвы, на самом краю скалы, поджидая замешкавшийся где-то внизу караван, наслаждались так, как только могут наслаждаться травой, голубым небом, чистым воздухом, бездумным покоем два солдата после тысяч дней ратного труда, едкого пота, после тысяч суматошных бессонных ночей. Лежали друзья на довольно жёсткой земле, поросшей горной короткой травкой и вдыхали полной грудью горный, густой от запахов цветов и мяты, воздух.
Матьяш и Кузьма – охотники. Они вызвались осмотреть холмы влево от дороги. Много часов ехали они по бараньим тропам, по скалистым откосам, по камням и щебенке.
Кони пристали...
На перевале решили передохнуть. Выбрали местечко поудобнее, в укрытии. Самих не видно, а кругом всё как на ладони.
Прохлада, ветерок, жара спала...
Лежи себе, отдыхай.
Что-то говорит Матьяш. Опять хвалит свой Дунай.
Перед глазами расплавленное серебро, слепит.
Веки опускаются сами собой. Глухо бубнит голос Матьяша...
Медленнее, тише...
И вдруг...
А потом все как в дурном, бредовом сне...
На них обрушились удары. Их гнали бегом, подгоняли. Били с рычанием, гиканием, присвистом по плечам, спинам, головам. Сухо трещали нагайки, точно по выделанным кожам, а не по живому телу. Каждый раз сдавленный стон вырывался из груди, хотя от обжигающего удара стискивались зубы, сдерживая безумный вопль боли.
– Ух! Ух! – рычали басмачи, и красные воспаленные физиономии их обливались потом от усилий, усы и бороды взмокли, а рты с жёлтыми зубами перекосились и заслюнявились от сладострастия.
– Ух! Ух! – сыпались удары.
Жгучая боль в спине и плечах потухала, туманилось сознание от ошеломляющих ударов по голове. «Сволочи, мародеры! Сапоги-то неношенные были!»
И вдруг новая мысль:
«А зачем тебе сапоги... на том свете?..» И снова удар, от которого вертелись и скалы, и зелёные чинары, и рыжие валуны, и щебнистая дорога.
И снова: «Ух! Ух!»
Их гнали, били, волокли.
И вдруг всё прекратилось и вопли, и стоны, и удары, и безумный бег на арканах за скачущими лошадьми. Осталась только саднящая боль, тошнота да дрожь в ногах, в бедрах, в животе, во всём теле.
«Боюсь... кажется! Мать иху...» – подумал Седых и так встряхнулся, что волосатые арканы напряглись на плечах и заскрипели. «Что ты, брат, боли не пробовал!» – тут же сконфуженно пробормотал он и резким движением стряхнул в сторону от глаз свой лихой казачий чуб. «Н-нет, гады!»
– Ты чего говоришь? – хрипло, со стоном, проговорил Матьяш, – зачем говоришь? Унгар не говорит с врагом, унгар вот так поступает с врагом!
И Матьяш с силой плюнул в возникшее из багрового тумана лицо, тонкое, длинное, с длинным горбатым носом, оттенённым чёрными полосками усов. «Турецкое лицо!» – успел только подумать Седых, и тотчас же «турецкое лицо» исказилось в невероятно яростную гримасу, и снова сиплым свистом ворвались в уши слова:
– Сожгу живьем!
– На, на! – завизжал Матьяш,– на! – и турок отпрянул, вытирая щеку тончайшим батистовым платком. Кузьма явственно почувствовал запах духов и хорошего табака.
– Гадина, буржуй, беляк! – выпалил Кузьма и грузно, с хрустом, всем телом повернулся на турка.
– А-а! – закричал тот. – Остановите... Что же вы!
– Эх, – снова взвизгнул Матьяш, – во рту пересохло, слюней нет, я б тебе, турку-мерзавцу, обложил твою турецкую морду...
С вскинутыми вверх нагайками надвинулись здоровяки-нукеры, и Кузьма невольно зажмурился: «По глазам будут бить»! Но ударов не было, и опять можно было открыть глаза.
Турок всё так же платочком вытирал щёку. Повернув к нему свое почерневшее цыганское лицо, Матьяш выкрикивал:
– Бей, жги! – На-пу-гал! Подумаешь! Я солдат, я воин... Сотни лет мои предки мадьяры-воины сражались с турецкими насильниками. Какой воин без боли, без страдания! Подумаешь! Жги! Басса макути озанилси трем те-те... Скольким турецким недоноскам мои предки кишки вымотали... Хо! Хо!...
Брезгливо отбросив платочек в сторону, турок выпятил высокую грудь. «Опреденно в корсете, буржуйская сука!» – мелькнуло в голове у Седых..
– Я есть Энвер-паша, понять есть? Стать смирно! – протянув руку, ломая слова, прокричал по-русски турок.
– Еще чего захотел! – рявкнул Кузьма. – Видали «мы почище тебя – и то «смирно» не вставали.
– Я паша, я генераль!
– Как ты сюда вдруг залез в Бухару? Нам своих беляков-генералов предостаточно, а тут ты ещё на шею навязался.
Но турку было не до Седых. Всё лицо его дёргалось и прыгало от гнева. Он снова тёр ладонью щёку. Ему, видимо, мнилось, что плевок въелся в кожу. Он протянул палец с красным, наманикюренным ногтем в сторону Матьяша и выкрикнул:
– Кто ты есть?
– Солдат, – мрачно процедил сквозь зубы Матьяш, – красный боец! Ещё чего тебе, стамбульский стервятник?
– Твой национальность!
– Унгар, венгр! Слышишь, дрожи, трепещи! – завизжал совсем дико Матьяш. – Дрожи, как дрожали турки, когда их гнали от Будапешта.
Он произнес название родного города с наслаждением, врастяжку, широко раскрыв рот.
– Будапешт! Пусть слышат все! – кричал Матьяш. – Пусть слышит небо, пусть слышат горы, пусть слышат люди. Слушай и ты, турок, Буда-пешт! Будапешт! Ура Будапешту!
Сам не зная почему, просто поддавшись минутному настроению, Кузьма крикнул, вторя Матьяшу:
– Ура Будапешту! Ура! Ура! Долой турок!
С побелевшим лицом, Энеер-паша пытался перекричать пленных бойцов. Он прыгал, махал руками.
– Будапешт, Будапешт! – кричали Седых и Матьяш, прислонившись плотно плечом к плечу.
– Взять их! – наконец крикнул турок.
Бородачи кинулись к пленникам.
– Бей, – вдруг заорал Седых и ногами, плечами расшвырнул басмачей, тянувших руки к Матьяшу и к нему.
В свалке оторвали его от Матьяша, ошеломили. Всё провалилось в тьму.
Первое, что он сообразил, приходя в себя, – был звук, от которого холодно стало на душе у сибиряка Кузьмы Седых. Что-то хрястнуло, и послышался стон, такой жалобный, что Седых слезы прошибли, и он, делая невероятные усилия, начал подниматься на ноги. Ему никто не мешал. Все – и басмачи и Энвербей – смотрели в сторону. Теперь и Седых увидел...
На большом красном камне был распят, распялен полуобнаженный человек. Всё тело его сводили судороги. Желваки мускулов ходили и прыгали под тёмной кожей. Лицо было изуродовано гримасой боли. Не сразу Кузьма сообразил, чье это лицо.
– Матьяш! – охнул он и, шатаясь, сделал шаг к нему.
Тут только он понял, почему кахмень красный.
Из обрубка руки Матьяша толчками вырывалась кровь, а бледный; с трясущимися губами басмач уронил из руки саблю, и она, звякнув, упала на камень.
– Руби, ещё руби! – выкрикнул Энвербей. – Четвертуй венгра!
Но неизвестно почему, то ли потому, что палачи были новичками и не привыкли к крови, то ли мужество Матьяша потрясло их, но они бессильно опустили руки, и венгр, всё ещё судорожно дергаясь, начал сползать с камня... Он сползал, закрыв глаза и скрежеща зубами от боли, держа на весу обрубок руки, из которого лилась на камень, на серебристую полынь, на голубые цветы алая кровь, и, наконец, сел, подогнув отнявшиеся ноги и склонив голову на грудь.
Шатаясь и мотая головой, Кузьма сделал шаг, поднимая пудовые ноги.
Молчали басмачи. Энвербей тупо смотрел перед собой, рот его беззвучно открывался и закрывался.
В безмолвии, нарушаемом только шумом и звоном ручья, послышался голос, неправдоподобно ясный, чистый голос:
– Будапешт! Родной Будапешт! Посмотри на Матьяша!
Изувеченный, изнемогающий Матьяш поднял правую руку, смочил ладонь в крови, лившейся из страшной раны, и начал поднимать руку к лицу. Медленно-медленно поднялась рука, и пальцы коснулись щеки... Затрепетали...
– Что он делает? – прохрипел кто-то.
Матьяш провел со стоном ладонью по одной щеке, по другой, окровавил лицо и только тогда открыл глаза – свои карие, полные огня глаза – и, обведя тупые звероподобные лица, тихо, но отчетливо сказал:
– Вот, смотрите. Когда уходит из тела кровь, лицо бледнеет. Нельзя! – сказал рыцарь Ференц,– подумают, человек струсил. Ещё подумаете, Матьяш струсил... Нет, смотрите... Мое лицо румяно, мое лицо красно! Нет, Матьяш не струсил... Рубите меня... – Голос его становился всё слабее. – Венгра... воина... большевика...
Взвизгнув что-то неразборчивое, Энвербей поднял руку, но скомандовать не успел.
Седых доплелся уже, Седых был рядом. В диком напряжении сибиряк развернул плечи. Невероятное случилось. Верёвки лопнули.
– Ага! Полундра! – завопил Кузьма. Энвербей перевернулся от удара, потерял равновесие и, кувыркаясь с камня на камень, покатился под откос к ручью.
Расшвыряв ошеломленных, обезумевших нукеров, Седых поднял на руки окровавленного Матьяша и поплелся по тропинке.
– Небось, небось, друг, – бормотал он.
Он шёл, наклонив голову к лицу Матьяша, и всё бормотал: «Небось, небось».
Ему безумно было жалко весёлого, пылкого Матьяша. И слёзы из глаз капали на щёку венгра, смешиваясь с кровью...
Он шёл, не глядя куда идет, и плакал... Шёл и плакал.
– Эх, Матьяш!
Под ногами его возник провал. Сквозь туман, застилавший глаза, он видел далеко-далеко внизу, на дне ущелья, бело-серебристую ленточку реки, игрушечный мост, кишлачок, всадника...
– Хэ-х-... – усмехнулся Седых, – словно муха...
Кто-то крикнул сзади: «Эй, стой! Куда?» За спиной под ногами бегущих затрещали камни, щебёнка.
Седых сжал в объятиях Матьяша и шагнул вперед, в пропасть.







