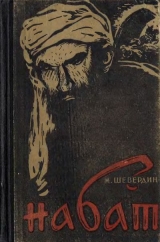
Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 46 страниц)
Глава двадцатая. ШПИОН
Жалко слова на глупого,
жалко взгляда на дурного.
Узбекская пословица
Хаджи Акбар, сделавшись проводником Красной Армии, держался с Сухорученко запанибрата, но весьма почтительно. Грузный, неуклюжий, он бежал на зов комэска не иначе как вприпрыжку, чем немало потешал бойцов... «Держи пузо – потеряешь!» – кричали они ему вслед. Но Хаджи Акбар не обижался.
Он никогда не позволял себе возражать комэску, не смел указывать, а только, прижав ладони к животу, сладеньким голоском мямлил: «Не соизволит ли ваша милость... те-те... задуматься над нашими ничтожными мыслями?»
И сегодня, когда он заговорил, голос его журчал и плескался, точно горный ручеёк. Сухорученко даже не сообразил сразу, что в словах этого чёртового проводника имеется «хреновника».
– Волей всевышнего, Сулеймана-эфенди расстреляли. Видно нехороший человек был.
У Сухорученко даже сердце, по его смачному выражению, «хлобыстнуло». Хоть и не мало прошло с кабадианского рейда, а история с базарным вором или военкомом Термеза, «чёрт его разберет», нет-нет да всплывала в памяти, чтоб лягушки его залягали, этого эфенди. Не досмотрел тогда, по дороге из Кабадиана в Дюшамбе, за ним Сухорученко, сбежал турок, ловкачом оказался. Ну и черт бы с ним. Но вот беда, не сдал тогда Сухорученко командованию письмо, которое обнаружилось у Сулеймана-эфенди и которое переводил ему на кабадианском базаре дервиш. Забыть комэск не забыл, но чего возиться с какой-то заупокойной молитвой. Тем не менее червячок сомнения грыз и грыз потом. Не во всём Сухорученко поступил правильно. А вдруг там не молитва, а что-нибудь другое? Вдруг дервиш, переводя, обманул. Сухорученко невольно схватился за нагрудный кармашек гимнастерки, где уже много месяцев намокало в поту и прело письмо, и подозрительно глянул на ухмыляющуюся рожу Хаджи Акбара.
– Больно ты палава жрёшь много, лопнешь... А насчёт того турка, ты к чему?..
– Я считал... те-те... я думал, вы его, командир, знали?
– Ты что? Меня на пушку взять хочешь?
Не нравились Сухорученко лукавые огоньки в глазках-щёлочках Хаджи Акбара. И правильно, что не нравились. Покряхтев, Хаджи Акбар сказал:
– Плохой человек был турок Сулейман, подлец, вероотступник. Правильно его большевики того... те-те... Теперь других предателей ищут... у других допытываются, кто ему помог сбежать.
– Э-э, – возмутился Сухорученко, – не на такого попали, – и неожиданно пропел:
«Не волнуй меня, Маруся,
Не волнуй, тебя прошу.
Я и так уж всю неделю
Разволнованный хожу!»
Почтительно выждав, когда командир закончит своё вокальное упражнение, Хаджи Акбар ухмыльнулся:
– Конечно, я вожак каравана, глупости... но они опасные люди, плохие люди! Играют... мало-мало, с инглизами, плохо играют. Человек, именующий себя Сеидом Музаффаром, совсем не Сеид... совсем не шейх... совсем не Музаффар.
– Ну тебя со всякими твоими попами. Короче давай!
– Он... инглиз.
– Ты откуда знаешь? – Сухорученко всем телом повернулся к собеседнику.
– Знаю, – прыщавое лицо Хаджи Акбара отражало скромное удовлетворение, он понимал, чем можно взять Сухорученко. – Лишь тот, кто обожжётся, знает силу огня. Я всё знаю, на то я и проводник доблестных красных аскеров... В кишлак человек приехал. Мало-мало уполномоченный из Бухары. Всё рассказал. Мандат у него, есть арестовать Сеида Музаффара.
Мандат у уполномоченного оказался по форме. В нём было сказано:
«Именем революции тов. Амирджанов уполномачивается Назиратом Внутренних Дел и Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией немедленно арестовать и доставить в Бухару человека, именующего себя Сеидом Музаффаром».
Имелось в мандате обращение ко всем командирам воинских частей оказывать содействие уполномоченному Амирджанову в выполнении его ответственного оперативного задания.
Печать, подписи были в порядке.
– Экое падло этот ишан! – разволновался Сухорученко.
Хаджи Акбар и Амирджанов чуть заметно переглянулись.
– Очень опасный, очень хитрый, простым ножиком женский волос вдоль разрежет, – пробубнил толстяк.
– Льщу себя надеждой, что вы мне поможете, – заговорил Амирджанов. – В назирате вы, товарищ Сухорученко, на хорошем счету. Вам можно доверять дело государственной важности.
Шкуру свою Сухорученко считал непробиваемой для лести, а тем более от Амирджанова. Про него ему было известно, что демобилизован он из особого отдела не совсем хорошо, но всё же слова его точно смазали ему всё внутри. Он шумно откашлялся, чтобы скрыть смущение, и громогласно осадил собеседника.
– Ну-ну!
Но Амирджанов с важностью продолжал:
– Позвольте быть откровенным. Ишан или человек, именующий себя ишаном, совсем не ишан. Этот человек... – Амирджанов многозначительно прищурил глазки, – английский шпион, подосланный в Кабадиан вредить Красной Армии. Все басмачи – под его рукой. Получают от него винтовки, деньги.
Сухорученко вскочил.
– Дело вы подсудобили, мое почтение. Он крикнул в дверь:
– Седлать!
Снова Хаджи Акбар переглянулся с Амирджановым, но комэск ничего не заметил. Охотничье возбуждение трясло его.
– Вы собрались ехать? – спросил Амирджанов.
– Да, надо... Съезжу в комендатуру, к Пантелеймону Кондратьевичу.
– Вы что, кошка, которую заставляют плясать для кого-то? – со смешком проговорил Хаджи Акбар, – Пантилимон далеко. Разве такой командир, как вы, сам не может поймать какого-то шакала-ишана? Давайте своих героев, ловить будем.
– Это ещё как? До Кабадиана сколько киселя хлебать.
– Зачем Кабадиан? – проговорил Хаджи Акбар. – Сегодня собака Сеид Музаффар ночует в кишлаке Хазрет-баба в трех сангах отсюда. На рассвете выехал из Акмечети. К вечеру будет молиться на могиле Хазрета.
– Молиться, говоришь?
– Да! Видишь, командир, и плов ем, и дело знаю, – толстяк усмехнулся. И злая же это была усмешка, но Сухорученко опять ничего не заметил.
Что-что, а по части конского состава за эскадроном Сухорученко угнаться было трудно, и двадцать с лишним верст до Хазрет-баба, что лежит среди лысых, сожжённых пламенем солнца круглых холмов у вечно шумящего Кафирнигана, конники проскочили за какие-нибудь три часа. Селение Хазрет-баба оказалось крохотным: дувалы, клетушки, двор мечети, обсаженный урюковыми деревьями байский сад за высокой оградой, груда кирпичей – остатки какого-то надгробного сооружения.
– Слезай, шут гороховый, приехали. Арестую я тебя, – гаркнул Сухорученко, схватив за повод коня ишана Сеида Музаффара, как раз в тот самый момент, когда тот – запылённый, усталый – въехал по каменистой дороге в кишлак.
– Салям алейкум, командир! – поздоровался невозмутимо Сеид Музаффар. – Забыть твоё лицо можно, а вот громыхание твоего голоса – никак...
– Ба, да это ты, языкатый монах... Переводчик чёртов! – воскликнул совершенно поражённый Сухорученко, узнав в ишане кабадианском дервиша, переводившего ему письмо, найденное у Сулеймана-эфенди. – Попался. Теперь-то я узнаю, откуда ты по-русски знаешь, английская шкура. А ну, слазь!
Ишан кабадианский только расправил пальцами бороду, не торопясь, не теряя достоинства, слез с коня. Да и что мог он сделать, когда живая ограда из бойцов обступила его и немногочисленных мюридов.
– Что бояться нам, у которых совесть чиста! – пробормотал он.
– Обыскать! – скомандовал Сухорученко. И тут же воскликнул: – Ага, и винтовочки-то британские, и револьвер. Порядочек.
У схваченных отобрали оружие и повели их в сад местного бая. Подымаясь по каменным плитам к воротам, Сеид Музаффар вдруг остановился. Он смотрел пронизывающе и страшно на Амирджанова, выдвинувшегося из-за спины красноармейца.
– Кто садится меж двух сёдел, у того зад на земле, – проговорил с ненавистью ишан, – недолго будешь ты обманывать и одних и других.
И он быстро добавил что-то, чего Сухорученко не понял. Амирджанов мгновенно исчез, растворился в сумраке.
– Давай, давай! – зашумел Сухорученко. – Разговорчики отставить. Шухмиться не позволю. В трибунале наговоришься!
Но комэск напрасно торжествовал. Уже через десять минут он стоял на крыше и со злобой, смешанной с удивлением, взирал на бьющееся море чалм и шапок, запрудивших горбатую улочку перед байским домом. В вечернем воздухе стоял стон от угрожающих воплей.
Горцы пришли требовать ишана кабадианского.
Ни к чему не привели попытки успокоить толпу. Трубный глас Сухорученко тонул в нарастающем реве. Ворота сотрясались и качались под напором спин и рук.
Хаджи Акбара, вышедшего к толпе, забросали навозом и камнями.
– Ну и баня! Сбесились они, что ли? – спросил Сухорученко у Амирджанова, спустившись с крыши и зайдя в михманхану, где дымил костер. Лицо Амирджанова так побледнело, что казалось зелёным.
– Убить ишана! Они ворвутся… освободят. Если не убить, он прикажет нас убить. Ох, если убьём его, нас растерзают.
Амирджанов был вне себя от ужаса, он говорил невнятно, неразборчиво, сам не понимая, что говорит.
– Посади ишана на лошадь, окружи солдатами и давай... скачи из кишлака, – выдавливал из себя Хаджи Акбар. Он сам был напуган. Толстые, рябые от угрей щёки его покрылись пятнами.
– Скорее! – взвизгнул Амирджанов. – Они сломают ворота. Дайте команду расстрелять. Разрешаю именем Республики. Мой мандат...
– Иди ты к... – грубо сказал Сухорученко. Как всегда, опасность сделала его рассудительным. – Твой мандат мне сейчас ни к чему, бумажка!
– Что? Теперь вы, командир, отвечаете за него. Если упустите, то...
– Договаривай!
Он так сказал, что Амирджанов отшатнулся.
Но рёв в кишлаке нарастал.
Вдруг Сухорученко вспомнил. Лихорадочно порывшись в кармашке гимнастерки, он достал слежавшуюся замусоленную бумагу и сунул под нос Хаджи Акбару:
– Читай!
Уже первые строчки заставили толстяка буквально выпучить глаза.
– Здесь... те-те... – зацокал он, – вонючее письмо... оружие... инглизы... золото... ой-ой-ой.
– Перевод давай! – сдавленным голосом, задыхаясь, выдавил из себя Сухорученко.
Но взрыв криков, треск ломающихся досок заставили его выскочить во двор.
– Пали в воздух! Гони их! – скомандовал комэск бойцам, залегшим на крыше и у ворот. Под гром выстрелов он, весь дрожа от злобы, кинулся к низкому помещению в глубине двора. Оттолкнул часового и вскочил в полутёмную каморку. Посреди неё сидел ишан кабадианский. Несмотря на духоту, он зябко кутался в ватный халат. Глаза его взметнулись, и, чёрт побери, мог поклясться Сухорученко, в них метались иронические огоньки.
– Обманывал меня, шпион! Ты шпион, сукин сын! – брызгая слюной, прохрипел командир и помахал перед самым лицом Сеида Музаффара письмом.
Ишан поднял голову и тягуче, с расстановкой проговорил:
– Сплетня унавоживает кичливый ум. Есть китайское правило: на пленника не кричи, пленника не ругай.
В голосе его звучала такая убежденность в своей правоте, что Сухорученко сразу же остыл.
– Зубов не заговаривай, ты, английская морда.
– А ты живого англичанина видел?
Сеид Музаффар смотрел так, что Сухорученко почувствовал себя провинивщимся мальчишкой.
– Ты обманщик, – вдруг взорвался он, вновь вспомнив про письмо. – Ты наврал мне насчёт заупокойной молитвы...
Сеид невольно усмехнулся.
– Вежливость на базаре не купишь, я зижу. Молитва и письмо! От крика твоего лопается причинная жила. Письмо и молитва! Что понял ты в них?
– Всё равно ты шпион. И тебе, ваше степенство, каюк.
Ишан кивнул в сторону двери.
– Слышишь! Все горы, вся степь явились сюда защитить меня.
– Если они полезут сюда, за твою жизнь я и гроша медного не дам.
– Послушай, командир, ты человек разумный. Сейчас я выйду на крышу и скажу народу успокоительное слово.
– Дальше! – с подозрением спросил Сухорученко.
– Ты Пантелеймона Кондратьевича знаешь? – на вопрос вопросом ответил Сеид Музаффар. – Вижу, знаешь. Ты пошлёшь к нему человека на самом быстром коне с моей запиской.
– А тем временем эта банда – ворота в щепу и... Нет, уж лучше мы пробьёмся.
– И лишите жизни ни в чем неповинных людей... Разве хочешь ты, чтобы Красную Армию прокляла вся горная страна? А потом за каждый волосок из бороды ишана кабадианского они потребуют жизнь одного твоего кзыласкера.
Сухорученко смотрел на Сеида Музаффара и думал. Он не был трусом. Военное дело он знал. Байский сад он сумел превратить в неприступный опорный пункт. Запас продовольствия – зерно, мука, скот – имелся надолго. Вода плескалась в источнике из корней двухсотлетних чинаров. Все подходы к саду находились под обстрелом. Отбиться Сухорученко мог, но кто поручится, что с часу на час не пожалует сюда сам Ибрагимбек со своей бандой? Тогда оставалось прорываться, ну а как поступить тогда с этим ишаном и шпионом?.. Сухорученко знал... Дело военное.
Предложение ишана отправить записку к Пантелеймону Кондратьевичу смутило комэска, вызвало полное смятение мыслей. Такие хитросплетения не по нему. Он не понимал, в чем дело. Ясно было одно. Ишана кабадианского сейчас трогать нельзя.
– Что будет в записке?
– Это дело моё и Пантелеймона Кондратьевича.
– Опять тайна, – с досадой выдавил из себя Сухорученко.
– Хотите знать?.. Ладно, – примирительно усмехнулся ишан, – я спро-шу его, соглашаться мне, чтобы вы меня расстреляли, или нет.
– А, чёрт!
– Спокойствие мира, командир, основано на двух правилах: благородство по отношению к друзьям, умеренность – к врагам.
– Всё загадочки! Мраку нагоняете. Не поможет.
И тем не менее Сухорученко позволил ишану выйти на крышу. Было уже темно, и поэтому по обеим сторонам Сеида Музаффара стояли его мюриды с самодельными факелами. Зрелище получилось внушительное, и даже фантастическое. Малиновое пламя плескалось и переливалось, превращая ишана в статую красной меди. Статуя была особенно впечатляюща из-за бороды, которая на треплющем её ветру сама походила на языки огня. Зрелище усугублялось мечущимися в тёмном небе багровыми голубями, которые издавали крыльями громкие хлопающие звуки.
Как перевёл Сухорученко Хаджи Акбар, ишан не сказал успокоившейся, умолкшей толпе ничего особенного.
– Каждый свою драгоценную душу отдает отцу-небу, а бренное тело вручит матери-земле, – говорил он, – из тайны небытия появились мы в пределы существования, но время удалиться в небытие не наступило. Со сво-им другом, командиром Красной Армии, я сажусь за мирный дастархан, ибо я проголодался. Разойдитесь! Не бросайте в воду камни, дабы не замутить её.
Он бодро спустился по лестнице и, войдя в михмалхану, потребовал калам и бумагу. Он сам посмотрел, как со двора выехал вестовой Сухорученко в сопровождении одного из мюридов.
За ужином Сеид Музаффар рассказывал Сухорученко о пэри огня, живущей в дереве грецкого ореха в байском саду, о том, как смертельно опасно её объятие для простых смертных. Он держался с комэском просто и спокойно, как будто и не было только что угроз и крика. Перед уходом спать ишан попросил:
– Прикажите своим аскерам, чтобы никого не пускали ко мне.
– Что, что, а часовой будет! Уж не думаешь ли, что я дам тебе улизнуть?
С усмешкой смотрел Сеид Музаффар на Сухорученко.
– Ты охраняешь не меня, а свою жизнь. Ты её очень любишь, а? Пока я живу, жизнь твоя цела, и твоя, и твоих аскеров. И ты это понимаешь, поэтому ничего плохого мне не сделаешь. Но вот бродят тут кругом кабаны, а смерть от кабана нечиста. Сто лет потом гореть в чистилище придется.
Он говорил многозначительно и притом так смотрел на Хаджи Акбара, что Сухорученко вдруг стал соображать.
Уже давно спал Сеид Музаффар, или делал вид, что спит в своей михманхане, со своими мюридами; уже спали на крышах и у ворот, не раздеваясь и не расставаясь с оружием, бойцы; уже затих кишлак Хазрет-баба, а Сухорученко всё ворочался с боку на бок: «Почему он так смотрел на нашего толстопузого?»
Он вышел во двор. У дверей каморки ходил, позванивая шпорами, боец, а на самом пороге в открытых дверях сидел бледной тенью мюрид в белой чал-ме...
«Ого, не доверяет нам, – подумал Сухорученко, – бережёт себя. Береги, береги! Ты мне пригодишься там, на трибунале, расскажешь кое-что...»
Но Сухорученко вынужден был признать, что Сеид Музаффар знает цену своим словам. Назавтра к вечеру в Хазрет-баба прискакал с границы Пантелеймон Кондратьевич.
Толпа горцев, хоть и поредевшая после ночной речи ишана, но не расходившаяся целые сутки и настороженно прислушивавшаяся ко всему тому, что происходит в байском дворе, безропотно пропустила Пантелеймона Кондратьевича и его пограничников в байский сад.
Все собрались в михманхане.
– Валяешь с плеча, как всегда! – встретил Пантелеймон Кондратьевич Сухорученко.
Он внимательно выслушал его рапорт.
– А теперь послушаем товарища уполномоченного, – сказал Пантелеймон Кандратьевич.
И тут вдруг выяснилось, что Амирджанова нет.
– Извините... те... те... Он пошёл к местному имаму покушать кислого молока, – разводил своими руками-коротышками Хаджи Акбар. – Извините.
– Что он, другого времени не нашёл, что ли?
– Те... те... они сейчас будут.
Но ни сейчас, ни позже Амирджанов не появился. Он исчез.
– Он такой же уполномоченный, как я китайский богдыхан. А теперь, товарищ комэск, – обратился Пантелеймон Кандратьевич к Сухорученко, – пойди извинись перед господином ишаном, и отпустите его...
– Почему?
– Погремел ты, брат, недолго – и хватит... Рубать ты горазд, а вот в дипломаты не годишься... Если бы не сам ишан, труба бы вам тут. Разве можно?!. Тронь его, во всем Туркестане, да что там, на всем Востоке такой резонанс... Хуже, чем двадцать Энверов...
– Но про него же говорили... сказали... шпион...
Несколько минут Пантелеймон Кандратьевич молча смотрел в делёкий угол сада. Там, освещённый огромным ведьмовским костром, сидел под багровым чинаром, сам похожий на багрового джина, Сеид Музаффар. Он величественно принимал поклонение толпы. К нему подбегали, согнувшись в поклоне, старики, женщины, дети. Все старались прикоснуться к его халату, цветы которого пылали в отсветах костра.
– Восток, загадочный, непонятный, – пробормотал, точно говоря сам с собой, Пантелеймон Кондратьевич. – Всё это бедняки. Ничего у них за душой нет. Видят они плов в котле бая, а масло в светильнике мечети, а смотрите, комэск. Они думают, что если тронут рукой этого дервиша, тем самым приобретут частицу его заслуг... Ползают на коленях, верят, молятся... Страшная это сила, фанатизм...
Он вытянулся поудобнее и, закинув голову, смотрел на звёзды. Была полночь – сердце ночи, по выражению восточных поэтов. Но спать не хотелось. Сад дышал в лицо дневным жаром и дымом гаснувших костров. Медленно скользили угольно-чёрные тени. Пряно пахли каперцы, стелящие свои плети под дуваламя. Они были невидимы сейчас, но их ясно представлял себе Пантелеймон Кондратьевич с мясистыми, точно воском покрытыми, листьями, иглообразными колючками, белыми тропическими ароматными цветами, расцветающими прямо на горячей глине...
Сухорученко сдержанно кашлянул. Пантелеймон Кондратьевич шевельнулся.
– Да, комэск, не там ты ищешь шпионов...
Глава двадцать первая. ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Кто много ходит, заблудится.
Узбекская пословица
Цену друга узнают, когда разлучаются,
цену лекарству – когда сломают кость
Махмуд Кашгари
Есть пределы и человеческим силам. Двухдневное скитание по степи, бессонная ночь, бешеная скачка по дорогам и тропам окончательно оглушили Алаярбека Даниарбека. Наступает момент, когда человек настолько устает, что не обращает внимания уже на смертельную опасность. Всё делается ему безразличным.
Где и когда слез с лошади Алаярбек Даниарбек, он не помнил. Возможно он заснул, согретый утренними горячими лучами солнца, ещё сидя на лошади, сполз безжизненным кулем в сухую колючую траву, пахнущую солью и горькими травами, да так и остался лежать.
Солнце палило и жгло, под одежду забирались большущие степные муравьи, по лицу бегали фаланги, впивались в тело комья сухой глины и жёсткие шипы колючек, кусались мухи, а Алаярбек Даниарбек спал. Спал он так, что Сулёйман Баранья Нога с дузьями, если б нашли его, могли так сонным и закопать в землю. Но судьба сжалилась, видимо, над Алаярбеком Даниарбеком, и за весь день никто не заметил его, хотя в ровной, как стол, степи за двадцать верст отлично можно разглядеть коня. Весь день конь кружился на аркане, обмотанном вокруг руки спавшего мёртвым сном Алаярбека Даниарбека. Только к вечеру, когда солнце уже купало свои лучи в мутных водах Вахша, на юг от трех древних могильных курганов возникли, точно из-под земли, тёмные фигурки всадников. Их было много, и ехали они быстро. Сердитый горбоносый бородач привстал на стременах и показал рукояткой камчи на далекое пятнышко:
– Он! Даниар!
И все поскакали в ту сторону.
Сон Алаярбека Даниарбека можно было сравнить только с пребыванием в райских садах Ирама, но пробуждение не относилось к разряду приятных.
До самых глубин сознания донеслись лошадиный храп, сопение, бряцание сбруи. Сулейман Баранья Нога, пастухи, роющие могилу, дикая скачка по тугаям – всё мгновенно воскресло в памяти. Алаярбек Даниарбек проснулся. Холод смертельной опасности, надвигающейся гибели пронизал его.
«Догнали! Поймали!»
Но он не торопился показывать, что он проснулся. И враги почему-то мешкали: не хватали грубо, не толкали. Ничего, значит, и ему нечего торопиться. Медленно, очень медленно он начал приоткрывать один глаз. Но хитрость не удалась. Едва он различил лошадиные ноги, целый лес ног, как трескучий голос воскликнул:
– Господин Даниар изволили проснуться!
И множество голосов загалдело, зашумело.
С тоской Алаярбек Даниарбек зажмурился: теперь начнется. Сейчас схватят, поволокут. Теперь уж ему не вырваться.
Он открыл глаза и нехотя поднялся. К нему подскочили и начали вежливо стряхивать соринки и солому с халата и комзола. Какая насмешка!
– Ассалям алейкум! – послышались вежливые, чуть ли не подобострастные голоса.
– И вам салом, – быстро заговорил Алаярбек Даниарбек. Голос его постыдно дрожал, и он ничем не мог сдержать эту дрожь. – Несчастный рок привёл меня сюда. Но, клянусь высшей сферой небес, отец мой не получал золота и не зарывал, а мне в наследство от бабушки моей тетушки достался оселок, да и то с трещинкой... Зачем я вам? Отпустите меня.
Спросонья Алаярбек Даниарбек не соображал, что за люди стоят перед ним, и считал, что он попал снова в руки Сулеймана Бараньей Ноги и Толстяка. «Неужели я их не умолю... Баранья Нога до виселицы дойдёт, но с виселицей подождет».
– Мы крупинка, что идёт не в счет... Мы вам не повредим, – начал он снова.
Но, к счастью встретившись взглядом с удивлёнными глазами ярко разодетого, сидевшего на великолепном аргамаке горбуна, он поперхнулся и умолк.
Горбун слез с коня и, взяв руки Алаярбека Даниарбека в свои ладони, начал пожимать их:
– С вас, господин Даниар, причитается «суюнчи». Головы тех злодеев, у которых отцы не мужчины, были воткнуты на шесты, и птицы выклёвывают их глаза. Поздравляю вас со счастливым избавлением.
– Какие головы... шесты... птицы? – машинально пробормотал Алаярбек Даниарбек.
– Головы проклятых пастухов, что осмелили покуситься на вашу драгоценную жизнь!
– Мою?.. Но зачем?
– О, конечно, вы пожелали бы увидеть цвет их крови, но мы не знали, где ваша милость. Не знали, что с вами. А время не позволяло...
Мозг Алаярбека Даниарбека усиленно работал. Как ему, несчастному, не везёт. Говорят же – покупал сироп, оказалось варенье. Страшился пастухов, а теперь попал в лапы зверей. Так значит и эти, чтоб стукнуться им головой о надгробье, когда их похоронят, опять принимают его за Даниара – басмаческого курбаши, О покровители путешественников, чильтаны! Где вы? О сила и могущество пророка! Очевидно, проклятые напали на пастушье стойбище и там узнали про него, Алаярбека Даниарбека, нет, про Даниара-курбаши, нет... тьфу... видимо, дорого заплатили Сулейман Баранья Нога и Толстяк за свою ошибку. Но и ему не сладко. Совсем как в рассказе об арабе: «Нога у вас хро-мая, а провал далеко. Рука у вас короткая, а финики на пальме!»
Мысли вспыхивали в мозгу молниями. Что делать? Сказать: «Я не Даниар», – и его голову, как тех пастухов, – без всяких проволочек насадят на шест. Согласиться: «я – курбаши Даниар», – совсем опасно. Разница только в том, что во втором случае оставалось время, на размышления...
Кончиками пальцев Алаярбек Даниарбек осторожно коснулся чалмы, поправил её на голове и сдвинул чуть-чуть на левую бровь, что сразу же придало ему несколько надменный вид, и провел руками по бородке: в сердце его совсем не осталось злобы на пастухов, и даже он сейчас жалел Сулеймана Баранью Ногу. Что взять с него, с тёмного, запуганного?
Затем Алаярбек Даниарбек, незаметно водя глазами, осмотрелся. С тревогой он убедился, что вокруг толпятся, по меньшей мере, сотни две вооруженных, хорошо одетых, сидящих на сытых гладких конях ферганцев. Он отлично распознал их по говору, по одежде, тюбетейкам, фасону шапок, по сапогам. И удивился: откуда здесь, на берегах Вахша, ферганцы? Но недоумение его тут же разъяснилось.
Поискав кого-то в толпе вооружённых, горбун протянул руку и вытащил за плечо приземистого подслеповатого паренька в белой чалме.
– Скажи, мирза, ты говорун, господину Даниару о нас.
Подслеповатый паренек приложил руки к животу и, сложившись пополам, визгливо прокричал:
– О гений доблести и воинского совершенства, господин командующий легионами истребителей неверных, досточтимый и преславный Даниар-курбаши, краса мужества и храбрости, перед вашей милостью предстоит лев ярости и солнце мудрости, рука, держащая молнию разящую... э... э... разящую... – Тут этот штатный восхвалитель захлебнулся в своих непомерных эпитетах и, окончательно запутавшись, выпалил:
– Батырбек Болуш!
И, боясь, что он сказал недостаточно высокопарно и цветисто, добавил:
– Батырбек Болуш из Андижана, полковник войск ислама.
И хоть Алаярбек Даниарбек ещё раньше сразу же понял, что он попал в лапы настоящих басмачей, но теперь ему стало совсем худо. «Проклятый говорун ударил меня об землю, подобно льву», – успел только подумать он. С тех пор, как Алаярбек Даниарбек приехал сюда в Восточную Бухару, он достаточно наслышался о Батырбеке Болуше и о его банде, известной своими зверствами и дикими грабежами. Свергнутый с трона, бежавший из Бухары на восток в Гиссар эмир Сеид Алимхан послал своих гонцов в Фергану к главе андижанских басмачей Курширмату с призывом помочь ему – эмиру – в его богоугодном намерении вести борьбу с нечестивыми большевиками и прислать подмогу. Не мало в то время бродило и шлялось по опустошенной Фергане всяких головорезов и авантюристов, и Курширмат довольно быстро сколотил внушительную банду в полторы тысячи человек. На масляхате андижанских курбашей порешили поставить во главе экспедиции для спасения эмирского трона Нурмата – родного брата Курширмата. Напутствуя Нур-мата, Курширмат важно сказал: «Поезжай. Пусть меч твой прославит знамя пророка! Ты ведёшь газиев». Но Нурмат уже имел немалый опыт поражений и разгромов и, отложив в сторону разговоры о пророке и знамени джихада, спросил: «Что я сделаю? Винтовок ты дал мало, патронов совсем нет. Кони – дохлятина... В деньгах ты отказал». «Эмир даст винтовки и патроны, коней возьмете по пути. Деньги?.. А на что с тобой Батырбек Болуш едет? Он умеет деньги и под землей находить, из камня выжимать!» Чёрными углями и красной кровью наследили газии на своем пути через Алайскую долину, Каратегин вдоль Сурхаба, через Кала-и-хаут, Гарм, Оби-Гарм, Дюшамбе. На снеговых вершинах полыхали зловещие отсветы подожжённых юрт и хижин. К облакам неслись вопли женщин и детей. Нурмат-курбаши не мешал бесчинствовать своим басмачам, шедшим восстанавливать эмира мусульман на троне благородной Бухары. Да и в чём дело? Что церемониться с какими-то киргизами Алая? Издавна известно, что они плохие мусульмане, но зато стада баранов у них неисчислимые, а баранина сладкая и вкусная. Что касается жителей Каратегина, то они нетверды в вере исламской и, ещё со времен кокандского ханства, находились в кровной вражде с ферганцами, а потому не грех припомнить им старые счёты и обиды. А всем известно, что кони ка-ратегинцев в горных условиях непревзойдённы, а женщины каратегинцев умопомрачительно красивы. Ну, а если во время ссор и скандалов, по воле божьей, некоторое количество киргизов или каратегинцев, не очень охотно пожелавших расстаться со своими овцами или конями, нашли предел своей жизни, то, очевидно, того хотел аллах. Сам Батырбек Болуш мало обращал внимания на лошадей и женщин. Коней он имел славных, а с бабами в пути возиться некогда: крику не оберёшься. Нет, Курширмат знал, кого посылать с братом. Батырбек Болуш в каждом селении уединялся со своими помощниками куда-нибудь в глухое место, на старую мельницу, в пещеру, в пастушью хижину. Ему туда тащили силком людей. Всю ночь слышались неистовые вопли и стоны, воняло чем-то палёным. Суетливо бегали в кишлак его джигиты, поговаривая: «Ну, хозяин шашлычок готовит». А наутро Батырбек Болуш, с довольным видом шепча «бисмилля!», прятал в мешочек золотые серьги, серебряные браслеты с бирюзой, николаевские империалы и полуим-периалы. Не брезговал он и серебром – рублями и полтинниками. Во сне ничуть не беспокоили его призраки замученных пытками жертв.
Сейчас, когда Алаярбек Даниарбек уже ехал с Батырбеком Болушем, вспоминая о его «шашлычке», то невольно тянул свою лошадь в сторону, так как даже случайный взгляд горбуна сеял в душе его растерянность и трепет.
Отряд бодро скакал по степи. Алаярбеку Даниарбеку по приказу Батырбека Болуша подали быстрого поджарого коня.
Солнце скрылось за Бабатагом, окрасив в гранатовый цвет далеко, где-то внизу, ленточку Вахша, быстро сползали с далеких гор сумерки, а басмачи всё ехали и ехали. Алаярбек Даниарбек ерзал в седле, и мысли ему лезли в голову, одна тревожнее другой. Куда они скачут? Зачем? И направление что-то очень подозрительное. Не станет палач Батырбек Болуш так, без цели, шляться по степи. Человек он серьёзный, хитрый. У него всегда есть интерес.








