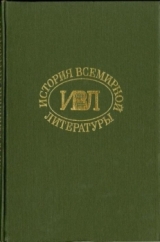
Текст книги "История всемирной литературы Т.6"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 70 (всего у книги 102 страниц)
В «Лилле Венеде» (1840) рассказана история покорения племени венедов захватчиками-лехитами, носителями грубой силы, на которой держится феодальный мир. И одновременно автор снова намекал на события 1831 г.: племя венедов гибнет вследствие упадка боевого духа, вследствие того, что вожди не смогли вдохновить свой народ.
Драма «Балладина» (1834; опубл. 1839) основана на фольклорном мотиве (злая сестра убивает добрую) и развертывается в произведение, повествующее о честолюбии и преступлении, о борьбе за власть. Фольклорную фантастику поэт переплетает с мотивами легенд, зафиксированных старинными польскими хрониками, и мотивами литературного происхождения (Шекспир). Простонародное начало, с которым связываются истинно нравственные понятия о жизни, противопоставлено в «Балладине» феодально-панскому. Последнее на время торжествует, обрекая на гибель невинность и благородство, но таит в себе и неминуемое возмездие (небесные силы исполняют смертный приговор: преступная героиня поражена молнией). «Балладину» Словацкий считал трагедией, которая «напоминает старинную балладу, написанную так, как будто ее сложил простой народ», и был уверен, что ее будет со временем читать простой крестьянин.
В лирике Словацкого гражданственность сочетается с такой проникновенностью, таким накалом чувств, что личное, выстраданное сливается с общенародной, крупномасштабной темой. В стихотворениях его отразились и вера в новое всенародное восстание («Успокоение»), и ощущение безвременья между моментами национального подъема, боль погибающих на чужбине изгнанников («Погребение капитана Майзнера»), и раздумья о тяжести человеческого бытия в современном поэту мире («Гимн»), и сознание задач, выпавших на долю его поколения: нести народу «светильник просвещения» и идти ради родины на борьбу и гибель («Мое завещание»). Отразился в лирике и демократизм поэта, который говорит об «ангельской душе» народа и призывает Польшу в очистительном своем обновлении сбросить «грубую скорлупу» шляхетства («Гробница Агамемнона»).
Поэзия Словацкого не нашла у современников благожелательного приема. Литературным противникам поэт ответил в поэме «Беневский» (1841), где продемонстрировал остроумие и изобретательность, легкость и мелодичность стиха, всестороннее использование возможностей поэтического языка. Сюжетная основа (времена Барской конфередерации 1768 г.) не играла в поэме главной роли: равноправным с нею был другой пласт действительности – недавнее восстание и эмиграция. Важнейшее место заняли в тексте лирические отступления, где автор отстаивал свое право как художника идти избранным путем, не приспособляясь к вкусам литературных кругов, не подчиняясь эмигрантским программам, но постоянно сверяясь с чаяниями народа. В содержании поэмы заметную роль играют язвительная полемика с клерикалами, сторонниками аристократии, а также иронические выпады в адрес демократов, чьи взгляды представлялись автору недостаточно радикальными. Был продолжен также спор с Мицкевичем, в котором Словацкий настаивал на верности своего пути («народ пойдет за мной»). Ощутимы в поэме авторское стремление к простоте, к сближению с действительностью, неудовлетворенность романтическим индивидуализмом, дегероизация ряда персонажей (в том числе заглавного героя).
Повальное увлечение эмигрантов мистицизмом не обошло в 40-е годы и Словацкого, но не убило в нем поэта. К секте Товяньского он примыкает на очень короткое время, а затем пытается разработать свою «философию духа», пронизанную стремлением осмыслить мировое развитие, подчеркивая его универсальность и непрерывность («дух», разрушитель и созидатель,
проходит сквозь множество все более совершенных фаз-воплощений), закономерность гибели старых форм и сотворения новых. Во второй половине 40-х годов, до самой смерти, Словацкий работает над историко-философской поэмой «Король-Дух», одним из самых оригинальных творений польского романтизма. В рапсодах поэмы он хотел дать синтетическое изложение нового взгляда на мир, рассказав начиная с генезийской прастадии, с предславянской сказочной древности о разных эпохах польского бытия, воплощенных во властителях, их грехах и заблуждениях, в реализации ими нравственно-политических идей. Возвышение народа, идущего к вечному свету («солнечному Иерусалиму»), – это, согласно эпосу Словацкого, плод работы целых «колонн» всякого рода духов, причем особое предназначение выпадает на долю «королей-духов», вождей, водителей, вдохновенных певцов. Сплавляя историческое значение с мифом, фантастикой, религиозными верованиями, лирическое «я» сливая с героями (каждый из них воскресает в преемнике) и одновременно сказителями рапсодов, поэт творит эпос космического размаха, красочной сказочности, эпос, воплощающий в себе идею неуклонного (то замедляющегося, то стремительно динамичного) развития природы и человечества.
И в отмеченных мистическим настроением произведениях 40-х годов Словацкий говорит о социальных конфликтах, о народной ненависти к угнетателям (драма «Серебряный сон Саломеи», 1844). Подчас новые взгляды автора вообще не отражаются в художественном замысле: такова неоконченная драма «Фантазий» (ок. 1845), пародия на мечтательно-пассивный, ставший уже ходульным романтизм и гротескное изображение польской шляхты на Украине, эгоистической, живущей материальными заботами (ей противопоставлены повстанец, в прошлом командир крестьянского отряда, и русский майор, бывший декабрист). В лирике Словацкого появляются новые качества (космическая масштабность, тяготение к тону пророчеств и видений). 1845 годом датируется лучшее из произведений польской революционно-демократической поэзии – «Ответ на „Псалмы будущего“». Обличая классовую слепоту апологета шляхты, его страх перед народной революцией, поэт призывает верить в смысл истории, в обновляющую работу «Духа – вечного революционера», в «новые формы» жизни, которые могут рождаться в переворотах и кровавых войнах. Выступая от имени нового революционного поколения, «сильных» и «молодых», он заявляет своему противнику в полемической схватке: «Мы станем на пути твоего, полного трупов, Харонова челна».
КРАСИНЬСКИЙ
Резкую конфликтность в изображении действительности польские романтики утверждали широкопланово: применительно к человеку, к межчеловеческим отношениям, к человечеству в целом. Именно наличие противоборствующих начал было гарантией, что бытие отнюдь не статично, что в упадке и страдании заложено возрождение, что временно торжествующее таит в себе собственную гибель. Это справедливо не только по отношению к революционно настроенным художникам. Подчас и социальный консерватизм не был препятствием для постановки острых проблем. Примером может служить творчество Зыгмунта Красиньского (1812—1859), в котором приверженность к шляхетской традиции социальную зоркость по-своему обостряла.
Красиньский эмигрантом по своему положению не был. Но с юных лет он жил за границей, в Польше бывал лишь наездами и свои сочинения издавал анонимно. Его отец получил от Наполеона генеральство и графский титул, а затем стал ревностным слугой царской монархии. Деспотически распоряжаясь судьбой Зыгмунта, запретив ему какое бы то ни было сближение с патриотическими кругами, он определил и общественную позицию поэта, боявшегося превращения национальных восстаний в социальный переворот.
Лучшее в творчестве Красиньского – драмы философско-исторического содержания. Его «Небожественная комедия» (1835) написана прозой, в «открытой» драматической форме. Пользуясь фрагментарной композицией, автор добивается экономии словесно-образных средств, почти целиком отказывается от бытовых деталей, локально-событийной конкретизации, от характерологической индивидуализации персонажей. Главный герой драмы, граф Генрик, – поэт и аристократ, человек, обреченный на трагическую гибель, ибо он выступает носителем поэтического и рыцарского идеала в мире материально-низменном. В первых двух частях основным конфликтом является столкновение поэтической личности с прозою частной жизни. В третьей и четвертой частях изображена трагедия общественная, столкновение современного Красиньскому века грубых материальных стремлений с феодально-рыцарской традицией. Красиньский изображает битву между аристократией и демократией, которая, по его мнению, должна произойти в ближайшем будущем. Он симпатизирует аристократии, но предоставляет слово и обвинителям старого мира, говорит о малодушии и обреченности потомков феодальной знати. Будущее социальное потрясение он рисует в тенденциозном духе, но изображает не как заговор, не как слепой бунт, а как переворот, в корне меняющий облик общества, имеющий моральные обоснования, организованный и выдвигающий вождей, не противоречащий истории, а в определенной степени санкционированный ее законами (которые, по Красиньскому, равнозначны воле Провидения, «божественному плану мира»). Революцию Красиньский изображает как борьбу притесненных, бедных, бесправных против богатых, властвующих, высокородных. Материалом ему послужили исторические работы о Великой французской революции, труды сенсимонистов, но он не проглядел и социальных выступлений новейшего времени, таких, как лионское восстание 1831 г. Толпа восставших требует в драме «хлеба, заработка, дров на зиму, отдыха летом», провозгласив лозунг: «Смерть господам», добавляет: «Смерть купцам».
Демократия одерживает у Красиньского победу над защитниками старого. Но закончить драму ее триумфом автор не мог и не хотел. Каждая из конфликтующих сил, по мнению Красиньского, олицетворяла лишь частичную правду. Полная истина, считал поэт, могла быть лишь достоянием бога, который явит ее человечеству в конечной фазе развития. В финале драмы появляется Христос, не примиряющий враждующие стороны, а сметающий их с лица земли. Смысл его появления поэтом до конца не расшифрован: предсказывается или гибель человечества, или безоговорочное его подчинение вышней воле. Вождя демократов Красиньский заставляет пасть перед Христом.
В драме «Иридион» (1836) изображен императорский Рим накануне гибели. Сильные стороны мышления Красиньского проявились в показе разложения и обреченности общества, терзаемого антагонизмами, породившего силы, которые его низвергнут. Заглавный герой, проникнутый страстной ненавистью к Риму, пытается сплотить воедино его противников. Но он терпит неудачу, ибо материальной силе хочет противопоставить тоже силу. Победить же языческий Рим, по мысли автора, суждено только духовной силе – христианству. В фантастическом финале герой пробуждается от многовекового сна и внемлет велению свыше: отправиться в странствие «к земле могил и крестов». Польская земля становится землей христианского искупления. Настойчиво подчеркивая несоответствие намерений и целей исторического субъекта с его истинной ролью, Красиньский призывает верить, трудиться, страдать, не ломая существующих установлений.
В 40-е годы консерватизм Красиньского обостряется. Пытаясь изложить в стихах и трактатах выработанную им религиозно-мессианистскую систему (в вульгаризированном виде использованы были некоторые положения гегельянства), он проводит мысль о необходимости единения шляхты и народа, запугивает соотечественников ужасами ожидаемой революции (поэма «Перед рассветом», «Псалмы будущего», вызвавшие отповедь Словацкого, и т. д.).
ЛИТЕРАТУРА НА ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ В 30—40-е ГОДЫ
Литература в самой стране не выдвинула после 1831 г. талантов такого же уровня, которыми располагала эмиграция, однако развивалась во многом под идейным воздействием корифеев романтизма (хотя мессианистские увлечения для нее отнюдь не характерны), демократических публицистов, а также революционеров, готовивших на польских землях новые выступления и лучше, чем эмигранты, знавших ситуацию в Польше. Много писал о литературе Эдвард Дембовский (1822—1846). Национальность и народность он связывал с достижением нацией «все более высокого уровня в понимании и осуществлении свободы», причем литературе отводилась роль «творческого возвещения будущего», «вдохновляющего знамени» в борьбе народа «за выработку общественных понятий и знания». В оценке традиций он ополчался против всякого рода «кастовости» и отделял от истинно национального развития явления, связанные, по его мнению, лишь с магнатско-шляхетским кругом.
Романтическая поэзия в стране стремилась поддерживать и активизировать национальные чувства, ориентировалась на простоту и доступность, зашифровывала патриотические лозунги и выражала настроения общества в образах и символах, легко понятных читателю. В популярных стихах воспевалась солдатская доблесть, повстанческое воодушевление (В. Поль), бросались обвинения в предательстве «панам магнатам», противникам восстания (Г. Эренберг). Программными были ориентация на национальную историю, народный быт, фольклор (Э. Василевский, В. Вольский, молодой Т. Ленартович и др.), причем зачастую из народного творчества бралась бунтарская традиция, воспевались народные заступники и предводители (Л. Семеньский). Весьма живым был интерес к другим славянским литературам и фольклору (литераторы группы «Зевония» в Галиции). В лирике звучали жалобы на гнетущую действительность, мечты об иной жизни, призывы к грядущей буре или мрачные предчувствия (поэты «варшавской богемы»). Революционные настроения с особой силой дали себя знать в канун 1846 г. Рышард Бервиньский (1819—1879) в напечатанных за границей стихах формулировал лозунг крестьянской революции, которая «через море крови» проложит путь к «обетованной земле без тирана и без пана» («Марш в будущее», 1844).
Шире и разнообразнее, нежели в эмигрантской литературе, были представлены в стране прозаические жанры. В исторической прозе яркой выразительностью были отмечены попытки живописать колоритную шляхетскую старину, хотя под пером консервативных авторов (Г. Жевуский, автор цикла рассказов «Воспоминания Соплицы», 1839—1841, и романа «Листопад», 1845—1846) они выливались в апологию феодального прошлого. Стремление интерпретировать историю в демократическом духе лежало в основе обращения к легендарным временам славянской вольности, которому сопутствовала языково-образная стилизация в фольклорном духе («Великопольские повести», 1840, Р. Бервиньского).
Современность сталкивала польскую прозу с широким кругом новых социальных явлений. Время довершало разлом патриархальной старины, прежнего уклада. Денежные отношения выдвигаются на первый план, и постепенно становится ясно, что это сила, определяющая и эмоции, и идеи, и место на социальной лестнице. Помещичье оскудение, появление обогатившихся выскочек, расшатывание общественных и семейных связей, равнодушие к национальному делу – на все это, не забывая о старых шляхетских пороках (чванство, презрение к «хаму» и т. д.), проза реагировала язвительной сатирой, романтическим негодованием. Польской литературе предстояло освоить крестьянскую тему, представить крестьянина не в идеализированном виде, но в правде его нужд и бедствий.
Появляется в прозе и город, облик которого складывается из картин светских салонов, чиновничье-мещанской повседневности, несчастий городской бедноты. «В роман, – заявлял в 40-е годы популярный прозаик Ю. Дзежковский, – пора уже допустить не только салоны и шляхетские усадьбы, которые мы насквозь знаем, но и улицы, и предместья, и мужицкие хаты». Демократическая сатира, развившая в новых условиях боевые просветительские традиции, избирала своим объектом снобизм и космополитизм верхов общества, их равнодушие к национальному делу, видела в них средоточие всего антипатриотического (фельетонно-очерковый цикл Л. Дунина-Борковского «Захолустье», 1848—1849, панорама львовских аристократических салонов). Иногда сатира соединялась в польской прозе с утопическим морализаторством (основанным на вере в то, что шляхте удастся примирить дух нового времени, практицизм и хозяйственность с сохранением старых добрых нравов), стремилась поучать шляхетского читателя, выводя на сцену идеально безупречных (но недостоверных) героев (Ю. Коженёвский, автор повестей «Аферист», 1846; «Раздел», 1847, и др.). При всем этом в романах и повестях, рассказах и очерках 40-х годов дана была довольно достоверная картина того, как в жизнь шляхты врывается культ приобретательства, возникает новый социальный тип дельца и авантюриста, прогрессирует имущественное расслоение. К тем же годам относятся и попытки художественного анализа в прозе противоречий человеческой психики (Л. Штырмер).
Влияние романтизма в прозе было сравнительно скромным. Оно проявилось во внимании к таким проблемам, как связь между свободой личности и моральным долгом, назначение и судьба художника, нравственная противоположность между испорченным цивилизацией городом и патриархальной деревней, в изображении противоречий человеческой натуры, губящих ее страстей (любовь к «роковой» женщине в романе Н. Жмиховской «Язычница», 1846).
Виднейшим из прозаиков середины XIX в. был Юзеф Игнаций Крашевский (1812—1887). В 30—40-е годы он опробовал ряд возможностей, которые были предложены еще прозаиками-сентименталистами, не прошел и мимо примера В. Скотта, весьма популярного в Польше, предприняв первые опыты в жанре исторического романа. Крашевский обращался к романтической проблематике (конфликт между мечтой и действительностью лег, например, в основу романа «Поэт и мир», опубл. 1839), в какой-то мере воспринял в ряде своих произведений гротескно-историческую манеру изображения тусклой повседневности. Одновременно писатель публикует ряд нравоописательных очерков, а затем набрасывает обширную панораму польской общественной жизни, которая складывается из социальных зарисовок и выразительных портретов, местами содержит меткие и глубокие наблюдения бытового и психологического характера.
В 40-е годы Крашевский обращается к крестьянской теме («История Савки», 1842; «Ульяна», 1843; «Остап Бондарчук», «Будник», 1847; «Арина», 1849, и др.). Реалистический фон его повестей (на котором была заметна, впрочем, и некоторая идеализация героев, чувствовалось влияние романтических представлений о народности), определенность авторского гуманизма и демократических симпатий сделали их новым словом в литературе, правдивым рассказом об отношениях, характерных для крепостной деревни,
о всевластии помещика и мужицком бесправии. Развернутая психологическая обрисовка созданных писателем образов крестьян и крестьянок была шагом вперед в формировании польского реализма, предвосхищала тенденции, характерные для прозы позднейшего времени.
Первая половина XIX в. на польских землях завершилась событиями, вызвавшими в литературе живой отклик: краковское восстание и крестьянское движение в Галиции 1846 г., революционные выступления в 1848 г. Взрыв социальных противоречий, крах надежд на общенародное единство привели одних в горькое смятение («Жалобы Иеремии» К. Уейского и т. п.), других – перепугали и заставили поправеть. В период европейских революций еще нагляднее проявляется идейное размежевание среди поэтов эмиграции. Словацкий до самой смерти остается поэтом демократии. Мицкевич в своих статьях призывает народы к интернациональной солидарности, с одобрением говорит о социалистических идеях. Красиньский происходящее воспринимает с крайним озлоблением. Поражение европейских революций, спад освободительного движения отразились и на литературе.
Произведения художников слова первой половины XIX в. (прежде всего – поэтов и драматургов) составили основу того литературного богатства, которое активно использовалось последующими поколениями, живо воспринимается и в наши дни. В истории польской литературы не было в дальнейшем такого периода, когда не сознавалась бы необходимость обращения к романтическому наследию, как к авторитету или как к поводу для полемики.
Романтизм, который на польской почве оказался чрезвычайно жизнестойким, подтвердил способность польской литературы даже в трудное для нее время оставаться в русле общеевропейского художественного развития. Им были поставлены и во многом решены важные для литературы вопросы: о национальном своеобразии творчества и народности, об историзме, о соотношении между литературной и общественной деятельностью. В ряде случаев именно решения, предложенные романтиками, стали для их преемников обязующими. В Польше утвердился тип культуры, в котором романтическое мировосприятие и подсказанное им художественное отражение действительности являются необходимым компонентом.
В первой половине XIX века реалистические тенденции проявились в произведениях ряда художников, давая о себе знать и в сфере психологического анализа, и в искусстве типизации, и в критической переоценке собственного художественного опыта. Но окончательное утверждение реализма в польской литературе и его расцвет наступили позже, после 1863 г.
*Глава вторая*
ЧЕШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В начале XIX в. просветительское движение в Чехии приобретает все более отчетливую национальную окраску. Развитие литературы определялось все более ясным осознанием и утверждением самобытности и единства народа как национального коллектива. Идет нарастающий процесс осмысления исторического, этнического и духовного единства нации. Для центростремительных тенденций в национальной жизни 20—30-х годов характерно, что именно в этот период рождаются замыслы больших научно-патриотических трудов, которые должны были обобщить культурно-исторический опыт народа. К числу этих трудов – они создаются в последующие десятилетия – относятся пятитомный «Чешско-немецкий словарь» (1834—1839) Йозефа Юнгмана, в котором он представил богатства чешского языка и утверждал его равенство с языком господствующей нации, его же «История чешской литературы» (1825), ставшая сводом знаний об истории чешской письменности, многотомная «История чешского народа в Чехии и Моравии» (1836—1876) Ф. Палацкого, капитальный труд по этнографии «Славянские древности» (1836—1837) П. Й. Шафарика.
Стремление к синтезу национальных традиций наблюдается и непосредственно в художественной литературе. При этом широко осваиваются и общеславянские традиции, которые воспринимаются как близкие, родственные. На этом этапе еще жило представление о славянах как едином народе, состоящем лишь из разных «племен». При всей иллюзорности такого представления оно было моральной поддержкой в борьбе за национальное самоутверждение. Вместе с тем осмыслялись достижения литератур и других европейских народов, в ряду которых осознавалась собственная самобытность. Отсюда значительное число переводов, одновременно способствовавших и раскрытию возможностей чешского языка. На первом этапе национального возрождения, в конце XVIII – самом начале XIX в., в чешской литературной жизни заметны попытки восстановить определенные архаические традиции письменности, сложившиеся до того, как страна потеряла независимость. Теперь происходит сближение литературных форм с современной жизнью.
Программное значение для развития литературы имело выступление филолога и поэта Йозефа Юнгмана (1773—1847). Сын крепостного крестьянина, сам получивший «вольную» только в двадцатишестилетнем возрасте, Юнгман провозгласил, что главной силой нации является простой народ, крестьянство, которое он противопоставил высшим сословиям, перенявшим иноземную культуру. В народе он видел главного носителя национальной самобытности, и основного потребителя набирающей силы национальной литературы. Юнгман обосновал мысль о национальном языке как основе развития национальной культуры, резко осудив тех соотечественников, которые писали свои сочинения на других языках – латинском, немецком, и много сделал для совершенствования литературной нормы родного языка. В противовес ориентации на чешский язык периода гуманизма (XVI в.), которая была характерна для начального этапа национального возрождения, он выдвинул требование освоения традиций чешской письменности во всем ее объеме, а также использования богатств живого разговорного языка. С именем Юнгмана связан также отход литературы от односторонних подражаний античным образцам и интерес к современным европейским литературам, программная установка на создание национальной литературы.
Если в последней четверти XVIII и первом десятилетии XIX в. в формирующейся литературе преобладали рационально-просветительские, классицистические тенденции, а в поэзии также отзвуки рококо, то теперь она все более насыщается элементами предромантизма, хотя и прежние формы художественного мышления далеко не сходят на нет, как бы сливаясь с новыми элементами. Вместе с тем само Просвещение понимается теперь все больше как национальное просвещение, национально-просветительская деятельность в первую очередь. В художественном сознании возрастает роль сенсуалистского начала, патриотического чувства, экспрессии. Возникает культ «национального духа», национального языка, национальной истории, славянского фольклора. В поле зрения литературы оказываются прежде всего национально значимые темы, национальные аспекты и связи явлений. Типично обращение литературы к событиям борьбы за свободу родины, романтизация национально-этнографических особенностей отечественной жизни.
Утверждение национальной идеи при слабости реальных сил, способных противодействовать иноземному гнету, приобретало характер мечты, выливаясь в апелляцию к таким историческим доводам, как былая независимость, к примерам национального развития других славянских народов, прежде всего русского; в обращение к фольклору, в котором поэты открывали «бессмертный дух» народа, оригинальность национальной психологии и эстетического мировосприятия. Просветительские тенденции этой литературы выражались, в частности, в том, что либеральные идеалы естественного права, равенства и общественной гармонии воплощаются в опоэтизированных картинах славянской старины и народной жизни (создаваемых зачастую по мотивам фольклора).
Стремление к синтезу национальных начал получило выражение и в характерных типах произведений этого времени, нередко тяготеющих по форме к крупным героико-эпическим и одическим жанрам или стихотворным циклам на фольклорной основе.
В условиях, когда заметно сказывались последствия сильного ослабления отечественной литературной традиции в предшествующие столетия, едва не зачахшей в результате иноземного гнета, особое значение для развития национальной литературы имело освоение народного творчества. В 10—20-е годы литература пережила целую полосу фольклоризации художественного мышления. Во многом из народного творчества она черпала и художественные формы, и образный строй, и национальный колорит, усваивала искусство предметно-чувственного художественного образа, преодолевая некоторую односторонность рассудочно-логизированного строя предшествующей письменности. Фольклор помогал созданию национальных типов и образов героев взамен образов анакреонтической лирики, которая на первом этапе национального возрождения оказывала заметное влияние на формирование светской поэзии. Фольклор нередко ставился в это вреся даже выше индивидуального литературного творчества. Все это породило не только широкий интерес как к отечественному, так и общеславянскому народному творчеству, не только активную деятельность по собиранию и изданию произведений фольклора (В. Ганка, Фр. Л. Челаковский, позднее – К. Я. Эрбен), но и дух соревнования с ним. Своеобразие этого явления на чешской почве (в отличие от аналогичных явлений, например, в болгарской литературе) выражалось в том, что на этом этапе еще редко встречалось спонтанное творчество по мотивам фольклора. Произведения обычно рождались в результате тщательного филологического изучения источников, были опосредованы в сознании автора рационалистической концепцией.
К числу наиболее значительных произведений формирующейся национальной литературы, которые демонстрируют отказ от анакреонтики и бидермайера, относятся так называемые Краледворская и Зеленогорская рукописи, созданные В. Ганкой (1791—1861) и Й. Линдой (1789—1834) в 1817 и 1818 гг. и представляющие собой искусную литературную мистификацию. Авторы стилизовали свои произведения под древние поэтические сказания, переписали их на пергамент и сочинили историю обнаружения (мистификация была раскрыта только в 80-х годах XIX в.). Рукописи состоят из нескольких десятков эпических и лирических произведений. Некоторые из них приближаются по типу к жанру поэмы. Опираясь на чешские исторические хроники, русскую и сербскую народную поэзию, сочинения далматинского поэта XVIII в. А. Качича-Миошича, на творчество Хераскова, Карамзина, а также на русский перевод «Песен Оссиана» (1792), Ганка и Линда создали в лучших произведениях рукописей высокохудожественный синтез. Дух национального самоутверждения отразился в героико-эпических повествованиях о борьбе чехов с чужеземными захватчиками, в образах героев-воителей, в романтизированных картинах древнечешского государства с развитыми правовыми нормами, в образе мудрой правительницы Либуше.
Важную роль в чешской общественной жизни и в литературе эпохи национального возрождения играло сознание родства и общности славянских народов и их культуры, идея славянской взаимности – иными словами, идея сплочения и единения славянских народов. Приобретавшая у разных писателей различные идеологические оттенки, в целом эта идея служила существенной моральной опорой в борьбе за национальное самоутверждение. Характерная для всей чешской литературы первых десятилетий XIX в., наиболее полное выражение идея славянской взаимности получила в творчестве Яна Коллара (см. о нем также в главе «Словацкая литература» настоящего издания).
Словак, писавший на чешском языке, Коллар (1793—1852) стал одновременно поэтом двух братских народов. Уже ранние сонеты, элегии, поэтические афоризмы Коллара, частью включенные в сборник «Стихотворения» (1821), а частью ходившие в списках, несли в себе страстный протест против национального гнета, поднимавшийся до революционного звучания (стихотворение «Патриот» и др.). Главное произведение Коллара – поэма «Дочь Славы» (основные редакции – 1824 и 1832 гг.), состоящая из нескольких сот сонетов. Просветительско-рационалистические убеждения слились в этом произведении с романтической мечтой. В центре поэмы – образ возлюбленной поэта, перерастающий постепенно в обобщенный образ славянки, дочери мифической богини Славы, покровительницы славянских народов, которая ведет поэта в его мысленном путешествии по славянским землям и в глубь истории славян, в ад и рай. Автор как бы обозревает в поэме прошлое славян и стремится прозреть будущее. Интонация одического воспевания деяний предков сливается с элегической тональностью, когда автор скорбит о вымерших и вымирающих под натиском германизации славянских племенах. Содержание поэмы во многом определяется тем, что поэт как бы соотносит преступления, совершенные иноземными захватчиками по отношению к славянам, с идеалами гуманности и просвещенности, с мечтой о свободе. Фантастические картины ада и рая – своего рода суд над историей. В ад поэт помещает алчных завоевателей и гонителей славянской культуры, в рай – героев славянской истории, выдающихся культурных деятелей, друзей славян. Основной пафос поэмы заключен в призыве к братскому единению славянских народов, которое, по мысли автора, должно привести их к свободе и к осуществлению идеалов человечности. Речь шла не о политическом – по крайней мере, вначале, – а о культурном сплочении. Национальное чувство не заслоняло у Коллара общечеловеческих идеалов. «Нацию почитай единственно как сосуд человечности, – писал он. – Пусть имя „славянин“ звучит как синоним слова „человек“». Идее славянской взаимности у Коллара во многом свойственны черты национальной утопии. Не проходя и мимо противоречий в отношениях между славянскими странами (образ Польши-«козленка», растерзанного «тремя державными орлами»), выступая против феодального гнета, поэт в то же время живет мечтой, что победит идея и человечности, и национального братства.








