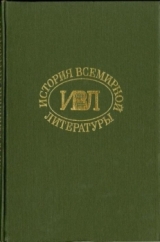
Текст книги "История всемирной литературы Т.6"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 102 страниц)
Сквозь все произведения Пушкина этих лет проходят, во-первых, разнообразные образы бушующих стихий: метели («Бесы», «Метель», «Капитанская дочка»), пожара («Дубровский»), наводнения («Медный всадник»), чумной эпидемии («Пир во время чумы»), извержения вулкана («Везувий зев открыл...» – одно из стихотворений 1834 г.); во-вторых, группа образов, связанных со статуями, столпами, памятниками, «кумирами»; в-третьих, образы человека, людей, живых существ, жертв или борцов– «народ, гонимый страхом» или гордо протестующий человек.
Первым компонентом образной структуры могло быть все, что в сознании поэта в какой-то момент могло ассоциироваться со стихийным катастрофическим взрывом. Второй – отличается от него различительным признаком «рукотворности», принадлежности к миру цивилизации в антитезе «сознательное – бессознательное». Третий противостоит первому как личное безличному и второму как человеческое над– или бесчеловечному. Остальные признаки могут разными способами перераспределяться в зависимости от конкретной исторической и сюжетной интерпретации целостной системы.
Истолкование каждой из образных групп зависит от формулы отношения ее с другими двумя. Первой приписываются признаки стихийного движения, размаха, неукротимости, силы и одновременно разрушительности, иррациональности и неуправляемости; второй – воли, разума, рациональности, созидательности и вместе с тем жестокой неуклонности, «каменности». Образ «кумира», памятника неизменно вызывает представление о направленной, цивилизаторской («культурной», а не стихийной) силе, рукотворной и имеющей человекоподобный облик, но внутренне мертвой. Человекоподобие статуи лишь подчеркивает ее отличие от живого, трепетного человеческого существа. В антитезе третьей группе первые две обнаруживают величие (каждая в своем роде) и бесчеловечность.

Наводнение в 1824 г.
Гравюра неизвестного художника. 1820-е годы.
Москва. Государственный музей А. С. Пушкина
Они таят для человека смертельную угрозу. Бессмысленная гибель от разбушевавшейся стихии или смерть, обусловленная каким-то бесчеловечным замыслом сверхчеловеческой воли, – разница для жертвы невелика. Но человек в этом конфликте может выступать не только жертвой, но и героем, возвышаясь до величия тех сил, которые ему противостоят.
Возможность автора встать на точку зрения любой из этих сил, соответственно изменяя конкретную смысловую ее интерпретацию, демонстрируется тем, что каждая из них для Пушкина не лишена своей поэзии. Ему понятна и поэтичность разбушевавшейся стихии: «Есть упоение в бою, // И бездны мрачной на краю, // И в разъяренном океане, // Средь грозных волн и бурной тьмы, // И в аравийском урагане, // И в дуновении Чумы». Даже чума предстает хранительницей грозной поэзии! Особой, но бесспорной поэзией овеян и дух Разума, и бесчеловечной Воли не только в своей зиждительной силе (начало «Медного всадника»), но и в губительной непреклонности («Ужасен он в окрестной мгле! // Какая дума на челе! // Какая сила в нем сокрыта!»). Даже физическая мощь и пространственная протяженность имеют свою поэзию. Поэзия третьей группы образов дает широкую гамму оттенков от идеала частной жизни частного человека до гордой независимости и величия личности. Этой поэзией напоен так называемый «каменноостровский цикл» – заключительный цикл пушкинской лирики, не случайно увенчанный «Памятником» – торжеством творческой личности, вознесшейся «главою непокорной» выше памятника из камня и металла.
Образы стихии могут ассоциироваться и с природно-космическими силами, и со взрывами народного гнева, и с иррациональными силами в жизни и истории («Пиковая дама», «Золотой петушок»). Статуя – камень, бронза – прежде всего «кумир», земной бог, воплощение власти, но она же, сливаясь с образом Города, может концентрировать в себе идеи цивилизации, прогресса, даже исторического Гения. Бегущий народ ассоциируется с понятием жертвы и беззащитности. Но здесь же – все, что отмечено «самостояньем человека» и «наукой первой» – «чтить самого себя».
Испытание на человечность является в конечном счете решающим для оценки участников конфликта. Здесь обнаруживается разница между безусловной бесчеловечностью природных или потусторонних стихий и потенциальной человечностью стихии народного мятежа (Архип, Пугачев). Исторические и государственные начала второй группы могут также реализовываться в бесчеловечной абстрактной разумности и в человечности человеческой непоследовательности («Пир Петра Великого»). Наконец, и образы третьей группы не всегда реализуют семантику униженности и обреченности. Они могут, противостоя абстрактной Воле, возвыситься до бунта (Евгений) или, не признавая иррациональной разрушительности стихий, героически противопоставить ей волю и творческую энергию Человека (Вальсингам) и бескомпромиссность нравственной стойкости (Священник).
Картина усложняется наличием образов, входящих в несколько основных образных полей. Таковы образы Дома и Кладбища. Дом – сфера жизни, естественное пространство Личности. Но он может двоиться в образах «домишки ветхого» и дворца. Оклеенная золотыми обоями изба Пугачева парадоксально соединяет эти два его облика. «Кладбище родовое» – «животворящая святыня», естественно связанная с Домом, и место, где уродливо сконцентрированы жалкие статуи – «дешевого резца нелепые затеи». Пугачев в «Капитанской дочке» и Петр в «Пире Петра Великого» неожиданно демонстрируют спасительное проникновение человечности в чуждые ей образные группы.
Создаваемые в этом смысловом поле сюжеты состоят в нарушении стабильного соотношения образов: стихия вырывается из плена, статуи приходят в движение, униженный вступает в борьбу, неподвижное начинает двигаться, движущееся каменеет. Однако если движение входит в сущность и стихии и человека и воспринимается как возврат их к естественному состоянию, то противоестественное движение камня и металла (пассивное: «кумиры падают» – или активное в «Каменном госте», «Медном всаднике» или «Золотом петушке») производит зловещее впечатление. Это связано с тем, что за всеми столкновениями и сюжетными конфликтами этих образов для Пушкина 1830-х годов стоит еще более глубокое философское противопоставление Жизни и Смерти. Все динамическое, меняющееся, способное «мыслить и страдать», принадлежит Жизни, все неподвижное, застывшее – Смерти. И человеческая и космическая жизнь – постоянное рождение, оживление, одухотворение или окаменение, застывание, механическое мертвое движение, безумное повторение одного и того же цикла.
Творческий мир Пушкина един в своем удивительном разнообразии. При всем богатстве тем и жанров (в последнем отношении творчество Пушкина энциклопедично – охватывает все жанры современной ему литературы) центральным стержнем его всегда остается лирика. И если в последние периоды уделяемое ей относительное количество строк сокращается, то тем заметнее повышается ее идейно-философская значимость. Так, несколько стихотворений «каменноостровского цикла» по праву считаются вершиной и поэтическим завещанием Пушкина.
Переход Пушкина к реализму отразился в лирике, как и в других жанрах. Романтизм создал общий для всей европейской поэзии канонический образ лирического повествователя. Противоречие между устойчивостью этого образа и причудливым варьированием его интерпретаций в связи с личностью, судьбой и темпераментом того или иного поэта создавало многочисленные контрастные художественные возможности. Новый этап пушкинской лирики начинается с расширения национально-культурных обликов повествователя: интерес к поэзии и фольклору разных народов и эпох приводит к практически безграничному расширению точек зрения лирики, что еще современники определили как «протеизм» Пушкина. Такое построение лирического образа, смыкаясь с идейными поисками в области историзма и народности, получало в лирике и специфический смысл. Лирика разрабатывает те же проблемы, что и остальное творчество поэта, но разрабатывает их в особых формах. Лирическая поэзия, с одной стороны, предельно конкретна, биографична, связана со случайностями изменчивых жизненных обстоятельств, а с другой – предельно обобщена, философична, просматривает сквозь пестроту событий, вызывавших то или иное стихотворение, самую глубину жизни.
В основе всей зрелой лирики Пушкина лежит конфликт жизни и смерти, тайна смысла бытия. Этот взгляд, брошенный в глубину, не снимает остроты злободневных переживаний, не уменьшает их масштабов, а придает им смысл («смысла я в тебе ищу» становится как бы эпиграфом пушкинского отношения к жизни).
Жизнь, в сознании Пушкина, имеет своими признаками разнообразие, полноту, движение, веселье; смерть – однообразие, ущербность, неподвижность, скуку. Жизнь стремится расшириться, заполняя все новые и новые пространства, смерть – схватить и унести к себе, замкнуть, спрятать: «Смерть... Свою добычу захватила» («Какая ночь! Мороз трескучий...»). В «Послании к Дельвигу» череп выносят из склепа, и поэт советует превратить его «в увеселительную чашу» или сделать собеседником поэтических раздумий о тайне жизни: «О жизни мертвых проповедник, // Вином ли полный иль пустой, // Для мудреца, как собеседник, //
Он стоит головы живой». В этом контексте этническое, историческое и культурное разнообразие лирических повествователей, непредсказуемость лица, от имени которого заговорит поэт, становятся проявлением полноты и разнообразия жизни. Поэзия и жизнь – как бы два названия одной сущности.
Жизнь в лирике Пушкина всегда причастность, смерть – выделенность. Причастность чувству другого человека, дружбе, любви, включенность в толпу, поэзию, пейзаж, природу, историю, культуру. Смерть – уход в одиночество, вниз, «в холодные подземные жилища» («когда сойду в подвал мой тайный»). Образным выражением причастности в лирике Пушкина будет круг (друзей), пир («содвинем бокалы!») или цепь, связующая поколения, «отеческие гробы» и «младую жизнь». Любовь и радость получают в этом контексте глубокий смысл приобщения к сверхличностной жизни. Это придает стихотворениям «на случай», альбомным мадригалам и другим, казалось бы, «незначительным» мелким стихотворениям глубокий смысл.
Борьба жизни и смерти отражается в образах движения, застывания, в конфликте текучего и неподвижного. Одновременно возникают противоположные образы: мертвого движения («топот бледного коня») и устойчивости жизни («нет, весь я не умру»). Образы эти могут варьироваться в сложных переплетениях смыслов. Так, могила («отеческие гробы», «гробовой вход»), включенная в непрерывность жизненного, исторического круговорота, воспринимается как образ жизни; творческая мысль подвижна и жизненна – «слова, слова, слова» («Из Пиндемонти») государственной бюрократии мертвы. Пушкина привлекают трагические конфликты проникновения смерти в пространство жизни и героические попытки силой любви, творчества, страсти отвоевать у смерти ее жертву («Заклинание», «Как счастлив я, когда могу покинуть...»). Это вызывает интерес к пограничной сфере, где любовь и смерть переплетаются. Давнее для Пушкина отождествление любви и свободы приводит к включению свободы – неволи и всего подчиненного этому образу семантического поля в смысловое пространство жизни – смерти.
Тема жизни и смерти вызывает вне их лежащую, но неразрывно с ними связанную тему бессмертия. Жизнь противостоит бессмертию как включенное во время вневременному, смерть – как небытие бытию. Смерть – отсутствие существования, бессмертие – вечное бытие. Бессмертие, заключающее в себе внутренний конфликт, имеет противоречивые признаки яркости, гениальности личного существования, расцвета личности и связанной с этим «науки первой» – «чтить самого себя» и растворения личного бытия в «равнодушной природе», в бессмертии народной исторической жизни, искусстве и памяти поколений.
Насколько тесно связана лирика с другими жанрами, видно на примере «Памятника». Обилие связей с непосредственными жизненными впечатлениями и глубоко усвоенной литературной традицией организуется уже рассмотренной нами эпической схемой: народ – кумиры – личность. Здесь нерукотворный памятник поэта возносится выше александрийского столпа («кумиры падают» «с шатнувшихся колонн»), а народ и личность выступают как союзники («не зарастет народная тропа», «долго буду... любезен я народу») – ситуация, совпадающая с замыслом «Сцен из рыцарских времен». Но одновременно, на еще более глубоком уровне, просматривается конфликт бессмертия, которым награждается труд гения, вошедший в народную память, и смерти, воплощенной в каменном «кумире».
Здесь выразился основной пафос поэзии Пушкина – устремленность к жизни.
Имя Пушкина рано сделалось известным европейскому читателю: в 1823 г. вышли две антологии русской поэзии К. фон дер Борга (Рига и Дерпт) на немецком языке и Дюпре де Сен-Мора в Париже на французском (в двух типографских вариантах). Обе антологии давали лестные оценки таланту молодого поэта и знакомили читателей с отрывками из «Руслана и Людмилы». Однако прижизненные переводы были немногочисленны и не отличались высоким качеством. На немецкий язык, кроме фон дер Борга, Пушкина переводил А. Вульферт в немецком «Санкт-Петербургском журнале» (1824—1826), опубликовав «Кавказского пленника», отрывок из «Руслана и Людмилы» и «Бахчисарайский фонтан». В 1831 г. К. фон Кнорринг перевел «Бориса Годунова». Наиболее удачными прижизненными переводами на немецкий язык следует считать опыты Каролины Яниш-Павловой.
На французский кроме Дюпре де Сен-Мора Пушкина переводили малодаровитые поэты, в основном служебно связанные с Россией, например Ж. Шопен и Лаво. Переводы их выходили в России и во Франции остались незамеченными. Этого нельзя сказать про переводы пушкинской прозы П. Мериме. Не будучи всегда точными, они вводили Пушкина в мир «высокой» литературы. Хотя, как указано М. П. Алексеевым, первое упоминание имени Пушкина на английском языке относится к 1821 г., количество английских прижизненных переводов было невелико и роль их незначительна.
Мировое признание к Пушкину пришло позднее, когда зарубежные читатели познакомились с рожденной им великой литературой – литературой Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, Чехова...
В свое время Достоевский в связи с выходом «Анны Карениной», когда Гончаров сказал ему, что с этим произведением русская литература может показать Европе свое самобытное лицо, отвечал на страницах «Дневника писателя»: «Мы, конечно, могли бы указать Европе прямо на источник, то есть на самого Пушкина, как на самое яркое, твердое и неоспоримое доказательство самостоятельности русского гения».
В этом разгадка все увеличивающегося числа переводов Пушкина на языки мира, растущего интереса к его творчеству.
БАРАТЫНСКИЙ
Судьба Евгения Абрамовича Баратынского (1800—1844) в пору полной творческой зрелости, «высших звуков» (30-е – начало 40-х годов) – судьба «последнего поэта» пушкинской поэтической эпохи. В 1842 г. Белинский писал, откликаясь на позднюю и заветную книгу поэта «Сумерки», о «ярком, замечательном таланте поэта уже чуждого нам поколения». Для Белинского в 40-е годы поэзия Баратынского была безнадежно отставшей от быстрого хода времени – как историческим пессимизмом своей философии, так и своей архаической поэтикой.
Но и в раннюю пору ярких успехов «певца Пиров и грусти томной», в 20-е годы, он также «отставал», по общему мнению, от ведущего литературного движения, означавшегося широко и разноречиво понимаемым термином «романтизм». «Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком», – писал Дельвиг Пушкину 10 сентября 1824 г., и это суждение было типичным. «Французская школа» означала рационализм и классицизм, воспринятые из французской литературы предшествовавшего столетия традиции дидактической и эпикурейской поэзии. С. Шевырев, рецензируя первый сборник Баратынского 1827 г., подчеркнул дидактический тон и формальный блеск («желание блистать словами», «щеголеватость выражений»), заключив, что «его можно скорее назвать поэтом выражения, нежели мысли и чувства».
Среди судей и критиков Баратынского на поворотном для него рубеже 20—30-х годов были, однако, двое, отказавшиеся оценивать его с точки зрения оппозиции классицизма и романтизма и не прилагавшие к нему этих понятий, – Пушкин и Иван Киреевский. Крупная самобытность поэта, не укладывающаяся в критерии направлений и школ, – исходная предпосылка их суждений о Баратынском. «Он шел своею дорогой один и независим» – таково решающее суждение Пушкина, находившего, очевидно, в облике Баратынского нечто близкое своему идеалу поэтической независимости и «тайной свободы». Ни к кому из современников-поэтов не относился Пушкин с таким напряженным вниманием и никого не ставил так высоко: «Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды» – Батюшкова. Но в 30-е годы уже и Пушкин молчит о Баратынском, и, видимо, новое творчество поэта не так близко ему, как Баратынский 20-х годов. В 20-е годы Пушкин всегда говорит о нем в тоне высшего признания, как о равном поэте, определяя при этом область его первенства – элегию.
В ранней лирике Баратынского сильны эпикурейские мотивы, за ним закрепляется слава «эротического» поэта и «певца Пиров»; но сразу же к этим общим мотивам примешивается «необщее выражение», вызвавшее поэтическую характеристику Пушкина: «задумчивый проказник». Рядом с любовной элегией («Ропот», 1820; «Разуверение», 1821; «Поцелуй», 1822; «Признание», 1823; «Оправдание», 1824) сразу же выступает у Баратынского прямая лирико-философская медитация («Дельвигу», 1821; «Две доли», «Безнадежность», «Истина», 1823; «Стансы», 1825). Но и в любовную элегию проникает и становится главным началом в ней «раздробительная» (характеристика ума Баратынского Вяземским) рефлексия над таинственными законами изменения чувства, проявившимися в любовной истории; уже в ранних элегиях Баратынского чувство «мыслит и рассуждает», и ум «остуживает» поэзию (И. С. Аксаков), внимание переносится на закономерное и общее в человеческих отношениях. Господствующая тема разрушительного хода времени сказывается в некоторых элегиях необычным расширением временного диапазона, позволяющим уподобить «Признание» «предельно сокращенному аналитическому роману» (Л. Я. Гинзбург), образцом которого был любимый Баратынским «Адольф» Б. Констана. По пушкинской формуле, в этом романе «современный человек изображен довольно верно»; можно по праву перенести эту формулу и на «Признание» Баратынского. В ранних элегиях поэта изначально заложена тенденция к философскому расширению изнутри, реализующаяся затем в зрелом творчестве. Поэтому в 1824 г. Баратынский оказался готов к принятию данной Кюхельбекером критики элегии как формы субъективной и узкой, не вмещающей современного исторического и гражданского содержания.
Как уже отмечалось, в 20-е годы элегия стала полем эстетической борьбы и поэтических преобразований. Баратынский отозвался с одобрением на выступления Кюхельбекера против условного языка элегии и тогда же сам в послании «Богдановичу» (1824) предал самокритике общие и собственные «задумчивые враки». Тем самым он, однако, отнюдь не переходил на эстетические позиции Кюхельбекера и не сходил с «элегического» пути, но был на этом пути накануне своих откровений в русской поэзии; этот момент и запечатлела самокритика 1824 г.
Замечательную, во многом уже итоговую, характеристику пути Баратынского дал в 1838 г. Н. А. Мельгунов: «Баратынский по преимуществу поэт элегический, но в своем втором периоде возвел личную грусть до общего, философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества». Единство пути поэта и укорененность философской поэзии «второго периода» в ранних элегиях почувствованы здесь точно.
Вышедшие в 1827 г. как итог «первого периода» «Стихотворения Евгения Баратынского» вызвали уже цитированный суровый отзыв С. Шевырева. На несправедливость его и глухоту рецензента к сокровенному существу Баратынского сетовал Пушкин в письме Погодину (19 февраля 1828): «Грех ему не чувствовать Баратынского...» Но претензии Шевырева были голосом уже нового поколения деятелей и поэтов, вышедших из московского кружка любомудров, и новым требованием поэзии, «неразлучной с философией» (Д. В. Веневитинов). В это же время и сам обосновавшийся с 1826 г. в Москве Баратынский уже идет навстречу новому пониманию поэзии. Он воспринимает новые умственные интересы, отразившиеся впервые в письме Пушкину от января 1826 г., где сообщается в первых же словах как новое и важное: «Нам очень нужна философия». Скоро эта философская прививка проявится в том начинающемся повороте к возведению «личной грусти в общее значение», о котором скажет потом Мельгунов и которое обнаруживается в совершенно новых для поэта стихотворениях – «Последняя смерть» (1827) и «Смерть» (1828).
К этому же поворотному времени относится «Сцена из поэмы «Вера и неверие»» (1829), остро поднимающая глубинную, выраженную в заглавии тему. Предвосхищаются вопросы Ивана Карамазова, и с той же аргументацией: богоборческий ропот с силой аргументируется указанием на несовершенный и «смутный» мир, являющий «пир нестройный», «смешенье» зла и добра. Возникает проблема теодицеи, она составит сквозную тему у Баратынского, отливаясь в формулу оправдания Промысла.

Е. А. Баратынский
Литография А. Мюнстера с рисунка А. Лебедева
Из факта «смешенья» («наружного беспорядка в видимом мире») исходит и эстетическая теория Баратынского, единственный раз им публично изложенная в предисловии к поэме «Наложница» (1831; в повторном издании – 1835– переименована в «Цыганку»). Поэтически роковое «смешенье» переживалось как «хаос нравственный» и порождало сомнение и «мятеж». В предисловии же к «Наложнице» то же «смешенье», «дозволенное Провидением», парадоксально признано фактом нравственным: «Характеры смешанные... одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность». Здесь формируется наряду с лирическим мятежом другая реакция и другая позиция по отношению к нравственному хаосу мира: бестрепетное исследование. Не случайно она формируется в объяснении на поэму, «самый род» которой требует объективно-эпического развертывания противоречивого мира, и прежде всего противоречивых характеров, и постижения логики и нравственной цели такого устройства мира. Но эта позиция нарастает и в лирике, порождая одно из поздних стихотворений, которое называют программным и которое хочется также назвать методологическим, – «Благословен святое возвестивший!» (1839). «Две области: сияния и тьмы // Исследовать равно стремимся мы» – строки эти всегда цитируются как декларация поэта-исследователя. Это так, но важно почувствовать здесь два пафоса, выражающихся такими стилистически разнородными фразеологизмами (как бы из разных языков): «сияния и тьмы» – «исследовать равно». «Научный» метод исследователя вводится в мир мистерии (вспоминается мистериальный мир «Братьев Карамазовых» с их темой двух бездн – «веры и неверия», разом созерцаемых). Сквозь интеллектуальный холод исследовательского объективизма проступает тайным жаром эмоция нравственного подвига такого исследования.
Три поэмы Баратынского («Эда», 1824—1825; «Бал», 1825—1828; «Наложница», 1829—1831) также принадлежат переходной второй половине 20-х годов. Расширение и укрупнение творчества влекло к большому жанру, каким – «формой времени» – была романтическая поэма. Автор сам называл свои поэмы романтическими («Наложницу» даже «ультраромантической»), ими он выходил на авансцену литературной жизни, от которой болезненно чувствовал себя удаленным. Он при этом хотел «идти новою, собственною дорогой», не подражая «ни Байрону, ни Пушкину», как он объяснялся по поводу «Эды», однако в итоге трех опытов (особенно последнего) мог бы повторить также сказанное по поводу «Эды»: «Я желал быть оригинальным, а оказался только странным!» Итогом этого стал чрезвычайно чувствительный неуспех «Наложницы», которой он придавал самое серьезное значение, и сознательное оставление поприща поэмы.
В «Бале» и «Наложнице» романтическая «поэтика контрастов» сгущена в самом деле до «ультраромантического». В то же время позиция автора не сбалансирована, что делает поэмы «странными», как бы экспериментально-романтическими. Эту раздвоенность в отношении к героине почувствовал Пушкин в «Бале»: «Напрасно поэт берет иногда строгий тон порицания, укоризны, – писал он в наброске статьи об этой поэме, – напрасно он с принужденной холодностью говорит о ее смерти, сатирически описывает нам ее похороны и шуткою кончит поэму свою. Мы чувствуем, что он любит свою бедную страстную героиню». Раздвоенность автора сказывается в непримиренном соединении рискованного «имморализма» (напряженный интерес-влечение к «свободным» характерам и их нравственно-экспериментальному поведению, отношение к ним, которое Пушкин назвал «болезненным соучастием») с резким морализмом, вместе с шокирующим физиологизмом описаний (умершей Нины), сатирой и эпиграммой (похороны ее, концовка поэмы).
Тема двух главных поэм Баратынского – возрождение падшей души. Автор подчеркивал «романтизм» и значительность характера своего Елецкого, отмежевывая его от «прозаического» (на взгляд романтиков 20-х годов) пушкинского Онегина: «Онегин человек разочарованный, пресыщенный; Елецкий страстный, романтический. Онегин отжил, Елецкий только начинает жить... Онегин неподвижен, Елецкий действует». В виде романтических поэм Баратынский создал своего рода мистерии падения и возрождения, борьбы мрака страстей и света любви в душе человека. Но героизм сюжета в то же время парализован и охлажден предопределенной заранее обреченностью этого порыва к возрождению: карма греха и падения обращает возрождающуюся любовь в возмездие и «казнь», предопределенную заблуждениями «судьбину», над которою не дано возобладать человеку.
В предисловии к поэме автор пользуется теологическими аргументами, ссылаясь на Провидение. Однако господствующая в поэме непросветленная карающая «судьбина» без возможности спасения ближе к судьбе языческой, чем к христианскому Провидению; действующему герою не дано прорвать ее кольца. Отсюда и в эстетической теории автора (в предисловии) с теологическими аргументами парадоксально соединяются положения как бы позитивистские, натуралистические, наводившие исследователей на аналогии с будущими статьями Золя об экспериментальном романе (известна роль фаталистического детерминизма в таком романе): в литературе надо видеть «науку, подобную другим наукам, искать в ней сведений», «истины показаний», а не «положительных нравственных поучений»: «что истинно, то нравственно». Нечто вроде фаталистического оцепенения перед «показаниями» поэмы представляет и позиция ее автора, порождающая известное отчуждение его от героев, что и отражено в этой одновременно романтически-иррациональной, нравственно-суровой и натуралистически-холодной эстетике.
Распутье конца 20-х – начала 30-х годов сказалось у Баратынского разнообразием замыслов, проб и планов. Как и поэмы (в сущности, тоже пробы, при всем их самостоятельном интересе), все эти опыты направлены на выход из элегического «уединения», на творчество в новых и крупных формах, и все приносят лишь изолированные и малые результаты. Как Пушкина в свое время, его «клонит к прозе», что приносит лишь небольшую повесть «Перстень» (1831), к критике и журнальной полемике. Почти все эти опыты выполнены для журнала И. Киреевского «Европеец», правительственное запрещение которого в начале 1832 г. стало тяжким ударом для Баратынского и отозвалось упадком деятельности и углублением «уединения». Уединенная же умственная жизнь в письмах «другу в поколеньи» – Киреевскому (1829 – середина 30-х годов) – замечательно интенсивна и показывает стремление к широким теоретическим построениям. В то время когда в России впервые обсуждаются эстетические проблемы романа, Баратынский дает в ряде писем 1831 г. свой набросок теории романа, исходящей из «современных требований». «Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени» оттого, что были в своих романах либо «спиритуалистами», либо «материалистами». «Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом». Речь идет о задаче, как раз в это время решавшейся европейским романом, задаче синтеза двух линий, в значительной мере обособленно развивавшихся в истории романа предшествующих двух столетий – «экстенсивной» и «интенсивной», романа «внешнего» и «внутреннего» действия, авантюрного и психологического.
Сердцевины творческих волнений поэта касается письмо-отклик (лето 1832 г.) на сообщение Киреевского о гражданской поэзии Гюго и Барбье («Ямбы», 1831), рожденной событиями Июльской революции 1830 г. «Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма; это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас... Что для них действительность, то для нас отвлеченность. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм – наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение».
Итак, «новая поэзия» – а потребность в ней составляет предпосылку этого размышления – должна быть «поэзией веры». Спорили о том, разумеется ли под верой религиозная или же – по контексту судя – общественная, энтузиазм политический. Очевидно, так широко названо одушевление сверхличными идеалами, поскольку противопоставлена поэзии веры поэзия индивидуальная. Последняя же мыслится связанной с исторически промежуточным состоянием «безверия», «разуверения», также, по-видимому, и религиозного, и общественно-политического (после 1825 г.). Но и эта поэзия не дает удовлетворения и наводит на мысль о принципиальном отказе вообще от поэзии. В конце того же 1832 г. Баратынский так мотивирует этот отказ в письме к Вяземскому: «Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело» (т. е., видимо, время «поэзии веры» еще не созрело). Впереди, однако, были «Сумерки».
Поздняя поэзия Баратынского была создана в этом осознанном вакууме и стала исторически крупным его выражением. Отказавшись от эпических проб и большого жанра, поэт «углубляется в себе» и на этом пути, не покидая тесной рамки своей лирической формы – своей самобытной элегии, необычайно ее изнутри содержательно расширяет. Совершается то, что тогда же описано Мельгуновым: возведение личной грусти в общее значение и перерастание в элегию современного человечества. Как это происходит, можно видеть на стихотворении «Болящий дух врачует песнопенье...» (1834), первый же стих которого воспроизводит до неузнаваемости преобразованную ситуацию «Разуверения», «Ропота» и других «эротических» ранних элегий – врачеванье «больной души»: на месте последней теперь, однако, «болящий дух», и врачует его не женщина, а «песнопенье»; таковы герои новой поэзии Баратынского. Конкретная ситуация любовного общения преобразуется в чистую мысль, притом «широкую»: «болящий дух» – категория эпохальная, характеризующая современное человечество, век (ср. «Наш век» Тютчева, 1851). Но душевная конкретность и драматичность скрыто присутствуют в новой духовной ситуации, и чистая мысль не перестает быть поэтической.








