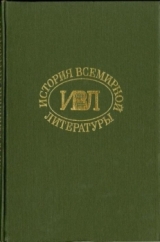
Текст книги "История всемирной литературы Т.6"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 102 страниц)
пропагандисты и полководцы времен революции XVII в. Ведь он действительно являлся наследником и продолжателем традиций религиозно-революционного протестантизма, того самого, которое, по словам Маркса, пользовалось языком и страстями Ветхого завета для выражения своей политической программы.
Как изготавливал Блейк самодельные гравированные книги, так создавал он и самобытно-самодельную мифологию, компоненты которой оказались им взяты на небе и в преисподней, в христианской и языческой религиях, у старых и новых мистиков. Задача этой особой, рационализированной религии – всеобщий синтез. Сочетание крайностей, соединение их через борьбу – таков принцип построения блейковского мира. Блейк стремится свести небо на землю или, вернее, воссоединить их, венец его веры – обожествленный человек.
Основные свои произведения Блейк создал еще в XVIII в. Это «Песни невинности» (1789) и «Песни опыта» (1794), «Бракосочетание неба и ада» (1790), «Книга Уризена» (1794). В XIX в. им были написаны «Мильтон» (1804), «Иерусалим, или Воплощение Гиганта Альбиона» (1804), «Призрак Авеля» (1821). По жанрам и форме поэзия Блейка также являет собой картину контрастов. Иногда это лирические зарисовки, короткие стихотворения, схватывающие уличную сценку или движение чувства; иногда это грандиозные по размаху поэмы, драматические диалоги, иллюстрированные столь же масштабными авторскими рисунками, на которых – гиганты, боги, могучие человеческие фигуры, символизирующие Любовь, Знание, Счастье, или же нетрадиционные, самим Блейком изобретенные символические существа, вроде Уризена и Лоса, олицетворяющих силы познания и творчества, или, например, Теотормона – воплощенной слабости и сомнения.
Причудливые боги Блейка призваны восполнить пропуски в уже известной мифологии. Это символы тех сил, которые не обозначены ни в античных, ни в библейских мифах, но которые, по мысли поэта, есть в мире и определяют участь человеческую. Например, Уризен: одновременно и всемогущий бог, напоминающий Иегову, и порабощенный человек, сам разум, могучий и – ограниченный, познавательно-разрушительная мощь сознания: человек и пользуется этой мощью, и сопротивляется ей. Без Уризена нельзя, но и Уризен сам по себе ничто, если от срока и до срока не сочетается он с Лосом-воображением и с Лувахом-страстью. Таким образом, своей мифологией Блейк стремился как можно полнее отразить жизненную диалектику. Ведь он и самому Мильтону, перед которым преклонялся, как бы заочно, задним числом разъяснял смысл его собственных поэм. Всюду и во всем Блейк стремился заглянуть глубже, дальше, чем это было принято.
Манчестерский университет. Художественная галерея «В одном мгновенье видеть вечность и небо – в чашечке цветка» – центральный принцип Блейка. Речь идет о зрении внутреннем – не внешнем. В каждой песчинке Блейк стремился усмотреть отражение духовной сущности. Поэзия и вся деятельность Блейка – протест против ведущей традиции британского мышления, эмпиризма. Заметки, оставленные Блейком на полях сочинений Бэкона, «отца современной науки», в самом деле говорят о том, насколько Блейк изначально был чужд этой первооснове мышления Нового времени. Для него бэконовская «достоверность» – худшая ложь, равно как и Ньютон в блейковском пантеоне фигурирует в качестве символа зла и обмана. «Предметы природы, – замечал Блейк на полях вордсвортовских стихов, – как всегда, так и теперь, ослабляют, мертвят и разрушают воображение. Вордсворт должен бы знать, что все ценное в его поэзии идет не от природы». Впрочем, Блейк считал, и не без оснований, что теоретические положения, выдвигаемые Вордсвортом, расходятся с его же практикой.
В стихах Блейка немало созвучного романтикам: универсализм, диалектика, пантеистические мотивы, стремление к всеохватывающему, духовно-практическому постижению мира. Блейк, казалось бы, мог и даже должен был встретить со стороны своих младших современников полное понимание. Действительно, они к нему присматривались и – отшатывались, чувствуя разницу. В отношении к миру у Блейка проявляется такой мистический символизм, который был, на взгляд романтиков, чрезмерным. Кольридж, как и Вордсворт, нашел строки Блейка созвучными некоторым своим стихам, однако отметил, что рядом с мистической символикой Блейка его собственный символизм, тоже мистически окрашенный, выглядит «обывательским здравомыслием». Поэт-визионер словно прозревал единство одухотворенной материи, высшим воплощением которой оказывается у него человек-бог, идеально развитая (притом двуполая) личность.
При таком вселенском размахе поэзия Блейка в то же время прочно прикреплена к земле, она укоренена в интересах социальных и политических, злободневных. Блейковские поэмы, а также отдельные стихотворения символизируют и рождение за океаном нового, демократического государства, и свершения Французской революции, и грядущее преображение Англии, на которое Блейк возлагает свои надежды. Конечно, это – «фантастическое описание будущего общества», о чем говорил Энгельс, характеризуя ранний утопический социализм (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 456).
«Тигр» и «Лондон» – два небольших, широко известных, часто помещаемых в антологии стихотворения Блейка из «Песен опыта». Оба отличаются яркой картинностью, оба представляют собой зарисовки, на одной из которых – мощный хищник, на другой – серый, печальный город (это стихотворение предвосхищает «лондонские» строки Вордсворта). Однако, по мнению комментаторов, и здесь символизм: перед нами Лондон в момент особый, в ожидании французской интервенции и мятежа – революционный пожар вот-вот может перекинуться с континента на острова, в то же время в город могут быть введены прусские войска, вызванные английским королем, немцем по происхождению, так что апатия и тоска на лицах, наблюдаемых поэтом, – это не просто повседневные тяготы жизни, не только бедность, это тревога за судьбы родины. Точно так же в стихотворении «Тигр»: не великолепие силы вообще, но – воплощение революционной энергии.
Это стихотворение, как установили исследователи, обрело популярность уже при жизни поэта, что только усложняет наши представления о судьбе Блейка, которая и без того не подходит под более или менее распространенные варианты прижизненного «непризнания» классиков. Ведь крупнейшие современники-художники, которые видели рисунки и гравюры Блейка, признали их оригинальность. Со стихами его были знакомы авторитетные литературные судьи, в свою очередь высоко оценившие его дарование. И все же Блейк остался на периферии творческой среды, вне журнальной полемики своего времени. О нем в печати даже не спорили, он не удостоился хотя бы нападок, очутившись за пределами текущего литературного процесса. Почему же? Подытоживая все, к настоящему моменту выясненное, можно считать, что за вычетом обстоятельств относительно случайных (тоже, конечно, сыгравших свою роль) основным препятствием на пути Блейка в литературный мир было его сектантство. А он являлся, в сущности, сектантом, ибо воззрения его связаны с евангелизмом, наиболее демократическим, крайним, антицерковным направлением протестантизма. Так в свое время было и с Дефо, рядом с которым Блейк нашел вечный покой: сектантства в Англии всегда опасались даже больше, чем атеизма, именно потому, что в религиозных разногласиях гнездилась сословно-классовая вражда, некогда приведшая к революции и гражданской войне.
Как выше сказано, на склоне дней Блейк оказался окружен почитателями, пусть немногочисленными (преимущественно молодыми художниками, которые символически называли себя «древними»), подлинное же признание пришло к нему посмертно. Спустя пятнадцать лет после его кончины, в 40-х годах XIX в., он был заново открыт «Братством прерафаэлитов». Блейк, с его призывом «прекратить разговоры о мраке средних веков» (замечания на полях трактата Джошуа Рейнольдса), с его кустарными книгами и напряженным спиритуализмом, оказался возвеличен как пророк поэтами и художниками, стремившимися воскресить дух и дела старинного ремесленничества в процессе дальнейшей, уже неоромантической реакции на буржуазный прогресс. На исходе века Блейка окончательно канонизировали английские символисты. В нашем веке, особенно в кругах модернистов, популярность Блейка еще более возросла, причем на первый план выдвигается литературщина, заумь, эротика, которые ему в известной мере, конечно, были свойственны. Таким образом, посмертное открытие Блейка – это в значительной степени эстетизация, подчеркивание одних особенностей его поэзии за счет затушевывания других. Но, как бы там ни было, Блейк, некогда «отвергнутый пророк», встал в один ряд с современниками, которые его недооценивали или вовсе не замечали.
Признанными зачинателями английского романтического движения явились Вордсворт и Кольридж, основатели и вожди так называемой «Озерной школы».
Уильям Вордсворт (1770—1850), сын стряпчего, ведавшего делами аристократа-землевладельца, родился на севере Англии, в Камберленде, краю озер. Учился он в местной школе и в Кембриджском университете. После поездок по стране и путешествия на континент (прежде всего во Францию) Вордсворт вернулся в родные края и поселился здесь вместе с друзьями-поэтами. Отсюда и наименование «лейкистов» – «озерников».
Как нередко бывает, это название возникло случайно, в полемике, исходило оно от противников «школы» и содержало насмешливый намек на водянистость, излишнее многословие в произведениях поэтического содружества, к которому кроме Вордсворта и Кольриджа причислили еще Саути. Сами же поэты, жившие в озерном краю, не только себя так не называли, но отказывались признавать свое творческое единство. И все же «Озерная школа» как определенное, хотя и не полное, духовное родство существовала. Более того, к ней не только примыкали три перечисленных поэта, на нее так или иначе ориентировались все английские романтики.
Первые поэтические опыты Вордсворта, которые он печатал начиная с 90-х годов XVIII в., не произвели заметного впечатления, в том числе и его отклик на события Французской революции, отклик восторженный, сменившийся впоследствии испугом и – отступничеством. После «Лирических баллад» (1798), изданных им совместно с Кольриджем, начинается утверждение той репутации Вордсворта, которая за ним сохранилась, стала канонической: Вордсворт считается у англичан одним из крупнейших лирических поэтов.
Наследие Вордсворта, соответственно его долгой жизни, весьма обширно. Это лирические стихотворения, баллады, поэмы, из которых наиболее известны «Прогулка» (1814), «Питер Белл» (1819), «Возница» (1805—1819), «Прелюдия» (1805—1850), представляющая собой духовную автобиографию поэта. Он оставил, кроме того, несколько томов переписки, пространное описание озерного края и ряд статей, среди которых особое место занимает предисловие ко второму изданию (1800) «Лирических баллад», сыгравшее в английской литературе роль столь значительную, что его так и называют «Предисловием»: это вроде «вступления» к целой поэтической эпохе.
Приписывается «Предисловие» по традиции одному Вордсворту, но в нем, совершенно очевидно, участвовал, хотя бы как советчик, и Кольридж, вообще отличавшийся гораздо большей склонностью к теоретизированию. Первое издание «Лирических баллад» открывалось кратким предуведомлением. В издании 1800 г. сохранилась его исходная идея, заключавшаяся в том, что это стихи экспериментальные, что они являются «испытанием общественного вкуса», в остальном же введение разрослось за счет рассуждений о нормах поэтического языка и процессе творчества. В принципе «Предисловие» является манифестом естественности, понимаемой широко: как сама жизнь, отразившаяся в поэзии, как лишенный искусственности, непосредственный способ выражения.
Основная творческая заслуга Вордсворта как поэта и заключается в том, что он словно заговорил стихами – без видимого напряжения и общепринятых поэтических условностей. Ныне, конечно, многое в его стихах выглядит традиционным, но в свое время это казалось, по определению Пушкина, «странным просторечием». «Мы хотели представить вещи обычные в необычном освещении», – пояснял впоследствии замысел «Лирических баллад» Кольридж. Между собой они задачи поделили. Вордсворт взял на себя обычное. Кольридж должен был необычайное приблизить к читателю, сделав почти вещественным таинственное и фантастическое. Принцип был один: все, чего только ни касается поэтическое перо, должно производить впечатление естественности.
«Лирические баллады» открывались «Сказанием о Старом Мореходе» Кольриджа и «Тинтернским аббатством» Вордсворта – первостепенными произведениями двух поэтов и эпохальными явлениями поэзии: «Пять лет прошло; зима, сменяя лето, // Пять раз являлась! И опять я слышу // Негромкий рокот вод, бегущих с гор, // Опять я вижу хмурые утесы...» («Тинтернское аббатство», пер. В. Рогова). «Вижу», «слышу» – каждое движение или мысль отражаются в стихах, идут, как Вордсворт говорил, прямо от сердца к сердцу.
В отличие от поэтов предшествующей эпохи, поэт-романтик живописует не только то, что он видит, чувствует, думает, он стремится запечатлеть самый процесс переживания – как ему видится, слышится, думается: поэтический психологизм, выраженный подчас с изящной, прозрачной простотой. Стихотворная речь Вордсворта иногда действительно настолько естественна, что стихи, кажется, вовсе исчезают, открывая поэзию самой жизни.
Нам это явление знакомо по лирике Пушкина, и, пользуясь этим примером, можно пояснить, почему Вордсворт (как и Пушкин-лирик) почти не известен за пределами своей родины и вместе с тем что значат его лучшие строки для соотечественников. «Мне грустно и легко; печаль моя светла...» (Пушкин). Временами Вордсворт точно так же непередаваемо (в переводе) поэтичен и прост, искусен и естествен. «Никто не проявлял столько воображения, превращая мелочи в источник глубоких чувств, никто не обнаруживал столь высокий пафос в описании простых движений сердца», – сказал о Вордсворте Хэзлитт.
Вордсворту не нужно, кажется, ничего, никаких специальных «поэтических» условий, чтобы в любом предмете найти поэзию. Обычный мир и простая речь – такая тематика и такой стиль вполне органично выражали жизненную философию Вордсворта. «Вдали от суетного света // Природы он рисует идеал» – так Пушкин определил его позицию. Поэт живописал в своих стихах жизнь непритязательную, из лихорадочно растущих городов звал к вечному покою природы, проявляя тот в общем характерный для большинства романтиков философско-утопический консерватизм, который был реакцией на буржуазный прогресс. У Вордсворта этот консерватизм перешел в конце концов в политическую реакционность; но в той мере, в какой напоминание о мировой гармонии, о единстве человека и природы служило необходимой поправкой к бездушному предпринимательству, в котором видели ведущую тенденцию времени, в этой мере лирика Вордсворта – выражение чувств поистине благотворных и привлекательных. И действительно, хоть и на короткое время, Вордсворт встал во главе мощного поэтического – и не только поэтического движения, сутью которого был протест против растущей буржуазности. К какому бы лагерю в романтическом движении ни примыкал поэт, будь то бунтарь Байрон или благонамеренный Саути, никто уже не мог отступить назад от рубежа, обозначенного Вордсвортом.
Лирические зарисовки – лучшее в наследии Вордсворта. И предел этот сразу же обнаруживается, едва только позицию «вялого наблюдателя» (как выразился редактор «Эдинбургского обозрения» Френсис Джеффри) Вордсворт пытается расширить до эпических масштабов, как, например, в своих пространных поэмах. Внутренняя бессобытийность, полное отсутствие иронии, нехватка хотя бы крупицы юмора и невероятные размеры поэтических излияний Вордсворта побудили современников, обыгрывая имя поэта («вордс, вордс» – «слова, слова»), называть его Словотековым. Утверждая цельную правоту простой, «природной» жизни, Вордсворт подчас путал простоту с примитивностью. Его баллады и поэмы, в которых доказывалась мудрость неразумия, присущая, оказывается, не только кретину, но даже ослу («Глупый мальчик», «Питер Белл»), граничили с самопародией, чем критики, в свою очередь, не упустили случая воспользоваться.
Суд современников в отношении Вордсворта был разборчивым – это необходимо учитывать, поскольку сам поэт и его окружение, а с их слов и некоторые историки литературы создавали картину непримиримой борьбы поэтических староверов и новаторов. На самом деле одни и те же ценители отзывались о творчестве Вордсворта и сочувственно, и критически. Ведь глашатай естественности далеко не всегда осуществлял собственные установки с творческим успехом.
Биографически Вордсворт намного пережил свою эпоху и свой дар. С годами приходили к нему все новые и все более официальные лавры, его сделали придворным поэтом, так называемым лауреатом, но ему не могли вернуть поэтических, ничем не приукрашенных достоинств прежних лет. «Мы внимали ему и верили, взор его кроткий ловили, любя» – так Роберт Браунинг, романтик нового поколения, укорял «павшего поэтического вождя». Шекспир с нами, говорил молодой поэт, Мильтон с нами, поддержкой новым поэтам служат Байрон и Шелли, а Вордсворт «покинул свободное войско и уходит с холопами в тыл» (пер. В. Рогова).
Поэт-лауреат, которого консервативные круги всеми силами возводили на официальный поэтический Олимп, ушел с передовых рубежей подлинной поэзии. Но сама его поэзия (что было в его наследии истинной поэзией) осталась. Никто никогда из «старых» или «новых» этого не зачеркивал, никто не отказывался от выдающегося поэта, обратившегося некогда к своим современникам и потомкам с проникновенной поэтической речью.
Творческий путь поэта, который был соавтором Вордсворта по «Лирическим балладам»,
тоже сложился весьма драматично. Сэмюэль Тейлор Кольридж (1772—1834), десятый сын провинциального священника, рано проявил и блестящие способности, и склонности, принесшие ему несчастье. Он поступил в Кембриджский университет и, по неясным причинам, оставил учебу. Вдруг записался в драгунский полк и столь же неожиданно был отчислен. Собирался вместе с Саути в Америку, чтобы организовать там коммуну «Общеволию», но этот план даже не начал осуществляться. Путешествовал по Германии, но тогда, судя по всему, немецкой романтикой не проникся; лишь позднее, как бы спохватившись, взялся читать и изучать своих немецких современников. С девятнадцати лет, еще на студенческой скамье, начал принимать опиум и стал пожизненным рабом этого наркотика. Свой жизненный путь Кольридж завершал фактически как многолетний домашний пациент в семье терпеливого и преданного друга-доктора.
Наивысший творческий подъем Кольридж пережил в начале своего литературного пути в канун издания «Лирических баллад». Эта, по выражению биографов, «пора чудес» (1797—1798) длилась на деле менее года. За это время Кольридж создал «Сказание о Старом Мореходе», начал «Хана Кублу» и «Кристабель», написал некоторые другие баллады и лучшие свои лирические стихи («Полночный мороз», «Соловей», «Гимн перед восходом солнца», «Вордсворту»). Баллады вместе со «Сказанием о Старом Мореходе» вошли в знаменитый, выпущенный совместно с Вордсвортом сборник. «Хан Кубла» и «Кристабель» так и остались «фрагментами» в качестве особого романтиками утвержденного жанра. Опубликованные много лет спустя (1816), они буквально ошеломили современников: Шелли, услышав из уст Байрона «Кристабель», едва не лишился чувств.
Ведущая поэтическая мысль Кольриджа – о постоянном присутствии в жизни неизъяснимого, таинственного, с трудом поддающегося умопостижению. Тайна врывается в нормальное течение жизни внезапно, как это происходит в «Сказании о Старом Мореходе»: повествование развертывается не с начала, излагается как бы второпях и к тому же необычным рассказчиком – старым моряком, который остановил шедшего на свадебный пир юношу и «вонзил в него горящий взгляд».
Читателю уготована роль этого юноши: поэма точно так же должна захватить его врасплох, и, судя по реакции современников, Кольриджу в самом деле это удавалось, – под покровом обычного открывается фантастическое, которое, в свою очередь, неожиданно оборачивается обычным, а затем опять фантастическим. Старый моряк рассказывает, как однажды, закончив погрузку, их корабль пошел привычным курсом, и вдруг налетел шквал: «Он злобно крыльями нас бил, он мачты гнул и рвал» (пер. В. Левика).

С. Кольридж. «Сказание о Старом Мореходе»
Иллюстрация Г. Доре. 1875 г.
Библиотека Кембриджского университета
Шквал этот не просто шторм – метафизическое зло или месть настигают человека, нарушившего извечный порядок в природе: моряк от нечего делать убил альбатроса, сопровождавшего, как обычно, судно в море. За это стихия мстит всей команде, обрушиваясь на корабль то ветром, то мертвым штилем, то холодом, то палящим зноем. Моряки обречены на мучительную гибель главным образом от жажды, и если виновник несчастья один остается в живых, то лишь для того, чтобы понести особую кару: всю жизнь мучиться тягостными воспоминаниями. И старого моряка неотступно преследуют устрашающие видения, о которых он, чтобы хоть как-то облегчить себе душу, пытается поведать первому встречному.
Чеканные, поистине завораживающие строки гипнотизируют слушателя, а вместе с ним и читателя, создавая картины необычайные и неотразимые: сквозь корабельные снасти диск солнца кажется лицом узника, выглядывающего из-за тюремной решетки; корабль-призрак преследует несчастное судно; матросы-призраки погибшей команды обступают с проклятиями своего незадачливого сотоварища. В этих ярких (даже чересчур) картинах не всегда видна причинно-следственная связь событий, поэтому тут же на полях даются пояснения происходящего: «Старый Мореход, нарушая законы гостеприимства, убивает благотворящую птицу» и т. д. Сквозь условную декоративность прорывается психологизм, все средства – от ярчайших словесных красок до автокомментария – используются ради выразительного воспроизведения переживаний, будь то галлюцинации, возникающие после многодневной жажды, или же чисто физическое ощущение твердой земли под ногами. Каждое душевное состояние передается в динамике, Кольридж запечатлевает в своих стихах состояние полусна, грез, ощущение ускользающего времени, это и явилось его творческим вкладом не только в поэзию, но и в развитие всей литературы. Следы воздействия «Сказания о Старом Мореходе» заметны даже в «Метели» Толстого, не говоря уже о более ранних, романтических исповедях, а своим поэтическим фрагментом о часах (1830) Кольридж подсказал Пушкину стихотворение «Пора, мой друг, пора...».
«Новаторство Кольриджа-стихотворца, так ярко в балладах проявившееся, неотделимо от той глубины, с какой в них постигнуты или угаданы новые, трагические аспекты человеческих судеб, возвещенные крахом Французской революции и укреплением прозаического, меркантильного царства эгоистических буржуазных „свобод“. Тема роковой разобщенности, даже „некоммуникабельности“ людей, неизбывного одиночества личности, той ужасающей „Жизни-в-Смерти“, какой для многих оборачивается существование, в значительной мере определяет философское и психологическое содержание этих поэм. Теме этой предстояло в дальнейшем пройти в разных вариантах и преображениях через мировую литературу на протяжении более полутораста лет, от Эдгара По к Бодлеру и символистам, и далее, вплоть до современного нам экзистенциализма. У Кольриджа она впервые была провозглашена с трагической силой и патетической искренностью» (А. А. Елистратова).
Для истории литературы важна и проза Кольриджа, автобиографическая и критическая, составившая в общей сложности несколько томов и превосходящая по объему поэтическое наследие поэта: шекспировские лекции (впервые читанные в 1812—1813 гг.), «Литературная биография» (1815—1817), отрывочные заметки «Падающие листья» (1817) и «Застольный разговорник», который Кольридж вел в последние годы жизни и который опубликован был вскоре после его смерти (1835). Эта книга вызвала интерес Пушкина и подсказала ему свой собственный «разговорник».
Критическое наследие Кольриджа важно как опыт творческого самонаблюдения, изображение внутреннего развития, картина духовных странствий или, по словам самого писателя, нравственных шатаний. Кольридж обновил и развил этот особый литературно-критический жанр, известный в английской литературе со времен «Строительных лесов, или Заметок» Бена Джонсона. Правда, он знал также «Фрагменты» Ф. Шлегеля и другие критические труды немецких романтиков, оказавших на него заметное влияние. Но, давая феноменологию творческого сознания, пусть по своим философским (идеалистическим) основам не оригинальную, английский поэт-критик отметил и очень выразительно описал важные, трудноуловимые моменты писательской работы. До сих пор среди исследователей не утихают дебаты о том, насколько самостоятельна и основательна кольриджевская «теория воображения», во многом повторяющая или напоминающая идеи Канта; однако, несомненно, деятельность творческой фантазии, диалектика вдохновенного порыва и расчета, специфика авторско-читательских взаимоотношений, сложные эстетические и этические коллизии в душе художника – все это достаточно ярко запечатлено в критической прозе Кольриджа, дополняющей его поэтические достижения.
Третий из поэтов, причисляемых к «Озерной школе», Роберт Саути (1774—1849), сын портного, рано остался без матери и вырос полусиротой при поддержке состоятельных родственников. Его отправили в Португалию, в английский торговый центр, благодаря чему Саути стал знатоком этой страны, ее языка и истории. Учился он в Вестминстерской школе и в Оксфорде. Однажды в университет приехал Кольридж, молодые поэты сблизились, их отношения приобрели характер особого духовного содружества, программа которого простиралась так далеко, что было решено ехать за океан и там, на берегах Сусквеганы, основать коммуну. Этот оставшийся неосуществленным план возник задолго до того, как та же Сусквегана стала местом действия романов Фенимора Купера, и до того, как в самой Англии свой образцовый поселок организовал Роберт Оуэн: подобные идеи носились в воздухе, их распространение было, конечно, следствием американской Войны за независимость и Французской революции.
Увлечение теми же идеями выразилось у Саути в ранних драматических поэмах «Жанна д’Арк», «Уот Тайлер», «Падение Робеспьера», но как в творческом, так и в практическом отношении республиканские идеи не обрели у него ни глубокого развития, ни практического воплощения. С 1806 г. Саути уже получал государственную дотацию, в 1813 г. был назначен (задолго до Вордсворта) придворным стихотворцем. Байрон в ироническом посвящении к своей поэме «Дон Жуан» буквально заклеймил Саути за угодничество. Основания для подобной оценки у Байрона, конечно, были, поскольку славословием Саути занимался по должности. Но это характерно для заключительного этапа его творчества. В более ранний период поэт занимал несколько иную позицию. У него намечался тот окрашенный иронией взгляд и на происходящее и на историю, который получил развитие у самого же Байрона и вообще в литературе XIX в.
Ирония проистекает из неодносложной оценки событий, из различия в точках зрения: на этом построена баллада Саути «Бленхеймский бой» (1798). На старом поле кровопролитной битвы дети нашли череп, и вот по-детски простодушный вопрос о том, что же представляло собой знаменитое сражение, ставит их деда в тупик. Память старика сохранила ужасные картины: разруха, всеобщее горе, а из молвы он же знает (узнал позднее), что был «прославленный», «победный бой», что многие тогда удостоились почестей и богатства. Старик повествует, пытаясь сочетать свои воспоминания с общей молвой; рассказ «течет» словно по двум руслам сразу, и устойчивое понятие «Бленхэйм», символ национальной славы англичан, утрачивает цельность. Поэтому баллада Саути стоит у истоков дегероизирующей батальной повествовательной традиции, представленной в прошлом столетии рядом классических произведений. (Эта позиция коренным образом отличается от парадного рифмованного летописания, каким Саути занимался затем в поэме «Видение суда» (1821), пытаясь воспеть короля-безумца Георга III, чем и дал повод для убийственно-пародийной поэмы Байрона, тоже названной «Видение суда».)
В лучших произведениях Саути проверке подверглись и общеромантические представления о «необычайном», «неизъяснимом», «таинственном». «Уверен ли автор, что у него получилась должная подлинность, и не послужит ли подобная обработка только распространению темных предрассудков?» – ставил Саути острый критический вопрос, имея в виду преклонение Вордсворта перед простодушным мистицизмом народных поверий. И, взявшись за фольклорные и полуфольклорные мотивы, Саути старался то же «мудрое простодушие» и ту же таинственность осветить в свою очередь иронически. «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» (1799), «Суд божий над епископом» (1799) – удачные попытки в этом роде, ставшие в свое время популярными и переведенные у нас В. А. Жуковским.
В отличие от романтиков, вздыхавших о былом, с которым они не имели (пользуясь их же излюбленным словом) органической преемственной связи, Вальтер Скотт (1771—1832), шотландский баронет, по праву считал себя частицей истории: его семейные анналы входили в летопись национальную. Кроме того, путем самообразования он приобрел обширные историко-этнографические познания, собирал фольклор, коллекционировал антикварные книги и рукописи. Внук врача, сын юриста, он и сам стал юристом, занялся адвокатурой, а затем, женившись, получил должность шерифа, обязанности которого исполнял до конца своих дней. Вот почему, хотя склонность к творчеству проявилась у Вальтера Скотта рано, свои стихи он опубликовал впервые только тридцати трех лет, художественную прозу – в сорок два года. Зато очень скоро он как бы обогнал своих предшественников.
Правда, первый опубликованный Вальтером Скоттом в 1796 г. литературный опыт, перевод «Леноры» Бюргера, остался практически незамеченным, но когда в 1802 г., в пору оживленного обсуждения «Лирических баллад», Вальтер Скотт напечатал свои «Песни шотландской границы», а в 1805 г. поэму «Песнь последнего менестреля», ему был оказан благожелательный прием, и новый поэт стал признанным лидером особого рода поэзии. Читатели отличили достоверную фольклорно-этнографическую атмосферу поэм Вальтера Скотта от декоративного, фантастически-таинственного колорита произведений Вордсворта и Кольриджа.








