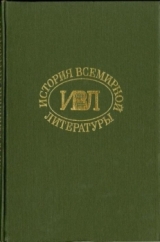
Текст книги "История всемирной литературы Т.6"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 102 страниц)
Разумеется, иллюзорность начального затишья обнаружилась весьма скоро, равно как и скоро осознана была двуликость самой Реставрации. За внешним фасадом умиротворения и порядка, возводившимся официальной идеологией Священного союза, более проницательный взор обнаруживал грозную цепь иных, противонаправленных событий и закономерностей: жажду реванша у вернувшейся к рычагам власти аристократии и жажду сохранения добытых привилегий – у буржуазии, гул национально-освободительных движений на окраинах священно-союзнической антанты, град ордонансов Карла X – все то, что вело к новому революционному взрыву.
Однако на поверхности иллюзия стабилизации, установления «порядка» была поначалу действенной. Она стимулировала, в частности, развитие тех идейных комплексов, которые в период революции и империи находились на рубежах оборонительных. Будто пробил их час, развертывают знамена и стремятся к самоутверждению идеи легитимистского традиционализма и христианской религиозности. Если демократически-оппозиционная мысль с первых же дней начала энергичную борьбу против режима Реставрации (памфлеты Курье, песни Беранже, эстетические работы Стендаля, пропаганда идей антимонархизма и либерализма в кружке Делеклюза, теории утопического социализма Сен-Симона и Фурье), то романтизм поначалу ставит себя в оппозицию не конкретной социальной реальности, а – в ортодоксально-романтическом отвлеченном духе – бытию вообще. Как бы ощутив теперь бо́льшую гарантированность от превратностей чисто политической судьбы, романтическая личность отстраняет на второй план тяжбу с «веком» и углубляется в осмысление своего онтологического статуса, отношений с мирозданием, творцом и судьбой, соответственно этому переселяясь на время из романа, с его социальной и актуальной атмосферой, в лирику. Об этом свидетельствует не только сам расцвет лирических жанров, но и характерные их обозначения: от лирико-философских «размышлений» (méditations) у Ламартина и «воспарений» (élevations) у Виньи до интимно-лирических «утешений» (consolations) у Сент-Бёва и «плачей» (pleurs) у Марселины Деборд-Вальмор.
В русле этой тенденции отдаления от «века» активизируется и «комплекс прошлого» – поначалу безмятежный и как бы легализованный теперь реставраторский интерес к тем его культурным пластам, которые находились прежде в небрежении («Поэтическая Галлия» Маршанжи, 1813—1817; «История французской поэзии XII—XIII веков» Фламерикура, 1815, и др.).
Попытка романтизма конституироваться в своей независимости от «века», от злободневности подкреплялась активным усвоением опыта «северных» романтиков. После падения Наполеона, покровительствовавшего классицизму и в его духе насаждавшего свой «ампир», те тоже получили во Франции свободу: переводятся «Лекции о драматическом искусстве и литературе» А. В. Шлегеля, издаются сочинения Байрона, Скотта, Гофмана, Тика; французы знакомятся с идеями новейшей немецкой философии, с произведениями Томаса Мура и поэтов «Озерной школы». Эти переводы и издания осуществляются прежде всего силами романтиков и их единомышленников-философов – Нодье, Нерваля, Баранта, Гизо, Кине, Кузена. Французская литература получает от «северян» как бы дополнительные стимулы, побуждающие ее демонстрировать новые, и прежде всего «надвременные», грани романтического сознания. Именно в это время утверждается во французском романтизме тема суверенности поэтической личности, культ гения, наделяемого не просто особой духовностью, но и мессианскими чертами; эти последние отчетливо просматриваются в художнической позиции Виньи, Гюго и получают пространное обоснование в лирико-философской поэме Балланша «Орфей» (1829). Впервые в поэтику французского романтизма входит фантастика – прежде всего у Нодье («Смарра и демоны ночи», 1821; «Трильби», 1822, и др.), и это уж в откровенно немецкой, гофмановской колее – даже там, где, как в «Трильби», формальную канву сюжета составляют шотландско-скоттовские мотивы. Теоретическая аргументация антибуржуазности романтического искусства зачастую заостряется в последовательно иррационалистическом духе, как в рассуждениях Ламартина о «всемирном заговоре математиков против мысли и поэзии», о власти «цифр» над веком и людьми.
История романтизма во Франции в эти годы – это прежде всего история его попыток добиться внутренней цельности и внешней независимости. Надежда на цельность окрылила его вначале сознанием народившегося братства единомышленников, гордым ощущением сплоченности «молодой Франции», победными фанфарами кружков и манифестов, как в иенскую пору немецкого романтизма; «упоение в бою» на премьере пьесы Гюго «Эрнани» в феврале 1830 г. было кульминацией и самым ярким всплеском этой надежды. Но если эпигонский классицизм в результате романтических бурь наконец-то был погребен под обломками, если литературное полноправие романтизма было утверждено бесповоротно, то собственных проблем романтизма эта победа не разрешила и к внутренней цельности его не привела. Более того, теперь-то, «на свободе», проблемы и обнаружились тем явственней.
Стремление основать суверенное царство духа в противовес прозе и злобе дня, расширить конфликт «индивид и современный мир» до конфликта «индивид и мир вообще» с самого начала нейтрализовалось не только влиянием обостряющихся социальных противоречий эпохи Реставрации, но и противодействиями в самой внутренней структуре романтического сознания, для которого вечное напряжение между полюсами – его родовой признак, его судьба. Сами его исходные максималистские постулаты исключают цельность, гармоничность и отрешенность «классического» образца.
Пожалуй, отчетливей всего это обнаруживалось на таком относительно частном примере, как осмысление «байронической» проблемы. Дойдя до Франции, байронизм, как и везде на своем пути, глубоко впечатлил умы. Но в той кратковременной надежде на передышку, которая забрезжила перед романтическими «сынами века» с концом наполеоновской империи, байроническая мятежность их и устрашила; в известном смысле она, правда, тоже была «отрешена», тяготела к космическим сферам, но самый дух бунтарства и всеотрицания воспринимался все-таки как слишком близкий к злободневности. Так возникла полемика с байронизмом (равно как – в силу тех же причин – и со специфически национальным комплексом романтической «неистовости»). Но показательно, что Нодье, например, в промежутке между «антибайроновскими» выступлениями публикует свой вполне байронический «разбойничий» роман «Жан Сбогар» (1818); Ламартин в поэме «Человек» (1820), адресованной Байрону, пылкие опровержения соединяет со столь же пылкими выражениями пиетета, а после смерти Байрона сложит гимн ему и его подвигу во имя свободы. Безмятежная цельность не приживается в сфере романтического сознания – оно снова и снова возвращается к тревожной современности.
Такова и трансформация образа романтического гения в эту эпоху. Отвратив свои взоры от мира, он испробовал и позицию крайнего смирения, растворения в боге (ранний Ламартин), и, напротив, позицию радикального сомнения в благости творца, бунта против теодицеи («Моисей» и «Дочь Иеффая» Виньи), чтобы прийти затем, в 30-е годы, к идее социальной миссии поэта, осознаваемой во всей ее трагической сложности.
Такова, наконец, и судьба исторической темы – одной из магистральных линий французского романтизма, открывающейся в 20-е годы. Историография и философия истории в эпоху Реставрации стремились осмыслить прежде всего уроки недавних социально-политических потрясений. Жажда стабильности выражалась в том, что историки либерального направления (Тьер, Минье, Гизо), осуждая «эксцессы» революции, в то же время как бы снимали недавний накал страстей, ища положительного смысла в ее событиях и уроках. В этой атмосфере последовательно и радикально реставрационные и контрреволюционные идеи (например, в трактатах Жозефа де Местра этой поры) оказывались, как ни странно это поначалу выглядит именно для эпохи Реставрации, непопулярными, вызывающе крайними и «архаическими»; известно, как решительно возражал Виньи против позиций де Местра. Напротив, у французов находит сейчас сочувственный отклик уравновешенная гегелевская идея конечной правоты «мирового духа» и разумности его установлений, идея прогресса человеческой истории, осмысляемая и в сочинениях названных выше историографов, и в лекциях по истории философии Кузена, и в «Общественной палингенезии» Балланша. Философия истории во Франции тянется в этот период к оптимизму, жаждет найти в истории человечества обнадеживающие черты.
Но, преломляемая в литературе в конкретных человеческих судьбах, поверяемая не только широкими масштабами эпохи, человечества и «мирового духа», но и масштабами индивидуального жребия, проблематика исторического добра и зла утрачивает свою однозначность и обретает огромную трагическую напряженность, оборачиваясь поистине взрывчатыми конфликтами личности и истории, прогресса и реакции, политического действия и нравственности. За антимонархической и антидеспотической направленностью романтических произведений о прошлом ощущается и более общая тревога за судьбу индивида и человечества, внушаемая, конечно же, и раздумьями над современными тенденциями общественного развития. Так, у Виньи в его исторических произведениях остро ставится тема «цены прогресса», тема нравственной себестоимости исторического деяния. Ранний Дюма, еще несомый волной подлинного «серьезного» историзма, еще не отправившийся искать отдохновения в поэтике исторического приключенчества, тоже осмысляет историю как трагедию: такова тема бесчеловечной аморальности и неблагодарности сильных мира сего в его драмах «Двор Генриха III» (1829), «Нельская башня» (1832); такова картина феодальных междоусобиц в его первом историческом романе «Изабелла Баварская» (1836) – романе еще «по-скоттовски» проблемном, с его панорамой народных и национальных бедствий, с многозначительным авторским рассуждением о том, что «надо обладать твердой поступью, чтобы, не страшась, спуститься в глубины истории». Балланш наряду с величественными оптимистическими горизонтами «Орфея» и «Общественной палингенезии» набрасывает и апокалиптически-мрачное «Видение Гебала» (1831).
Не ностальгическое утешение нес с собой интерес к истории, а чувство необратимой вовлеченности индивида в общественный процесс – чувство, обострявшееся с огромной быстротой по мере обнаружения резких социальных противоречий эпохи Реставрации. Уже в 1826 г. Ламартин признается, что его голова «занята больше политикой, чем поэзией», всего лишь через восемь лет после элегии «Одиночество» с ее решительной формулой: «Что общего еще между землей и мной?» (Пер. Б Лившица).
Французский романтизм в эту – формально победную – свою эпоху на самом деле открывает по всем фронтам новые и новые противоречия самого своего сознания, его принципиальную «негармоничность», и не случайно в одном из главных романтических манифестов этой поры – предисловии Гюго к драме «Кромвель» (1827) – суть современного искусства воплощается в понятии драмы, а центральными опорами художественной системы романтизма объявляются принципы контраста и гротеска. В жанровом плане это нашло свое прямое выражение в бурном развитии романтической драматургии во Франции, несомненно стимулированном Июльской революцией. На рубеже 20—30-х годов одна за другой театральные премьеры взрывались как бомбы, причем сшибки чисто по-романтически преувеличенных «роковых» страстей в этих драмах постоянно приобретали резкие антимонархические и антибуржуазные акценты. Расцвет этого жанра связан прежде всего с именами Гюго, Виньи и Мюссе, но на начальном этапе заметное место в этом ряду занимает и Дюма (его уже упоминавшиеся исторические драмы, драма на современный сюжет «Антони», 1831). Элементы «бурной» романтической поэтики проникают даже в популярную у тогдашней широкой публики псевдоклассицистическую трагедию Казимира Делавиня («Марино Фальеро», 1829; «Людовик XI», 1832; «Семейство лютеровских времен», 1836).
Первые по времени художественные триумфы романтизма в рамках этой эпохи связаны с именем Альфонса де Ламартина (1790—1869). Его сборник стихов «Поэтические размышления» (1820) стал не только одной из вершин романтической литературы Франции, но и первой манифестацией французского романтизма в лирике. Субъективная основа романтизма приближалась здесь к одному из самых чистых своих выражений. Все в этих стихах – сосредоточенность на внутреннем мире поэтической души, демонстративная отрешенность манеры и жеста, молитвенная экстатичность тона – являло собой контраст и социальной злободневности, и традиции патетической риторики, преобладавшей во французской поэзии прошлого. Ощущение контраста и новизны было столь велико, впечатление абсолютной интимности этих элегических излияний столь неодолимо, что поначалу осталась незамеченной глубинная связь поэзии Ламартина с традицией: бросающаяся в глаза спонтанность лирического порыва здесь на самом деле методически воспроизводится снова и снова, становится в результате не только «криком души», но и вполне рассчитанным «техническим» приемом, под стать искусной перифрастичности классицистической поэзии. Настойчивая задушевность тона не исключает на самом деле традиционно-велеречивого витийства, а лишь переключает его в иные, более интимные сферы (то, что позже, видимо, и заставило Пушкина определить Ламартина как поэта «сладкозвучного, но однообразного»).
Впечатление отрешенности создавалось прежде всего благодаря самой тематике этих стихотворений. Лирический герой Ламартина не просто уединившийся от мира и его страстей анахорет – его помыслы еще и постоянно устремлены ввысь, к богу. Но сам тон и смысл его общения с верховным существом полны глубокого и неослабного драматизма, делающего в конце концов отрешение невозможным. Ламартин избирает для себя позицию демонстративной религиозности, крайнего смирения и пиетизма.
Во многом, конечно, это продолжение шатобриановской проблематики лирическими средствами. Но если Шатобриан видел себя вынужденным пространно доказывать преимущества религии, то Ламартин напрямик, без посредников говорит с богом, чье существование для него не стоит под вопросом. Под вопросом все больше оказывается то, способен ли бог – исходно полагаемый всеблагим и разрешающим все земные сомнения – заслонить и заменить собою мир в душе безраздельно вверяющегося ему поэта.
Если восстановить хронологический порядок создания отдельных стихов первого сборника, то он явит достаточно традиционную картину возникновения религиозного пиетизма как одной из характерных для романтического сознания утопий. Самые первые стихи на эту тему навеяны глубоким личным переживанием – безвременной смертью любимой женщины. Как ранее у Новалиса, у Ламартина возникает желание переосмыслить смерть, увидеть в ней переход в иной, лучший мир («Бессмертие»), найти утешение в сознании бренности посюстороннего мира («Озеро»). То, что страдает здесь именно поэт и именно романтический поэт, ясно прочитывается в стихотворении «Слава» («Профану на земле даны все блага мира, но лира – нам дана!»). Психологически вполне понятен в этой ситуации и кощунственный ропот, приступы сомнений в благости творца, не пожелавшего дать человеку абсолютное блаженство: «Рассудок мой смятен – ты мог, в том нет сомненья, – но ты не захотел» («Отчаяние»). Так возникает образ «жестокого бога», по отношению к которому человеку дано «роковое право проклинать» («Вера»).
Ситуация оказывается много напряженней, чем даже у Шатобриана; там трагизм судеб героев (в «Атала», в «Рене») не соотносился столь прямо с божественной волей и не вменялся столь откровенно ей в вину.
Вот за этой серией «отчаянных» размышлений и последовали размышления самые покаянные, самые безоглядные в отречении от гордыни и бунтарства – «Человек», «Провидение – человеку», «Молитва», «Бог» и др. В совокупности они способны и в самом деле создать впечатление однообразной благочестивости. Но, взятые каждое в отдельности, многие из стихотворений этого ряда поражают, если воспользоваться словами самого Ламартина, «энергией страсти» в утверждении идеи религиозного смирения. Особенно это относится к поэме «Человек», и не случайно она построена на полемике с Байроном: перед нами исповедание веры не только религиозной, но еще и литературной. Ламартин развивает свой вариант романтической утопии.
Бунтарской байроновской «дикой гармонии» здесь противопоставляется позиция диаметрально противоположная – «экстаз самоуничижения и самоистребления» (Н. П. Козлова): человек должен боготворить свое «божественное рабство», не обвинять творца, а покрывать поцелуями свое ярмо и т. д. Сама демонстративная слепота этого самоуничижения уже делает его намеренно форсированным: то, что поэт безраздельно вверяет себя творцу, как бы призвано дать ему тем большее «право на ропот». Он с горечью признает, что мятежный разум бессилен против судьбы: что, собственно, не ему, Ламартину, поучать Байрона, ибо и его разум «полон мрака»; что такова судьба человека – в ограниченности его природы и в бесконечности его стремлений; сами эти стремления, сама эта жажда абсолюта – причина его страданий: «Он бог, что пал во прах, но не забыл небес».
Эта система доказательств порождает совсем иной образ человека – образ, чисто по-романтически страдальческий и величественный: «...будь он и слаб и сир – он тайною велик». Ламартин и на этом кружном пути – как бы от противного – стремится утвердить величие человека, чья родина все-таки небо (тоже излюбленный романтический мотив). Основной тон поэмы – до разрыва напряженная гармония мировоззренческих диссонансов. В одеждах религиозного пиетизма скрывается вполне светский стоицизм избранничества, у которого своя, не байроновская, но тоже притязающая на максимализм гордыня.
Эволюция Ламартина от первых «Размышлений» к «Новым размышлениям» (1823) и «Поэтическим и религиозным созвучиям» (1830) отмечена прежде всего варьированием этого дуализма, утверждаемого в самом названии последнего сборника. Постепенно приглушается фанатичный пафос новообращенчества; противовесом романтической скорби о несовершенстве мира становится преклонение перед гармонией природы и космоса. Если в «Размышлениях» отношение поэта к природе колебалось между сентименталистским умилением и трепетом перед ее безучастностью к страданиям человека, то теперь природа все определенней предстает как идеальный образец гармонических закономерностей, и поэт если и познает божественный глагол, то именно через ее посредство: «Звезды зажегся лик, звезды померкнул лик – я внемлю им, господь! Мне ведом их язык» («Гимн к ночи»). В поэтической системе «Созвучий» поза ортодоксальной религиозности уступает место мироощущению, весьма близкому к пантеистическому (хотя сам Ламартин против такой квалификации и возражал, не желая быть заподозренным хоть в каком-либо «материализме»). Тенденция к секуляризации сознания поэта проявляется также в поэме «Последнее паломничество Чайльд Гарольда» (1825), предвосхищая поворот Ламартина в 30-е годы к социально-реформаторской проблематике («Жослен», «Падение ангела», поздняя проза).
Человек, поднявшийся над злобой дня для выяснения отношений с творцом и его миропорядком, – с этой проблемы начинает свое творчество и Альфред де Виньи (1797—1863). В первом его поэтическом сборнике 1822 г., переизданном в 1826 г. под названием «Поэмы на древние и современные сюжеты», романтический герой объективирован, в отличие от ламартиновского; но за внешней объективированностью и эпичностью отчетливо проступает лирическое «я», не менее ранимое и смятенное, чем у Ламартина, только не склонное к непосредственному самоизлиянию. Излияния в ранней поэзии Виньи перепоручаются герою мифическому или историческому – таковы Моисей и траппист в одноименных поэмах, отчетливей всего обозначающих исходные позиции Виньи.
Трагизм Виньи вполне современен, даже если он и облачен в несовременные одежды. Герой Виньи – истый романтик, он велик духовно, он возвышен над обыкновенными людьми, но избранничество давит его, ибо становится причиной рокового одиночества («Моисей»); он оставлен и богом, как тот же Моисей, тщетно вопрошающий равнодушного и безмолвного творца, или как «сестра ангелов» Элоа в одноименной поэме; воля бога потрясает его своей жестокостью, «кровожадностью», как в «Дочери Иеффая», и он внутренне напрягся в жажде бунта (в своем дневнике Виньи даже взвешивает возможность того, что день Страшного суда будет судом не бога над людьми, а людей над богом).

А. Ламартин
Гравюра
Эта космическая скорбь дополняется и чисто земным страданием – там, где герой Виньи оказывается в общественной истории, как в поэме «Траппист», повествующей о героической и бесцельной гибели людей за короля, их предавшего. Тема гордого страдания великого и одинокого человека – безусловно, родственная байроновской – сохранится в творчестве Виньи до самого конца.
В ранней поэзии Виньи уже приобретает явственные очертания и характерная для него этика молчаливо-стоического преодоления страдания. Если Ламартин, сомневаясь в благосклонности творца к человеку, тем исступленней уверял себя в обратном, то Виньи исходит из непроницаемого равнодушия бога как из непреложного факта. В этих условиях единственно достойной позицией для индивида и оказывается стоицизм: «презрительным сознаньем // Принять отсутствие, и отвечать молчаньем // На вечное молчанье божества» (Пер.
В. Брюсова). Так гласит классическая формула из более поздней поэмы Виньи «Гефсиманский сад», но сама тема «молчания» – изначальная, кровная тема Виньи, она – одна из основ всей его философии. Открывающая первый его сборник поэма «Моисей» завершается лаконичным упоминанием о новом, очередном, сменившем Моисея избраннике божьем – Иисусе Навине, «задумчивом и бледнеющем» в предчувствии всех тягот избраннического удела. Глухим безмолвием отвечает народ на торжество Ришелье в романе «Сен-Мар». Среди поздних поэм на этом сквозном мотиве основана «Смерть волка»: «И знай: все суетно, прекрасно лишь молчанье» (пер. Ю. Корнеева).
Поэтическая позиция Виньи во многом связана с этими философскими исходными посылками. Ее основа – романтическая символизация традиционного сюжетного мотива или конкретного события, особенно отчетливо выступающая по контрасту с плотной, зримой и осязаемой материей реальных обстоятельств, «окружающих» идею. Иногда пластическое воплощение ситуации вообще исчерпывает собою художественную идею всего стихотворения (например, «Купание римлянки»), предвосхищая поэтику парнасцев. Но в лучших поэмах Виньи на внешне объективированном фоне развивается действие, предельно скупое в событийном плане, но исполненное глубочайшего внутреннего драматизма, и свое разрешение оно получает в выразительной развязке, переводящей все в субъективный, глубоко лирический план. От эпики через драматизм к лирической символизации – таков поэтический канон Виньи в его лучших стихотворениях («Моисей», «Смерть волка», «Гефсиманский сад»), тяготеющих тем самым к некоему надвременному универсальному синтезу. Эта надвременность сознательна. Все бури романтической эпохи ведомы Виньи – в «Гефсиманском саде» он говорит о «буйстве смутных страстей, неистовствующих между летаргией и конвульсиями», и хотя «по сюжету» это отнесено ко всей судьбе человеческой, реминисценция из Шатобриана («смутные страсти») адресует нас прежде всего к романтической эпохе. Но Виньи хочет эти страсти видеть «обузданными» – как этикой «молчания», так и поэтикой дисциплинированной формы. Романтизм Виньи – самый строгий среди художественных миров французских романтиков.
Разумеется, речь идет о преобладающей тенденции, а не об абсолютном каноне. Романтизм как мироощущение слишком принципиально ориентирован на осмысление самых кардинальных противоречий бытия, чтобы стать искусством покоя и отрешения, даже и трагически-стоического. Так и у Виньи субъективная лирическая стихия часто, особенно с 30-х годов, вырывается из-под контроля, из эпического каркаса – в поэме «Париж» (1831), в романе «Стелло» (1832), во многих поэмах его итогового поэтического цикла «Судьбы», вышедшего посмертно в 1864 г. («Хижина пастуха», «Бутылка в море», «Чистый дух»).
От проблемы «человек и мироздание», «человек и творец» Виньи переходит к проблеме «человек и история». Собственно, идея истории предполагалась уже и в замысле первого сборника, и историческое (а не только мифологическое) прошлое было непосредственной темой многих стихотворений («Тюрьма», «Снег», «Рог»). Уже там «земная» история представала как частный вариант всеобщей, космической трагичности человеческого удела; в связи с поэмой «Тюрьма» Виньи в своем дневнике выразил это в метафорическом образе толпы людей, которые, очнувшись от глубокого сна, обнаруживают себя заточенными в тюрьме.
Таким образом, общая концепция истории у раннего Виньи, в отличие от «историографов», пессимистична. Его исторический роман «Сен-Мар» (1826) в этом смысле внутренне полемичен по отношению к скоттовской традиции. Как и Скотт, Виньи строит свой роман вокруг образа отдельного человека, оказывающегося втянутым в водоворот исторических событий. Но в романах Скотта история, как правило, развивалась по пути прогресса к конечному благу человека, нации и человечества. В концепции же Виньи всякое прикосновение к истории пагубно для индивида, ибо оно ввергает его в бездну неразрешимых нравственных конфликтов и приводит к гибели. Идея «частного человека», маячившая на горизонте французской литературы еще с первых послереволюционных лет, здесь становится конституирующей в проблемном эпическом произведении.
Не случайно понятие истории для Виньи почти тождественно понятию политики; этот аспект – для истории все-таки частный – у Виньи оказывается доминирующим, причем и сама политика сводится к политиканству, цепи интриг. Подобное принципиальное неверие в этический смысл истории делает историзм Виньи, в отличие от скоттовского, гораздо более романтически субъективным. В историческом конфликте, изображенном в «Сен-Маре», нет правых сторон; есть игра честолюбий, государственно-политического (Ришелье, Людовик) или личного (Сен-Мар). По-романтически идеальный Сен-Мар тоже оказывается виновным с того момента, как вступает на поприще политической борьбы, ибо тем самым предает изначальную чистоту своей души.
Эта проблематика еще более заостряется в драме «Жена маршала д’Анкра» (1831). В «Сен-Маре» на стороне героя было все-таки его неизмеримое нравственное превосходство над Ришелье, выразившееся, в частности, и в его бескомпромиссном конечном признании собственной моральной вины. Во всей романтической драме Франции (у Гюго, у Дюма), как правило, сталкивались принципы добра и зла, воплощаемые в соответствующих главных персонажах. В «Жене маршала д’Анкра» схватываются в борьбе за место у трона две равно безнравственных придворных партии – «фаворит низверг фаворита». И если образ г-жи д’Анкр тем не менее озарен трагическим ореолом и, безусловно, претендует на читательское сочувствие, то этим эффектом драма обязана прежде всего тому, что героиня, прозревая в роковой для нее момент, отвергает всякую правомочность «фаворитского» суда над нею. Да, она не лучше своих палачей, она тоже «пала» в свое время, предав «простодушную» юность и став властолюбивой фавориткой, но не им ее судить. Именно в этот момент она обретает у Виньи статус трагической героини, своеобразное жертвенное величие и в соседстве с трогательным невольником любви и чести Сен-Маром поднимается уже в надысторический, надвременной ряд как символ индивидуальной судьбы, раздавленной неумолимым роковым «колесом истории».
В то же время нравственный аспект, неразрывно связанный с этой проблематикой, сообщает исторической концепции Виньи иного рода глубину и остроту. Прогресс в истории неприемлем для Виньи не сам по себе, а прежде всего из-за цены, которую предлагают за него такие «орудия» прогресса, как Ришелье. В сцене молитвы Ришелье в «Сен-Маре» кровавый кардинал как раз и претендует на то, чтобы господь на своем суде отделял «Армана де Ришелье» от «министра»: это министр на благо государства совершал злодеяния, о которых сожалел человек по имени Арман де Ришелье. Сожалел, но иначе не мог. Виньи восстает против кардинальской двойной бухгалтерии. Крайний нравственный ригоризм запрещает ему трезво взвешивать и исторические заслуги абсолютизма как принципа централизованной власти – позиция также по-романтически субъективная. Но знаменательно, что аристократ Виньи, по инерции «наследственности» еще полагающий в это время, что дворянское происхождение связывает его долгом верноподданничества, создает произведение, объективно идущее вразрез с официальной монархической идеологией Реставрации. Здесь особое значение приобретает образ безвольного и лживого Людовика, такого же венценосного предателя, как и король в «Трапписте».
Для выяснения окончательного отношения Виньи к идее исторического прогресса чрезвычайно важно также осознать то, что в своем протесте против жестокости кардинала и беспринципности монарха Виньи, преодолевая романтически-обреченное одиночество, апеллирует к народу как к союзнику. В момент своего триумфа Ришелье поверх раболепно склоненных голов придворных направляет взоры на темнеющие на площади массы народа и ждет, жаждет как последней санкции приветственного гула оттуда. Но санкции не дается, народ безмолвствует. Мирабо в свое время сказал: «Молчание народа – урок королю». Так и у Виньи – последнее слово в истории еще не произнесено. Победы королей, министров, фаворитов – не победы народа; эта мысль проходит и сквозь всю драму «Жена маршала д’Анкра» – в сюжетной линии, связанной с слесарем Пикаром и его ополчением; представление о народе как о высшем судии подспудно присутствует и в «Стелло» (в образе канонира Блеро), и в военных повестях цикла «Неволя и величие солдата» (1835), и в поздней поэме «Ванда».
Это представление для Виньи принципиально. Есть в нем, безусловно, и черты романтического образа «патриархального», «здорового», «крестьянского» народа, противопоставляемого городской «черни» («Сен-Мар»). Но уже в «Жене маршала д’Анкра» противопоставление знаменательным образом расширяется в притче Пикара о винном бочонке: в нем есть осадок внизу («чернь»), есть пена наверху (аристократия), но в середине – «доброе вино», оно и есть народ. Именно с ним и связывается представление Виньи о прогрессе в истории. «Человек проходит, но народ возрождается», – говорит Корнель в «Сен-Маре». «На многих своих страницах, и, может быть, не самых худших, история – это роман, автором которого является народ» – так говорит сам Виньи в предисловии 1829 г. к «Сен-Мару».








