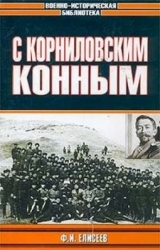
Текст книги "С Корниловским конным"
Автор книги: Федор Елисеев
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 44 страниц)
И как мы ни торопились, а к Манычу подошли с рассветом. Где этот Астраханский мост? каков он? – никто из нас не знал. Два раза мы его переходили только ночью, почему местность вокруг была неведома.
Бабиев оставляет с собой две сотни, пулеметную команду и хор трубачей к югу от места моста, а меня с четырьмя сотнями отправляет на восток, между двух паралельных полыней воды, пройдя которые, надо свернуть на север, перейти вброд заросли и атаковать красных с востока. Он же атакует с юга; при неудаче – обеспечит путь отхода моим сотням. Со мной чуть свыше 150 казаков.
Чтобы поспеть до полного рассвета – широкой рысью иду на восток. Впереди цепь головных дозоров. Со мной мужичонка-старик, проводник, на худой лошаденке без седла. Прошли версты три и видим – северный, левый Маныч будто сразу сузился, словно пересох. Мужичонка показывает рукой на север, сказав – что здесь его можно перейти вброд. Уже светало. Мы явно опоздали. И только что сотни повернули на север – как по ним зацокотали выстрелы с высокого берега красных. Это была конная застава противника, которая, рассыпавшись, скрылась за бугром. Мы и опоздали, и обнаружены. И когда перешли вброд и выбрались на плато, – было совершенно светло. Наступал день. Выбросив вперед 6-ю сотню под командованием за-уряд-хорунжего Черного, с остальными тремя сотнями, в линии колонн, последовал за ним. Сотни пошли сразу же широким наметом, а куда и на кого – не знали, как и не видели противника, – где он? И жаркий немедленный ружейный и пулеметный огонь сказал нам, что нас уже ждали... В головной сотне сразу же появились потери в лошадях. Несколько казаков с седлами в руках бежали нам навстречу. Рой пуль пронизал уже и мой густой строй. Скакавший впереди 2-й сотни хорунжий Савченко 2-й как-то неестественно запрыгал в седле... потом соскочил с раненого коня и бросился влево, к обрыву. 6-я головная сотня, не выдержав огня, повернула назад. Чтобы не быть смятым своими – шашкой указал сотням хлынуть также влево, к обрыву.
Все погибло, точно вижу я. Не хватало еще того, чтобы красные сбили заслон Бабиева и отрезали бы нам путь отступления... Вновь быстро перейдя заросли Маныча – на рысях, взводной колонной сотен, иду назад. Рядом со мной, за спиной казака, на крупе его коня – трясется хорунжий Савченко и горестно выкрикивает:
– Господин полковник!.. Восемнадцать лет прослужил на коне... и вот... потерял!.. – и при этом крутит беспомощно головой.
Я хорошо знал его рослого могучего гнедого коня, старого летами, но еще очень крепкого. Сам хорунжий Савченко крупный мужчина и немолодой. И мне его очень жаль, как он убивается по своему коню.
– Если бы к делу!.. Ну, а тут!.. Зачем все это было? – громко говорит он мне, чем точно выражает и мое личное мнение, да, думаю, – и мнение всего полка. Человек десять казаков так же трясутся на крупах лошадей своих товарищей. Двух тяжело раненных казаков поддерживают с обеих сторон в седлах, стараясь не отставать от сотен. Раненые казаки стонут и беспомощно болтаются в седлах. Оба ранены в живот, но перевязывать нет времени...
Я проклинаю свое малодушие перед Бабиевым, почему не отклонил, не настоял на ненужности этого набега, да еще в такое время, после такого пира всего полка, задуманного и организованного с благородной целью. На душе было полынно горько.
Бабиев со своим ординарческим взводом наметом двинулся в Дивное, а полк, перевязав раненых и усадив их на линейки вместе с казаками, потерявшими своих лошадей – шагом, устало, с досадой – также двинулся в Дивное. Я страдал морально. То, что я более чем два месяца так ревностно и так осторожно, деликатно созидал в понятии чести и благородной воинской дружеской дисциплине, – все это было словно похоронено в это утро. К вечеру умерли эти два раненые казака.
ТЕТРАДЬ ДВЕНАДЦАТАЯ Пикник у Бабиева
На второй день Святой Пасхи 10 апреля 1919 г., к вечеру – я и все офицеры полка неожиданно получили приглашение от Бабиева на ответный пикник, за селом, куда приглашались выехать верхом на лошадях и с хором трубачей. Сборный пункт у штаба дивизии. В приглашении сказано, что он, Бабиев, из Святого Креста, получил двухведерный бочоночек красного церковного вина и хочет распить его с родными корниловцами. Все угощение от него.
К 4 часам вечера мы выехали. Миновав село, открылся выгон. Вдали стояла ветряная мельница на бугорке. Бабиев шел впереди, нас всех выстроил в одну шеренгу. Идем шагом и, как всегда, весело перебрасываемся между собой шутливыми фразами. Вдруг Бабиев неожиданно выкрикнул:
– За мной!.. Чья возьмет!
И с места бросил в полный карьер своего горячего прыткого коня Калмыка. Под офицерами были довольно хорошие строевые лошади, но, конечно, не для скачек. Высокие и сильные кобылицы были только подо мной, есаулом Васильевым и сотником Литвиненко. Лучшая лошадь во всей дивизии Бабиева была под Васильевым, на три четверти английской крови, мощная, но спокойная.
Есаул Васильев не был «скакун». От неожиданности – мы также бросились в карьер, но – как попало, и тогда, когда Бабиев был уже далеко от нас впереди. Некоторые прыткие кони выскочили первыми. Моя кобылица, по кличке Ольга, – словно уловив чувство состязания, потребова-18 Елисеев Ф. И.
ла от меня «повод». Да и я сам был ущемлен – как лукавым подходом Бабиева, так и тем, что несколько подчиненных офицеров были впереди меня.
Сильными махами кобылица опередила всех и приближалась к Бабиеву. Я уже не сомневался, что опережу и его. И хотя он указал дистанцию до мельницы, но тут, не доходя до нее шагов двести, вдруг поднял руку вверх и громко скомандовал:
– СТОЙ РАВНЯЙСЯ СТО-ОЙ! – словами кавалерийского устава.
Уже шагом, на разгоряченных лошадях приблизившись к мельнице, – спешились, сбатовали лошадей. Вслед подошла личная тачанка Бабиева, с вином и закуской. Казаки быстро постлали на траве скатерти, и все расселись вокруг «по-азиятски». И началось очень дружное веселье, полковое семейное, без высоких слов и тостов. Полковой оркестр трубачей, у полкового флага с пышным черным конским хвостом на высоком древке, наигрывал нам свои мелодии. Мы пьем, закусываем, смеемся, говорим. Генерал Бабиев, словно равный среди нас. Офицеры полка веселые, радостные. Всего лишь третий день, как почти все получили высшие чины за боевую службу, за подвиги. Рады и веселы, в особенности есаулы, бывшие только «вчера» сотниками, перескочив через чин – Марков, Васильев, Лебедев, Мартыненко, Друшляков, Иванов, Твердый, Саша Клерже, Ма-лыхин. Как и рады многие сотники, засидевшиеся так долго в чине хорунжего, среди которых храбрый и самый остроумный и веселый Литвиненко. Все в новых погонах, и только я не надел погоны полковника до получения официального приказа по войску.
В разгар веселья полковой адъютант есаул Малыхин вдруг резко поднялся на ноги, вытянулся в отчетливую стойку «смирно», взял руку под козырек и как-то настойчиво и вызывающе спросил у генерала слово. Все офицеры сразу примолкли и повернули к нему головы.
«Что он хочет сказать?» – удивленно подумал я, когда за все веселье, если и были тосты, то короткие, семейные и которые произносились запросто и сидя на бурках с поджатыми по-азиатски ногами. Получив разрешение и опустив руку, но стоя как-то особенно щегольски «смирно», он начал:
– Я ездил... я старался... я бегал по Екетеринодару... я хлопотал и торопился назад, чтобы поспеть в полк к Святой Пасхе и порадовать всех офицеров с производством их в следующие чины... Все остались рады, все надели новые погоны, и только сам командир полка, полковник Елисеев, огорчает нас всех, оставаясь все в тех же своих погонах есаула...
И, как бы передохнув после такой тирады слов, он повернулся лицом к Бабиеву и, взяв вновь руку под козырек, резко и настойчиво выкрикнул:
– Ваше превосходительство!. Позвольте нам силой надеть на него полковничьи погоны?
– Взять его! – резко выкрикнул Бабиев; и толпа офицеров набросилась на меня, схватила за руки, повалила на спину... ближайшие выхватили кинжалы, мигом спороли погоны, а предусмотрительный Малыхин – уже держал в руках погоны полковника и английские булавки. Я уже не сопротивлялся. И через две-три минуты – они бросали меня вверх и вниз под крики «ура» и бравурную «тушь» полкового оркестра трубачей.
Малыхин был хорошо воспитанный и находчивый офицер. И, как потом оказалось, все это было сговорено заранее со старшими офицерами. После этого веселье как бы усилилось. Бабиев же, как всегда, был бодр и весел. Но вдруг он нескромно и гордо говорит:
– Никто из Вас не мог опередить моего коня!
– Если бы Вы не остановили нас, моя кобылица опередила бы Вашего Калмыка, – нарочно, шутейно, по-дружески, спокойно ответил я.
При офицерах я называл его на «Вы» и по имени и отчеству.
– Меня-a?! Моего коня обогнать?! – вдруг резко, удивленно и ревниво выкрикнул он. – Завтра же, на выгоне, прикажу расставить «вехи» на две версты по длине и выедем на состязание... и если Ваша кобылица обгонит моего Калмыка – то я отдаю его Вам бесплатно! Такой конь тогда мне не нужен! – добавляет он резко, нетерпеливо.
Все офицеры примолкли от такой неожиданности. Меня же «черт дернул» ответить ему, хотя и спокойно, но с некоторым ехидством:
– Хорошо... но, если Ваш Калмык обгонит мою кобылицу, я так же отдам Вам ее бесплатно.
Это еще больше «подлило в огонь масла».
– Если обгоню – я не возьму Вашу кобылицу! – гордо говорит он.
– Если обгоню – я тоже не возьму Вашего коня, – вторю ему спокойным языком, принимая этот диалог с ним совершенно несерьезным. Все офицеры примолкли, зная властность Бабиева.
– Я тоже нэ взяв бы Вашого «Кимлыка» (Калмыка), як бы обигнав його на своей кобылыци, – вдруг громко говорит всегда находчивый и остроумный сотник Литвиненко, любимец Бабиева, и громко рассмеялся.
Засмеялись и другие офицеры, и вопрос был исчерпан. Но мне не понравилось такое заявление Бабиева. Я отлично знал его властность на первенство во всем и над всеми, но в спортивном мире подобное заявление совершенно недопустимо. И в конном спорте чинов и начальников нет! В 1910 г. в Екатеринодаре, на полковых скачках, 20-летний хорунжий Журавель далеко оставил позади себя командиров сотен, 45-летних есаулов Крыжановского и Аландера и те, после поражения – дружески жали руку молодому хорунжему, годному им в сыновья. А потом, в полковом веселье дружной офицерской семьи, какой может быть спор – у кого лошадь лучше?!
Вопрос был так же быстро исчерпан, как и возник, и веселье продолжалось. Но Бабиев этого не забыл...
Одно интересное озорство
Уже темнело. Вдруг Бабиев говорит: «Господа... я и забыл: сегодня во 2-м Полтавском полку ужин и бал с местной интеллигенцией и я туда приглашен. Едемте все!.. Все со мной!.. Я не хочу расставаться с корниловцами!»
С оркестром трубачей мы вступили в село и приблизились ко второй местной школе. Во всех окнах яркий свет.
Перед парадным крыльцом Бабиев выровнял нас в одну шеренгу. Наш оркестр ревет бравурный марш. Командир полка, полковник Преображенский, выскочил на парадное крыльцо и просит Бабиева войти, где его давно ждут.
– Дорогу!.. Хочу въехать верхом! – громко говорит он Преображенскому и направляет своего коня на порожки крыльца. В коридоре темно. Его горячий Калмык, которому, казалось, тесно и в степи – нервно семенит передними ногами, крутит задом и хвостом и не слушает своего седока.
– Джембулат – вперед! – кричит он мне.
Я выдвинулся из тесного фронта своих офицеров, и моя кобылица, обнюхав порожки, послушно взошла на них. За мной последовали есаул Васильев и сотник Литвиненко, всегдашние инициаторы в полку. Конь Бабиева, следуя животному инстинкту, двинулся за ними.
– В залу, в залу! – командует мне позади Бабиев, и я, повернув в первую же дверь направо, въехал в очень освещенную залу, где за длинным столом у противоположной стороны сидело человек до 25 офицеров и штатских и столько же дам.
– Цок-цок-цок-цок... – издавали этот характерный звук по деревянному полу входившие один за другим всадники и выстраивались в одну шеренгу, фронтом к столу. При таком диком нашем появлении – все дамы нервно вскочили со своих стульев и с испугом прижались к стене. И я заметил на лицах их не один испуг, но и то, от чего становилось стыдно...
– На-право – равняйсь! – командует Бабиев. И все офицеры-корниловцы повернули головы направо, т. е. на меня, на своего командира полка, на «озорника номер два», так как Бабиев был «номер первый». И я уже думаю-страдаю – почему я не отговорил или не ослушался своего начальника дивизии генерала Бабиева и не ускакал от него в полк со своими офицерами? Но это была бы уже «четвертая неприятность» с Бабиевым. И ослушания он не забывает... Бабиев же, словно упиваясь этим озорством, – командует:
– Смирно!.. Господа офицеры! – взяв руку под козырек, словно приветствуя полтавцев и их гостей, молча и изумленно смотревших на нас.
– Становись на седла! – несется следующая его команда – и мы все «стали на седла». Он хочет также стать на седло, но его нервный конь не стоит на месте. К тому же у него только одна рабочая рука.
– Лезгинку! – кричит он трубачам. И лезгинка грянула.
– Полковник Елисеев!.. Со мной! – командует он и... спрыгнув с седел, – мы понеслись в танце.
Это вывело «зрителей» из недоумения, и они громко зааплодировали. Полковник Преображенский, храбрый офицер, большой службист и почитатель Бабиева – он не знал – что делать? Он уважал и боялся Бабиева, почему и не знал, как все это прекратить? И когда лезгинка окончилась, он быстро подошел к Бабиеву и попросил представиться дамам. А я, воспользовавшись «отлучкой» генерала, «прошипел» своим офицерам: «Выводи лошадей как можно скорее!»
– Куд-да? – бросил Бабиев, услышав топот уводимых лошадей. Но я ему махнул только рукой, дескать – «довольно»! Он не реагировал.
Я не раз кутил с Бабиевым, когда он был сотником и подъесаулом. Он пьет немного, но он может долго кутить ради веселья. И в веселье должен быть обязательно «бум», танцы, гик, стрельба из револьверов и вообще все шумно, широко, оригинально. Но, делая в веселье озорство, он никогда не терял головы, т. е. делал все продуманно. Зная все эти его увлечения и став в дивизии командиром полка, да и раньше, будучи его помощником, – я всегда воздерживался в шумном веселье, чтобы вовремя и по-дружески – умерить его пыл. Так было и теперь.
У кубанских и у терских казаков считалось шиком во время гульбы въехать в дом верхом на лошади. Это в станичной жизни. Проделывали это только молодецкие казаки, отслужившие и, конечно, на своем строевом коне. Это считалось верхом лихости и смелости. Как и полной послушности лошади ее хозяину. Но в данном случае «въехавших» было очень много, свыше двух десятков. Кроме того, въехали в чужую среду, не в казачью, которая этого понять не могла. И термин «озорство» определяется много лет спустя, когда психология переменилась. Молодецкая кровь бушевала и не знала, куда и во что должна вылиться.
Пополнение в полк
Из войска совершенно неожиданно прибыло пополнение в полк, силой в 120 конных казаков. Эту сотню привел сотник Гурбич*, сын члена Краевой Рады; его помощником был сотник Троян*.
Все эти молодые казаки, призыва 1919 г., сидели на отличных лошадях, т. е. на таких лошадях, на которых казаки отправлялись на действительную службу при императорской власти. Надо было не только что восторгаться, но надо было удивляться: как в такое смутное время, коща русский крестьянин и рабочий, да и другие слои населения Великой России, психологически стали на сторону красной власти – Кубанское Войско, его станицы, его казачьи семьи на собственный счет шлют конными и вооруженными своих сыновей на фронт, словно по приказу самого Царя, ослушаться которого считалось недопустимым религиозно-государственным мышлением всего казачества. Эта сотня молодых казаков была составлена из Хоперского, Лабин-ского и Уманского полковых округов. Каждому из них шел 21-й год от рождения. Сердце радовалось, смотря на эту бодрую зеленую молодежь. Полк сразу же вырос в своей численности до 400 боевых шашек в строю, не считая пулеметной и других команд полка.
Это пополнение прибыло на Страстной неделе, за несколько дней до Святой Пасхи. С командирами сотен осматриваем и оцениваем лошадей, на предмет вознаграждения семьям, в случае гибели их в боях. В оценке не скупились, так как деньги уже теряли свою ценность. Потом ревниво распределили их по сотням, как не служивших и не обстрелянных или, может быть, очень мало и случайно обстрелянных. И надобно же было случиться, что через несколько дней, в ночь на второй день Святой Пасхи, во время ненужного набега полка на Астраханский мост через Маныч – тяжело раненные и умершие в тот же день два казака были именно из этого пополнения. В боях потери были и сильнее, когда был нужный бой. Но здесь – был набег совершенно ненужный, по капризу штаба. Я остро пережил гибель этих двух молодых казачат, погибших зря.
Из войскового штаба пришло распоряжение: «от каждого полка командировать в Анапу, на пулеметные курсы, по одному офицеру в чине хорунжего и по два младших урядника». Я всегда считался с мнением офицеров полка, когда предстояло хорошее или плохое дело. Я считал, что всякое дело надо обсудить вместе, решить его и потом уже действовать, чтобы каждому было ясно – что и как? В данном случае предстояла очень приятная командировка в тыл. Кого же командировать? Всяк ведь хотел отдыха! К тому же требовался офицер грамотный, как и грамотные урядники. Собрав офицеров и прочтя приказ, спросил: «Кто хочет?»
Все молчат. Молчат не потому, что не хотят, а потому что – ну как это можно изъявить личное желание уехать из полка, из храброго Корниловского конного полка и... в тыл? Ведь за это будет всегдашний укор от других и дружеская насмешка: «A-а... бисова душа!.. На пулымэтни курсы издыв? тикав з хронта?» Так и будут всегда его «тыкать» этим. Все это было далеко до Святой Пасхи.
– Господин есаул! А не лучше ли командировать на курсы Жоржа, после его выздоровления? – прерывает молчание хорунжий Литвиненко. Это он говорит о нашем третьем брате, Георгии, хорунжем, который находился на Кубани после тяжелого ранения.
Я всегда был щепетильный, когда дело касалось этики. В данном случае, командировать на курсы своего родного брата – я запротестовал. Но, к моему удивлению, – все громко поддержали мнение Литвиненко, как лучший выход из положения, и я согласился. Из урядников был командирован Макаренко*.
Полк обогатился есаулами. В наличии их было девять. Я решил поощрить и уравнять их труд. По новому положению, полагалось два помощника в строю. Ими были назначены есаулы Марков и Лебедев Пантелеймон. Я готовил почву подтянуть обоз 2-го разряда из Лабинской станицы, ближе к полку, а для этого его начальником должен быть испытанный строевой офицер и офицер с фронта. Все остановились на Васильеве. С резким, правдивым и неподкупным характером – он подходил как нельзя лучше к этой операции, к тому же все были уверены, что он выгонит из обоза всех дармоедов на фронт. Есаула Сменова я решил вызвать в полк. Его по хозяйственной части замещал здесь 10-й из наличых есаулов, Козлов, только что переименованный из подъесаулов в есаулы. На Васильева были приготовлены все документы, и он должен выехать в Ла-бинскую «завтра».
Тревога. Есаул Васильев
На второй день, 13 апреля, в часы завтрака – по селу Дивному раздались сигнальные звуки тревоги. Корниловский конный, 1-й Кавказский, 1-й Таманский и 2-й Полтавский полки – быстро выскочили на сельскую площадь и там узнали, что красные перешли Маныч, но где они и сколько их – мы не знали. И когда полки стояли на площади в ожидании генерала Бабиева – ко мне подъехал на своей мощной гнедой кобылице есаул Васильев – вяло, нерешительно, словно не зная – где ему стать и что делать? Он имел уже при себе все командировочные документы.
– Ну, езжайте с Богом, Яков Клементьевич, – говорю я ему.
– Я не поеду, Федор Иванович, – вдруг отвечает он.
– То есть как не поедете? – удивленно спрашиваю его.
– Да как же мне ехать, когда наш полк выскочил по тревоге? Окончится она, тогда я и поеду, – спокойно, грустно отвечает он.
– Езжайте, езжайте, Клементич!.. Мы все это и без Вас сделаем, – дружески говорю ему.
– Нет... я не поеду!. Это совсем неловко будет. Еще скажут, что обрадовался Васильев... и не пошел с полком, – продолжает он упорствовать.
– Езжайте! Кто это о Вас так может сказать? Словно Вас не знают! – уже более твердо говорю ему.
– Нет-нет, Федор Иванович! Я буду при Вас. И как только все пройдет, и мы отобьем красных – я прямо с места тронусь на село Петровское. И не уговаривайте меня... я не могу иначе поступить, – упрямо закончил он.
Мне было досадно за его упрямство, но в это время к полкам молодецки подлетел Бабиев, поздоровался с каждым в отдельности и быстро двинулся с ними из села.
Широкой рысью полки шли на запад, к Макинским хуторам. Впереди шел 1-й Кавказский полк. За ним наш Корниловский. Весна была в полном своем цвету. Трава была уже выше четверти. В линии взводных колонн – полк легко идет вперед. Рядом со мной, скучно, без дела, не находя своего места в строю, – молча рысит Васильев.
– Дорогой друг!.. У Вас документы уже в кармане... поезжайте с Богом, шляхом... – трактую ему на широком аллюре рысью.
– Дорогой друг и господин полковник! – пронизывал он меня. – Не могу же я ехать шляхом, когда наш полк, Корниловский, скачет в бой! Меня сочтут еще трусом!..
Мне следовало бы просто приказать ему не быть с полком и двигаться по назначению! Но —у нас были исключительно дружеские взаимоотношения, и его воинские чувства я понимал. Почему и не осмелился приказывать.
Не доходя до Макинских хуторов, полки были остановлены, сосредоточены и спешены, укрывшись в ложбине. Перед полками маленький перекат местности. На нем небольшой курганчик. С командирами сотен взошел на него и остановился. Впереди курганчика стояли генералы Бабиев и Ходкевич и еще несколько офицеров-пластунов. Все они в бинокли смотрели вперед, на север, в сторону противника. Направили свои бинокли и мы, но противника не обнаружили. Неожиданно защелкали выстрелы красных, и пули высоко пролетели над нашими головами. Один батальон пластунов был двинут вперед. Быстрым шагом рассыпаясь в цепь – они на ходу заряжали винтовки. Пластуны, кто в гимнастерках, а кто в черкесках, но все «в кожухах» нараспашку – очень быстрым шагом, словно на кулачки, активно бросились на врага, которого видно не было. Со стороны красных затрещали частые выстрелы. Мы все, стоявшие на кургане, – вперились в бинокли. Вдруг очередь пуль из пулемета, шурша в своем полете, пронеслась над нашими головами. Мы переглянулись. Следом вторая очередь пронеслась уже над нашими головами. Корниловцы не любили «пригинаться» под пулями. Вернее – в полку это считалось просто недопустимым явлением, хотя бы и было страшно. Но я все же предложил всем офицерам спуститься с курганчика вниз, к полку, стоявшему позади. Офицеры переглянулись между собой, словно испытывая и спрашивая один другого: «Кто же первый из нас решится на столь позорный шаг?»
И тут же следующий сноп пуль хватил всех нас по бедрам. И из всех стоявших офицеров – есаул Васильев дико крикнул, схватился за живот, согнулся и стал падать – единственный из нас... Он стоял со мной рядом. Я быстро схватил его под руки, сзади. Есаул Лебедев за ноги. Подскочили ближайшие офицеры, и все мы густой толпой сбросились вниз с кургана, неся стонущего друга.
Подбежал полковой врач Александров. Васильев жестоко стонал. Его перевязали.
– Конец – Федор Иванович! – очень явственно произнес Васильев, глядя на меня.
– Што Вы, дорогой!.. Крепитесь! – совершенно не думая «о его конце», бодро, но с большим состраданием в душе успокаиваю его.
– Умру... чувствую, – коротко, трезво произносит он.
Уложили его на линейку и с фельдшером и полковым
священником отцом Золотовским – немедленно отправили в Дивное. Он уже не стонал. Но только двинулась линейка – как раздирающие душу стоны, со словами «тише! тише!» – раздались из его уст. Он просил ехать как можно тише. Всем нам стало очень грустно. Врач Александров сказал, что ранение очень серьезное, в живот, и о результатах сказать еще не может.








