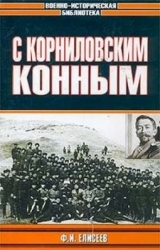
Текст книги "С Корниловским конным"
Автор книги: Федор Елисеев
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 44 страниц)
Полковой хор трубачей
В мирное время 1913-1914 гг. – я был помощником начальника полковой учебной команды. Рядом с казармой учебной команды, по одной линии, разделяемой проходом в 10 шагов, – находилась казарма полкового хора трубачей. Ежедневные «бесперебойные» занятия в учебной команде тут же, на полковом дворе-плацу перед этими казармами, на дневную и вечернюю уборку лошадей обязательно с песнями, которые научил петь «в три голоса», и любую песню «в ногу» – вызывали восхищение трубачей, понимающих в музыке, в нотах. Танец лезгинка из учебной команды перенесся и в трубаческую.
Все это нравилось казакам трубаческой команды, и они подражали во многом «учебнянам». Сверхсрочный вахмистр трубаческой команды и первый корнетист Лашко из
1-го Таманского полка, старый и умный казак, живший с семьею на вольной квартире, большой музыкант и певец, он хорошо, умно и авторитетно держал своих подчиненных трубачей.
В Мерве всегда жарко. Город маленький и бедный. Никаких развлечений. Даже не было кинематографа. Единст-
венное развлечение – это поздно вечером пройти в городской сад, где под открытым небом многие играют в лото за длинными столами: офицеры гарнизона и их жены и богатые туркмены в своих полосатых халатах, охваченных широким кушаком, за который воткнут кривой нож в ножнах, оправленный в массивное серебро ручной работы.
Воинственные туркмены – теперь мирные жители под скипетром Белого Царя. И кривой свой традиционный нож в ножнах серебряной оправы они носят только для щегольства, как носят кинжалы наши горцы Кавказа. Высокая, косматая папаха белого курпея, которую туркмен никогда не снимает с головы, даже играя в лото, также является его щегольством.
Мы, молодежь хорунжие, не любили играть в лото, но иногда приезжали на извозчиках в этот сад просто провести время. В этом саду, на эстраде, играл по вечерам наш хор трубачей. Заигранные деньги, по военному закону, шли в полк, но не выдавались на руки трубачам.
В один из вечеров, когда мы, хорунжие, гурьбой вошли в сад, вахмистр Лашко, он же и капельмейстер хора, что-то сказал своим трубачам, и они бравурно сыграли лезгинку. Явно, что это они сделали для меня, первосвященника танца лезгинки в полку. Три рубля «бумажкой» были наградой казакам.
С тех пор при моем появлении, где бы то ни было, – хор сам всегда играл лезгинку, как приветствие. Пришлось всегда отвечать деньгами, коих и не было жаль. Так завязалась у них дружба и уважение ко мне.
В Турции, 2 ноября 1915 г., я был назначен полковым адъютантом. Этим я стал начальником хора трубачей на правах командира сотни. Строевым вахмистром и капельмейстером стал вахмистр Лашко. Во всех офицерских пирушках вызывался хор трубачей и офицеры полка, в особенности молодежь, всегда щедро давали им деньги «за труды», не говоря уже о выпивке для них.
В Персии, в городе Маку, перед самой войной против Турции, при первой встрече с 1-м Таманским полком – я обнаружил, что их хор трубачей гораздо музыкальнее нашего и сильнее по своему составу. В мирное время их хор трубачей был отлично обмундирован. Полком тогда командовал полковник-артиллерист Филимонов, родной брат будущего Кубанского войскового атамана генерала Филимонова*. Вообще же у таманцев всё было устроено в полку лучше и богаче, чем у нас, кавказцев, их однобри-гадников.
Став полковым адъютантом, я решил построить нарядные черкески и папахи для трубаческой команды. Пока полком командовал Мигузов* – говорить с ним, чтобы все это сделать на полковой счет, – не могло быть и речи.
С вахмистром Лашко условился, что половину заигранных денег он будет раздавать трубачам, а вторую половину будем сберегать в банке. Молодежи хорунжим был доведен до сведения этот план и предложено быть щедрыми во время нечастых в Турции веселиях. Придя на отдых под Карс, я быстро устроил своих трубачей играть по субботам и воскресеньям в Карсе, в общественном собрании.
Как сказано выше – в таких случаях заигранные деньги, по положению, идут в суммы полка, но не раздаются трубачам на руки, как их частный заработок. Это было вполне правильно и логично: почему казак-трубач, неся службу военную, но не имея никаких нарядов во внутренней службе полка, а тем более не участвуя в боях, может зарабатывать деньги на полковых музыкальных инструментах, а строевые урядники и казаки в то же самое время нести все бремя военной службы полка, за это ничего не получать, кроме очень скромного жалованья от государства, которое получают и трубачи. В общем, этот вопрос считался безапелляционным, о котором полковой адъютант не должен и разговаривать даже с трубачами.
На наше счастье, на отдыхе полком командовал гуманнейший человек, полковник Мистулов. Доложив ему об устройстве хора полковых трубачей играть в Карсе и доложив, что по войсковому положению, деньги должны идти в суммы полка, – я просил его оставить деньги «в фонд трубачей» для постройки темно-синих черкесок, белых папах, чевяк и ноговиц.
Мистулов всегда выслушивал доклад внимательно и до конца, в это же время обдумывая свое решение. И, когда я закончил, он как бы с удивлением посмотрел на меня и сказал:
– Федор Иванович! И Вы еще меня спрашиваете об этом! Ну, конечно, какой может быть разговор. Поступайте так, как Вы предрешили.
Из заигранных денег в Турции трубачам были уж построены белые папахи, чевяки и ноговицы. В грязную погоду разрешено было носить мелкие галоши. И вот, когда хор появлялся в Карском общественном собрании, то не только что нам, офицерам-кавказцам, но и всей публике было приятно видеть казачий хор трубачей в однообразных черкесках, в белых папахах, а главное – в мягких чевяках и в мелких галошах, а не в грязных грубых солдатских сапогах, идущих по паркету танцевальной залы. Трубачи сами это отлично видели, как ими любовались посетители, и сами подтягивались к еще большему воинскому щегольству.
Разучил с ними некоторые нотные украинские песни. Лучший танцор лезгинки в полку был трубач-баритонист Матвей Позняков, казак станицы Расшеватской. Родные братья Стрельцовы, казаки станицы Тифлисской, артистически танцевали на пару станичный казачок. Трубаческая команда стала завистью казаков сотен. Приглашен был новый капельмейстер с большим знанием музыкального дела.
Мне казалось, что трубаческая команда меня как своего непосредственного начальника – любит и уважает. И вдруг – некоторые из них хотят меня арестовать и отправить в Карс, на суд в военно-революционный комитет. Огорченный и злой, теперь я иду к ним, чтобы «разговаривать, смотря прямо в глаза им...»
– Встать! Смирно! – командует штаб-трубач, вахмистр Лашко, когда я появился у дверей так знакомой мне трубаческой хаты. Я быстро бросил взгляд по всем их лицам, чтобы определить настроение.
– Здорово, братцы! – как всегда, но менее радушно, произнес я, хотя днем «до революции» я видел их несколько раз.
– Здравия желаем, Ваше благородие! – дружно ответило тридцать голосов.
Я прохожу мимо них к «святому углу» и занимаю там место. Я умышленно сажусь как можно дальше от выходных дверей, чтобы мне не было никакого «отхода-бегства», чем хочу им показать, что я совершенно не боюсь их и хочу ответить на все их прихоти.
– Садитесь, – говорю им и, выждав их это выполнение, тихо, грустно спросил:
– В чем дело? Что Вы хотите?
Все молчат и... сопят. Тянутся нудные, может быть, тридцать секунд, но они кажутся очень длинными и томительными.
– Ну, так шо ж Вы?.. Стрельцов, Чиженко?.. Говорыть! Шо Вы балакалы тут усим! – прерывает очень нудное молчание смелый и авторитетный вахмистр команды, штаб-трубач Лашко на своем черноморском наречии.
И вот Стрельцов-старший выражает желание «всех» получить деньги «на руки». Говорит спокойно, вежливо, по-воински. Чиженко же хочет еще «доказать», почему должны быть деньги выданы на руки. Я слушаю молча, но разглядываю остальных трубачей и вижу, что под моими взглядами они опускают глаза вниз. А третий корнетист Меремьянов, казак станицы Тихорецкой – даже закашлял и стал поправлять свое сиденье, словно ему что-то кололо в одно место.
Бедные, бедные казаки, – думал я тогда, в эти свои скорбные минуты. Поистине – не знают, что хотят!
– Окончили? – спросил я Стрельцова и Чиженка.
– Так точно, окончили, Ваше благородие, – ответили они.
При гробовой тишине я тихо, очень грустно, рассказал им «историю» этих заигранных денег, указав, кто им дал эту возможность «заиграть деньги», куда по закону шли эти деньги в мирное время, подчеркнув, каковы они теперь и каковы были до моего адъютантства. Вся моя военная служба в полку, прошедшая на их же глазах, давала мне полное основание говорить им всю правду, не стесняясь во всем и не боясь личной ответственности. Все это они знали и раньше! Я так хорошо знал весь станичный быт казаков, что заглянул во все их щели, нашел и рассказал им то, что заставило их стыдиться.
– Сколько, по-вашему, заигранных денег в банке? – громко и неожиданно для них спросил я всех, но главное, это относилось к вахмистру Лашко, который вел им учет.
– Около девятисот рублей, – был ответ, что и было так.
– Деньги в банке... завтра же поеду, получу и раздам вам. Согласны?
– Так точно, согласны, Ваше благородие! – весело ответили они.
– А теперь оставайтесь спокойны. Полка нет. Мы не знаем, что там. Время тревожное. И не дурите зря, – закончил свою речь я уже стоя, как и все, они встали на ноги со своих мест.
– До свидания! – говорю им, бывшим таким молодцам раньше, хотя они и оставались такими же, коих было просто мне жаль.
– Постараемся! Рады стараться! Счастливо! – смесь ответов без строя, не знающих, как на все реагировать, огласили большую комнату, и я, уже под дружественные взгляды все так же не испорченных душою своих родных казаков-трубачей – вышел на улицу в ночную тьму... Было часа два ночи.
На душе у меня было очень скверно. Главное – я здесь один, здесь нет полка, здесь нет полковой силы, нет нашего полкового организма, чтобы действовать вместе или разделить горе всем полком. Так неожиданно нагрянула полная неопределенность, которая, с остатками полка во Владикар-се, полностью навалилась на меня, единственного офицера, непредвиденными событиями появившегося здесь.
Деньги в банке взяты и переданы вахмистру Лашко, который и разделил их между трубачами. По странной иронии революции – каждому из них досталось по тридцать серебряников...
Прошло два года. В феврале 1919 г., за Манычем, в селе Приютном Астраханской губернии была сосредоточена бригада казаков 3-й Кубанской дивизии генерала Баби-ева* – 1-й Кавказский полк полковника Орфенова* и Корниловский конный, которым командовал автор сего в чине есаула. Было холодно, грязно, снежно и скучно. И вдруг ко мне приходят на квартиру «поздороваться» бывший третий корнетист Меремьянов и Стрельцов-млад-ший – небольшого роста, сухой, юркий казачок, очень вежливый и отличный танцор «казачка». Они одеты в те же черкески, что и во Владикарсе, в мягких ноговицах, в чевяках и... в мелких галошах, т. е. в тех, что я им справил тогда на заигранные деньги. Принял я их как родных братьев так «далекого» и так приятного прошлого Императорской армии нашего 1 -го Кавказского полка. Угостил, чем мог в то скудное время.
– Та и дураки же мы были тогда, господин есаул, – говорит юркий Стрельцов-младший.
– Когда это «тогда» и какие дураки? – переспрашиваю его, совершенно забыв о прошлом.
– Да што деньги заигранные от Вас потребовали во Владикарсе, – отвечает он.
– Ну, это дело прошлого... и его не стоить вспоминать, —: совершенно искренне отвечаю ему.
– Ды как жа ни вспоминать! – отвечает непоседа Стрельцов-младший. – Ды, Вы знаете, што мы с Меремь-янычем самые почетные казаки у полковника Арфенова. И все через Вас. Вы посмотрите, мы до сих пор ходим в чевяках и калошах, што Вы нам справили, несмотря на такую стужу и грязь. И полковник Арфенов, как увидел нас, дык немедленно взял к себе в личные ординарцы и никуды не отпущаить от себе. И к Вам мы пришли с ихнива позволения, а то бы не пустил к другому. И хучь и не казак, а понимает в казачестве, – закончил юркий Стрельцов-младший про полковника Орфенова.
Скромный и малоразговорчивый Меремьянов сидит и только сочувственно улыбается, вставляя порою свои реплики для подтверждения слов своего друга.
Меня эта исповедь уже не интересовала. Казачью душу я и тогда понимал так, как была вот эта исповедь. Казаки, конечно, и тогда, в первые дни революции, не были дураками в прямом понимании этого слова, но, не имея хорошей грамотности, гражданского самосознания – они поступали только эмоционально, т. е. как толкало их чувство, а не здравый рассудок. Собственно говоря, этому тогда было подвергнуто почти все население необъятной России, и в особенности уставшая от войны и военных неудач 12-миллионная Русская Армия; и упрекать в этом свое родное казачество – я совершенно не намерен.
Заблуждались и мы, офицеры, так как политически были абсолютными «нулями». В катастрофе надо броситься с засученными рукавами, но не в белых барских перчатках, как поступили многие из нас тогда.
Что же случилось в полку?
В Сарыкамыше революционный солдатский бунт поднялся раньше Карского. Стоявшие там в резерве 1-го Кавказского армейского корпуса стрелковые полки 6-й Кавказской стрелковой дивизии арестовали некоторых своих офицеров и разграбили полковые денежные ящики. Начальник гарнизона понял это не как революционную вспышку, а как обыкновенный солдатский вооруженный бунт. Для усмирения его он просил начальника нашей 5-й Кавказской казачьей дивизии генерала Томашевского* прислать один казачий полк.
Недалеко от Сарыкамыша, в селении Селим, на отдыхе стоял 1-й Таманский, и, казалось, его нужно было бросить на Сарыкамыш, а не наш полк, который стоял в семи верстах южнее Карса. В штабе нашей дивизии считали, что 1-й Кавказский полк был более дисциплинированный, как полк линейных казаков, чем 1-й Таманский, полк черноморских казаков, который, как подлинный из поколения разрушенного Запорожского Войска – имел в своих сердцах какое-то тогда мало кому понятное «казачье свободомыслие».
Генерал Томашевский, родом не казак, сухой формалист, недавно принявший нашу дивизию, но человек умный, опытный, с польской задорностью в характере, распорядился так: наш полк бросить на Сарыкамыш из-под Карса, а 1-й Таманский перебросить под Карс из Сарыкамышско-го района.
Нашему полку приказано было ускоренным аллюром дойти в Сарыкамыш и поступить в полное распоряжение начальника гарнизона для подавления солдатского бунта. Прибыв в Сарыкамыш, полк остановился на одной из площадей, спешился, как нахлынула на него солдатская вооруженная масса.
– Товарищи казаки!., произошла революция! Царь свергнут с престола со своими министрами!., власть перешла к самому народу!., присоединяйтесь к нам!., и арестовывайте Ваших офицеров! – кричали они.
По рассказам офицеров и казаков, полк растерялся и не знал, что делать. И арестовывать своих офицеров не стал. Тогда солдаты выкрикнули:
– Укажите на негодных офицеров, и мы сами их арестуем!
Нашлись казаки, которые указали на «негодных офицеров». Недовольство ведь всегда бывает. И были тут же арестованы:
1. Войсковой старшина Калугин* – временно командовавший полком.
2. Войсковой старшина Алферов* – командир 1-й сотни.
3. Подъесаул Леурда* —1 его младший офицер.
4. Подъесаул Кулабухов* – командир 2-й сотни.
5. Есаул Авильцев* – командир 5-й сотни, и его младшие офицеры.
6. Хорунжий Романов* и 7. Хорунжий Уваров*.
После этой бескровной, но грубой экзекуции солдатов
над офицерами полка полк был отпущен в свое село Вла-дикарс, оставив в тюрьме Сарыкамыша семь своих офицеров. Его и привел во Владикарс старший в чине и помощник командира полка войсковой старшина Пучков*. Обо всем этом во Владикарсе никто ничего не знал. Пронесся лишь слух, что арестован командир полка и некоторые офицеры, но кто именно – не знали. Здесь же оставались жены офицеров, прибывшие с Кубани, чтобы повидать и хоть немного времени пожить с ними, и вдруг... их мужья арестованы солдатами, брошены в тюрьму и полк их не защитил...
Что они, жены, тогда переживали – я, как холостой, тогда этого особенно остро не понимал. Как к единственному офицеру здесь все они бросились ко мне – узнать, выяснить, помочь. Легко сказать – не только что помочь, но и узнать-то не было возможности. Жуткое состояние было супруги Калугина, нашей старшей дамы полка, природной казачки станицы Дмитриевской, рожденной Копаневой.
К вечеру ближайшего за катастрофой дня наш полк подходил к селению Владикарс. С Феодосией Игнатьевной Калугиной и с Лидией Павловной Маневской мы вышли на южную околицу села, чтобы как можно скорее узнать – при полку ли их мужья? Так просили они меня, чтобы я был с ними в эти жуткие часы «подхода полка».
Словно после жестокого поражения возвращался наш славный полк в село Владикарс – хмурый, злой и... страшный. Полка было не узнать. И он входил в село без песен, как небывалое дотоле явление. Мрачно и безучастно шел впереди полка в седле войсковой старшина Пучков. Мы трое болезненно вперили в него свои взоры, желая как можно скорее узнать, кто же арестован? Иль это неправда?
В колонне «по три» полк растянулся очень длинно по шоссейной дороге, и мы видим только его «голову». Но Пучков, подъезжая к нам, как-то странно поклонился своим полковым дамам, словно хотел подчеркнуть перед казаками, что «я с этими дамами мало знаком и никакого отношения не имею». И хотя Пучков был человек флегматичный, и добрый, и хороший в жизни, но такое невнимание к своим полковым дамам в этот момент еще больше расстроило Калугину, и она заплакала. Маневская, женщина с живым характером – она еще острее вперила свой взгляд в длинную колонну полка, чтобы как можно скорее убедиться – стоит ли во главе своей третьей сотни ее любимый Жорж – войсковой старшина Маневский* иль тоже арестован? Он не был арестован.
1-я сотня, головная, наполовину состоявшая из моих станичников-сверстников, сбитая, лихая, храбрая и озорная, – она проходила мимо нас мрачно, молча и, как мне показалось, некоторые казаки бросали на нас свои взгляды не особенно дружественно. Меня это неприятно покоробило. Но когда в хвосте сотни провели в поводу при седлах верховых лошадей Алферова и Леурды, так мне хорошо знакомых, но всадников не было, – я понял, что произошла большая психологическая катастрофа в полку, от которой нельзя ждать добра.
Молча, сурово-напряженно, сотня за сотней так дорогого нам и любимого полка прошли мимо нас, с офицерскими лошадьми в хвосте почти каждой, при офицерских седлах, но без седоков-офицеров, и молча же разошлись по своим квартирам. Я уже не помню, как мы все трое дошли до своих квартир. Жуткий и незабываемый был этот день «первой встречи» с родным полком в первые же дни революции. 115-летнее существование 1-го Кавказского полка в Императорской России закончилось навсегда.
По новому «положению в армии» должны быть избраны сотенные и полковой комитеты. В полковом комитете должны быть два представителя от офицеров. Собрались мы и не избрали, но просили быть войсковому старшине Маневскому и сотнику Бабаеву (сыну)*. Оба офицера спокойные, разумные и уважаемые казаками. По тому же «положению» – делегаты от сотен и команд полка, как и офицеров – в своей среде выбирают председателя и секретаря. Здесь замечен был характерный психологический сдвиг в умах казаков. Несмотря на то, что Маневский был признан не только офицерами, но и казаками выдающимся, честным и отличным офицером, – собрание делегатов председателем избрало все же казака, старшего медицинского фельдшера полкового околотка Куприна, станицы Новопокров-ской, а войскового старшину Маневского избрали секретарем полкового комитета. Это нас задело.
– Как ты мог согласиться на это? – возмущенно спрашиваю я Маневского, своего былого командира сотни в течение полутора лет войны.
Умный и серьезный Маневский посмотрел на меня и спокойно, но с некоторой духовной напряженностью ответил:
– Видишь, Федя, – произошла революция. Полковой комитет – выборные люди. С этим надо считаться и согласиться. Вот почему я и согласился быть секретарем в нем, раз меня избрали.
Довод Маневского был справедлив. Фельдшер Куприн оказался очень серьезным председателем, с мнением которого считался полк и который работал только на укрепление порядка и дисциплины в полку.
Особенно похвальную роль играл сотник Паша Бабаев. И полковой комитет в своем составе вел себя достойно. И никаких эксцессов в полку со своими офицерами уже не повторилось, даже и после октябрьской революции.
Но как бы то ни было, все мы, офицеры, посчитали, что это произошел «солдатский бунт», не больше, и замкнулись в своей среде. Некоторые командиры несколько дней не выходили в свои сотни, передавая все распоряжения через вахмистров. Было как-то стыдно теперь встречаться с казаками и называть их на «Вы», что было противно даже самому казачьему станичному нутру. Казаки сами стеснялись этого, острили над собою, считая такое обращение смешным, лишним и неудобным.
Интересное явление: офицеры должны называть всех казаков на «Вы», тогда как урядники продолжали называть казаков по-старому на «ты», а они их, урядников, также по-старому называли на «Вы» и по имени и отчеству.
Мое положение полкового адъютанта оказалось очень тяжелым. Если другие офицеры буквально не выходили из своих хат, то я должен быть безотлучно в полковой канцелярии. В нее посылался такой ворох разных казачьих денежных претензий, что трудно было понять, куда это делся тот молодецкий казак полка, которого мы привыкли видеть за все эти долгие годы службы и войны? Дошли до того, что потребовали деньги за «недоеды» и «фуражные деньги», мотивируя, что в Турции казаки не получали полный свой паек, а лошадей полк кормил «не полностью».
Полковая канцелярия «не изрыгала особенных истин», стояла на точке зрения закона, выполняла все своевременно и безо всяких задержек. Авторитет полковой канцелярии оставался нерушимым. Должен подчеркнуть, что абсолютно все писари строевой и хозяйственной канцелярии восприняли революцию не только что спокойно, но, пожалуй, и с усмешкой. А когда «навалились» несуразные денежные требования казаков, явно противозаконные, о чем писари знали лучше офицеров, они внесли даже юмор в свою работу и, к их чести, работу выполняли так же добросовестно и любовно, как и прежде, хотя ее прибавилось вдвое.
Начались бесконечные митинги, но они были не политические, а хозяйственные, на которые являлось не больше сотни казаков из всего полка, а потом и они надоели.
Казаки давно и сильно волновались за свои вещи, оставленные в цейхгаузах в Мерве, где была мирная стоянка полка. У каждого казака остались там сундуки с парадной формой одежды (черная черкеска, красный бешмет и высокая черная папаха для парада) и другие ненужные на войне вещи. Почти у всех урядников остались там серебряные кинжалы с поясами. Их требования были вполне справедливыми. Так думали и мы, все офицеры. Канцелярия немедленно же заготовила соответствующие документы, и группа казаков во главе с урядником выехала в город Мерв Закаспийской области.
Большинство казаков, в особенности урядники, революцию восприняли отрицательно и не выходили на митинги, чтобы «не потерять свое лицо». Когда же приехала из Карса какая-то солдатская делегация на грузовом автомобиле с красными флагами, чтобы приветствовать казаков «с революцией», то мы не позавидовали бедному Куприну, которому надо было «услащать» их революционными словами и стыдиться на их упрек – «почему так мало казаков пришло на митинг»?
Казаки вообще не любили солдат, а «красный флаг» для них был одно оскорбление, связанный только с шахтерами, с солдатами и вообще с «мужиками», которые вечно «протестовали» против правительства.
Должен подчеркнуть, что ни один казак нашего полка за все месяцы революции не одел на себя «красный бант», считая это позором для казачьего достоинства.
Мои вестовые казаки
Денщик Иван Ловлин, станицы Казанской – еще из Мерва, перед войной. Он дальний мой родственник по матери, которая также казачка станицы Казанской, из многолюдной семьи Савеловых «деда Петра».
Конный вестовой Федот Ермолов, станицы Расшеват-ской, с начала 1915 г. Оба мои сверстники летами. Преданные казаки своему «пану», как офицер назывался в кубанских станицах. Всю Турецкую войну неразлучно со мной. Ермолов 3-й сотни, где я был полтора года младшим офицером. Во всех разведках рядом со мной. Под Мема-Хату-ном ранен. Имеет две Георгиевских медали «За храбрость». Сам Мистулов, наблюдая его, произвел в звание приказного (ефрейтора). Отличный ездок и стройный, скромный казак. Под Баязетом в 1915 г. потерял своего дивного коня. Отец купил ему нового, годного под офицерское седло. Это были два очень доверительных моих казака, даже в «интимных» моих холостяцких «экскурсиях». И их теперь я должен называть на «Вы»?.. Таков был новый закон.
Занятый весь день в канцелярии, приходя в свою комнату, я старался как можно реже видеть их и как можно короче разговаривать. А если отдавал распоряжения, то старался называть все в третьем лице: «надо сделать то-то... надо оседлать коня... надо вызвать такого-то казака» и прочее.
– Слушаюсь, господин подъесаул, – отвечали они смущенно и так же, как можно скорее, выходили из моей комнаты.
В один из вечеров, когда я мрачно настроенный сидел у себя, услышал какой-то неестественный шепот за дверью. Потом стук в дверь и слова жуликоватого своего Ивана Ловлина, прозванного «Абдулла»:
– Господин подъесаул – позвольте зайти?
– Заходите, – глухо отвечаю.
Они вошли оба, в черкесках, при кинжалах, Ермолов при шашке и папахах. Взяв под козырек, Абдулла заявляет смущенно:
– Господин есаул – позвольте доложить? Мы с Федот Иванычем просим не называть нас на «Вы», потому что нам стыдно.
Встав со стула и смотря им в глаза, заявляю (нарочно), что этого я сделать не могу, так как произошла революция, теперь мы все равны и я даже за такое самовольство могу быть преследуем полковым комитетом.
– Никак нет – а мы не желаем! – одновременно произнесли они очень громко. – И нам стыдно от этого перед Вами, господин подъесаул, – как-то словно умоляюще произнесли они.
Я их понимал и не стал уж бередить их души. Поблагодарил, налил им по чайному стакану водки и они, «махнув» ее одним духом, пошли закусить к хозяюшке, старушке-мо-локанке. Я думаю, что такое движение души было очень у многих казаков, в особенности у урядников, но в революционной стихии, разнесшейся по всей стране, было уже непоправимо.
Через год, в гражданской войне, мы всех своих казаков и урядников называли на «ты», что являлось нормальным взаимоотношением.
Судьба моих вестовых. В гражданской войне денщик Иван Ловлин поступил в строй и был убит в степи уже при большевиках. Федота Ермолова, по новому закону при Керенском, 2-я сотня, которой я командовал, своим собранием представила в младшие урядники с оставлением на положении «конного вестового». В гражданской войне, находясь в рядах 2-го Кавказского полка, награжден был Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степеней, получил последовательно звания – старшего урядника, вахмистра, подхорунжего. Под Великокняжеской, в конной атаке, был тяжело ранен в ногу и получил чин хорунжего. Нога сохла, и он остался неизлечим. В строю отступал до самого Адлера, что на Черноморском побережье, и там остался в составе капитулировавшей Кубанской армии. Красными был сослан куда-то на север, и дальнейшая судьба его мне не известна.
Своим вестовым – Ивану Гавриловичу Ловлину и Федоту Ивановичу Ермолову и другим незаметным героям Кубани – я с братскою любовью посвятил эти свои строки.
Освобождение офицеров.
Войсковой старшина Калугин
Мы, старшие офицеры тогда, чувствовали себя глубоко оскорбленными арестом офицеров полка и председателю полкового комитета фельдшеру Куприну поставили ультимативный вопрос: «во что бы то ни стало – освободить их», что зависело исключительно от ходатайства полкового комитета.
Куприн очень разумный казак, высокий, стройный, крупный, представительный, очень авторитетный среди казаков как полковой фельдшер и как умный и серьезный человек, воспринявший революцию в силу случившегося, обещал все, что в его возможностях, сделать. Он объехал все сотни, и каково же было его удивление, что сотни, офицеры которых были арестованы, вынесли также ультимативное свое решение, от которого не хотели отойти:
1. 1 -я сотня требовала совершенного ухода из полка своего командира войскового старшины Алферова и своего младшего офицера подъесаула Леурды.
2. 2-я сотня удаляла от себя своего командира подъесаула Кулабухова, но не настаивала на удалении из полка.
3. 5-я сотня согласилась принять к себе обратно своего командира сотни есаула Авильцева, но требовала удаления из полка своих младших офицеров хорунжих Романова и Уварова.
4. Весь полк решил вернуть на прежнюю должность временно командира полка войскового старшину Калугина.
Со всеми этими постановлениями делегация от полка, во главе с Куприным, на полковом грузовичке выехала в Сарыкамыш. Делегация с освобожденными офицерами вернулась назад в тот же вечер.
На открытом грузовичке, забрызганном грязью, к штабу полка подъехала мрачная группа казаков. Среди них семеро небритых в течение двух недель, истомленных душевными муками, оскорбленных, униженных и придавленных революционными событиями людей...
Те семеро были наши родные офицеры полка, с которыми мы были так близки и которых так хорошо знали и любили. Среди них своею могучею фигурою с впалыми глазами, с исстрадавшимся лицом, еще более поседевший в свою бороду – могиканин полка, 50-летний войсковой старшина Калугин – командир полка. Жуткая картина. Все семеро в черкесках нараспашку, в погонах, но без оружия. Прибыли стоя, на грузовике, словно для казни, на эшафоте... «Арестанты»... арестанты самые настоящие и неподдельные... Это были долгие и боевые офицеры своих казаков, а теперь – горькая чаша пития революции...
На них страшно было смотреть. Прибежавшие полковые дамы бросились в слезы. А старшая из них, Феодосия Игнатьевна Калугина, исстрадавшаяся по мужу, в черной косынке простой казачки – она в мертвой хватке повисла на груди мужа.
Многие казаки полка стояли и мрачно, стыдливо молчали. Говорить, действительно, было не о чем! И несмотря на это – некоторые сотни твердо стояли на своем и не хотели принимать к себе некоторых офицеров, прибывших из-под ареста.
Телеграммой в Екатеринодар запросили свой Кубанский Войсковой штаб – что делать с офицерами, удаленными по настоянию казаков? И получили ответ: командировать в Персию, в Отдельный Кавалерийский корпус генерала Баратова.








