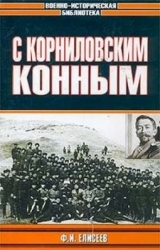
Текст книги "С Корниловским конным"
Автор книги: Федор Елисеев
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц)
Член Кубанского правительства Алексей Иванович Кулабухов
На утро следующего дня был первый товарно-пассажирский поезд на Ставрополь. И час-другой, на площадке вагона 3-го класса, по родной степи уже в весенней зелени – дали мне спокойствие и приятное ощущение полной свободы, что здесь за мной уж никто не следит. А степь!.. Она, родная, была все так же хороша, словно ничего не случилось – ни на Руси, ни в родном Кубанском Войске.
В Ставрополе, с вокзала, иду на Станичную улицу, по адресу А.И. Кулабухова. Это окраина города, бывшая станица хоперских казаков, переселенных вглубь Кавказа, к истокам Кубани. Всех улиц этого названия – четыре. Легко нашел дом. На мой звонок в парадной двери вышла очень приятная молодая женщина, одетая скромно, в полугородском костюме, но в ней легко было узнать нашу казачку.
– Здесь живет Алексей Иванович Кулабухов? – спросил я ее.
Женщина замялась, тогда я добавил: «Я прибыл из Но-во-Покровки, от Володи». И этих слов, действительно, оказалось достаточно. Ее лицо сразу же преобразилось в приятную улыбку, в ласковость и доверие, и она немедленно же впустила меня в гостиную.
– Я сейчас... – сказала она и скрылась.
Долго никто не показывался. Потом тихо, почти неслышно, отворилась дверь, и в гостиную вошел высокий сухой стройный брюнет лет 35. Бледное лицо имело правильные черты и грустные умные глаза. При его появлении я встал, повернувшись к нему.
– Я Алексей Иванович Кулабухов... с кем имею честь говорить? – тихо, грустно, но ласково произнес он и подал мне руку для пожатия.
Мой короткий рассказ о себе – какой станицы, в каком офицерском чине, что я сослуживец Володи в своем родном территориальном 1-м Кавказском полку, о нашем неудачном восстании, – полностью удовлетворил его. Он отлично все понял, как и надо было понять своему брату-казаку и почти соседу по станице. Выслушав все это, он тихо, устало опустился в кресло.
Окончив рассказ о своей «одиссее», я сразу же спросил об армии генерала Корнилова – где она и что с ней?
– Я здесь скрываюсь от красных. Я не выхожу из дома. За моим арестом последует немедленно расстрел. Я ведь член Кубанского краевого правительства. Я строго запретил жене говорить кому бы то ни было обо мне. Ваше счастье, что Вы назвали имя Володи, моего двоюродного брата. Жена не выдержала. Это слово ее подкупило. Вы так вежливо и доверчиво ей об этом сказали, что она... она и призналась обо мне. Я ее поругал за это и, вот, вышел к вам с полной доверчивостью, как к своему кубанскому казаку и офицеру, к тому же однополчанину и другу нашего Володи, которого мы все очень любим и ценим.
Проговорил он все это тихо и без остановки. И продолжил:
– Так вот – армия ушла в Донские степи на переформирование. Там и наш Кубанский войсковой атаман полковник Филимонов, все краевое правительство и Рада. Там и наши кубанские войсковые части. Армия небольшая, но хорошо дисциплинированная. Есть надежда и прочее, – подчеркнул он мне не торопясь – дельно, внятно, доверительно.
Говоря это, он ни разу не назвал имя генерала Корнилова – кем именно в моем понятии держалась армия, и чье имя звало к себе всех патриотов и чьим именем пугают красные своих, почему и спросил, – а генерал Корнилов?
Алексей Иванович на минутку остановился, посмотрел вниз на свои ботинки и потом тихо, как-то особенно грустно, произнес:
– Генерал Корнилов сейчас не руководит армией. Он тяжело ранен. Всем руководит генерал Алексеев.
Эта новость меня удивила и поразила. Я очень пожалел генерала Корнилова и понял, что бои были сильные, если ранен сам Командующий армией. На мои новые вопросы об армии он дополнил: «В армии только четыре орудия. Патронов мало. Приходилось сражаться в невыгодных условиях, почему и были большие потери».
– Как Вы попали сюда, Алексей Иванович? – сверлю я его вопросами, желая все знать об армии генерала Корнилова.
– Три сотни кубанских казаков были посланы в станицу Ново-Александровскую. Для успешной мобилизации казаков этой станицы был послан и я как член правительства. Наш налет был сделан ночью и удачно. Я расположился у своего друга, но красные в эту же ночь перешли в контрнаступление и выбили наш отряд. Я был отрезан от него и не мог соединиться. Скрывшись у друга, потом пробрался в Ставрополь. В городе быть более безопасно, чем в станице. Затем дал знать о себе жене, и она прибыла ко мне.
Весь его рассказ, такой спокойный и дельный, меня оздоровил. Я почувствовал, что не я один нахожусь в несчастье. Что армия генерала Корнилова жива, значит, надо терпеть, ждать и стремиться быть в ней.
Приютить он меня не мог, что было понятно и без слов. Просил меня быть осторожным и его имени не упоминать нигде и никому, что также было понятно. На меня А.И. Ку-лабухов произвел глубокое впечатление. Он был, безусловно, большой казак и российский патриот, глубоко переживавший смуту в Отечестве. Весь его внешний облик – высокого, стройного и красивого брюнета с правильными чертами лица, удрученного трагическими событиями, одетого во все черное (брюки навыпуск и черная куртка со стоячим воротником, застегнутая на все крючки), – был абсолютно лишен какого бы то ни было стремления к светской жизни для личного удовольствия. Во всем его существе были резко выражены глубокая грусть, траур на душе. На лице не было и признака следов радости или улыбки. И это лицо, казалось мне, не умеет улыбаться, думая лишь о том, – как бы сделать людям добро, не заботясь о себе.
«Черный Рыцарь», или «Монашествующий Рыцарь» –кстати было бы имя ему. Своими правильными чертами лица и высокой стройной фигурой – он похож был на благородного замкнутого черкеса. Я его видел тогда в первый и последний раз.
В конце лета того же года, по делам службы от Шкуро, проезжая станицу Новопокровскую, я остановился у подъесаула Володи Кулабухова. Он только что женился на Мариинской институтке, дочери генерала Абашкина*, будущего атамана Баталпашинского отдела. После всего пережитого теперь мы оба в черкесках и погонах с четырьмя звездочками подъесаулов, свободные на своей кубанской войсковой земле – встреча была исключительно душевная. Тогда я уже знал о гибели генерала Корнилова, почему и спросил своего друга, – отчего скрыл тогда Алексей Иванович от меня смерть Командующего Добровольческой армии? И вот что я услышал от него, – что именно просил он, член краевого правительства, священник А.И. Кулабухов передать мне, если его двоюродный брат, подъесаул В.Н. Кулабухов, встретит меня:
«Имя генерала Корнилова было так высоко в сердцах всех российских патриотов. Только этим именем держалась Добровольческая армия. Только это одно ИМЯ звало всех в ее ряды, куда шли, не рассуждая, слепо веря в этого героического человека и большого российского патриота. После его смерти в бою армия переживала почти полную гибель. Но мы верили, – надо было только передохнуть. Но сказать тогда, что генерал Корнилов УБИТ, означало – вырвать веру из сердец многих. Вот потому-то я и скрыл от подъесаула Елисеева смерть вождя в те жуткие дни», – закончил он.
Без упрека, с дружеской улыбкой, Володя добавил мне: «А вы моего трехлетка-рысака «загнали», проделав 80 верст без отдыха... да обратно столько же верст на второй день... Но, Федя, я рад, что помог тебе в грозный час».
Этими словами А.И. Кулабухов, как член Кубанского краевого правительства, выразил свои высокие благородные чувства отечественного патриота, а его двоюродный брат, подъесаул, подчеркнул делом – верность дружбы.
Обе семьи Кулабуховых были зажиточными казаками своей станицы. Отцы их принадлежали к тем казачьим семьям, которые нашли нужным дать образование своим детям. В те дни А.И. Кулабухов был в Екатеринодаре, в правительстве, а его жена, с двумя дочурками, воспитанницами Мариинского института в Екатеринодаре, жила в станице. Я считал своим долгом навестить ее и поблагодарить за прием в Ставрополе. Володя Кулабухов оповестил об этом многочисленных родственников обоих семейств Кулабуховых. Во всех них я увидел столько любви, нежности и уважения друг к другу, что просто было больше, чем приятно, находиться в их обществе. И эта любовь, как и внимание, переносились и на меня. Это были образцовые казачьи семьи в станице Новопокровской, которых все любили и уважали, как и гордились ими. И нужно познать их жуткое горе, когда в ноябре 1919 г. Алексей Иванович Кулабухов погиб мученической смертью, именно за Казачье Дело.
Офицерское восстание в Ставрополе.
Матросы. Красный террор
На Варваринской площади, в собственном домике, жили наши троюродные сестры. В 1913 г., молодым хорунжим, я гостил у них несколько дней. Это единственное семейство, к которому я мог обратиться за помощью. Приняли они по-родственному, но скоро мне пришлось бежать от них ночью, так как меня кто-то обнаружил и ломился в дверь для ареста.
Пришлось менять и еще два пристанища. Одиночество и неведение «завтрашнего дня» томили меня смертельно. Прошел слух, что с юга, с Кубани, на Ставрополь – идет с большим отрядом полковник, партизан Шкура (ударение на «а»). Красная печать подняла тревогу. Это совпало с доставкой в Ставрополь трупа красного командира-матроеа, погибшего в бою «с кадетами» на севере губернии. Население насторожилось, узнав, что где – т. е. «фронт», значит, где-то идет борьба, следовательно, – можно ждать освобождения города от красной власти. С появлением же недалеко от города отряда Шкуро – красная власть выпустила к населению воззвание такого содержания: «Товарищи-граждане! Не поддавайтесь на удочку! Если в город войдет ШкурА, – то он снимет с вас последнюю шкуру».
Население затаенно ждало именно отряд Шкуры, так как об армии генерала Корнилова и о его смерти абсолютно ничего не знало и не слышало. В таком неведении находился и я лично. Имя Шкуро зажгло луч надежды...
В одно раннее утро население услышало пальбу в городе. По улицам носились красные броневики и конные матросы. Под страхом расстрела «на месте» всем запрещено было выходить на улицы. После полудня – все затихло. А к вечеру население узнало, что ввиду подхода к городу отряда Шкуры было офицерское восстание, которое подавлено. Как и во многих восстаниях против красных – вначале был успех. Один отряд офицеров занял даже красноармейские казармы, но другой отряд куда-то своевременно не прибыл... кто-то струсил и не выполнил своей задачи и... все погибло. Офицеров ловили и расстреливали на месте. Красный террор разрастался. Отряд Шкуро, по слухам, прошел восточнее города, верстах в десяти, и скрылся где-то на севере губернии. И сколько было у него войск, – никто ничего толком не знал. Некоторые говорили, что «отряд Шкуры» – это миф, выдумка красных, чтобы возбудить в населении надежду, толкнуть офицеров на восстание, чтобы легально произвести расстрелы, узаконить террор.
И они добились своего: жизнь в городе замерла. Теперь в нем полностью властвовали матросы. В своих белых летних костюмах, с револьверами, заткнутыми спереди, открыто за пояс – они были страшны. На реквизированных казачьих строевых лошадях, на которых храбрые кубанские полки прошли почти всю гористую Турцию и Персию в войне 1914-1917 гг., которых поили в далеких и неведомых турецких реках Араксе, Евфрате, Кара-су, библейском Тигре, а в Персии и в далекой месопотамской Диале... На тех лошадях, на которых кубанские казаки верой и правдой служили своему великому Отечеству и на которых только что вернулись к себе на Кубань, на заслуженный отдых – на них теперь скачут матросы.
На пылких, нервных и благородных кабардинских скакунах эти здоровые матросы-увальни, на высоких казачьих седлах, словно гориллы на заборе – они жестоко, глупо и по-дурацки скакали по каменным мостовым города. Резко дергая поводьями, рвали губы этим гордым коням, терроризируя их своим полным и отвратительным непониманием того, что они хотят от этого благородного существа, коим считалась «кабардинская порода» лошадей.
Я возненавидел матросов. Ах, если бы была хоть одна сотня казаков первоочередного полка мирного времени с дисциплиной слепого повиновения своим офицерам, то с нею неожиданно наскочить бы на город... его ведь можно сразу же пройти и очистить ото всей этой «революционной пены», – думал я, глядя на этих матросов зло и ненавистно.
Уже настал июль. Красный террор как будто бы уменьшался, но просвета к освобождению не было видно. Главное – не было абсолютно никакой связи с окружающим миром. Красные газеты писали только о своих делах, о каких-то передрягах в какой-то Черноморско-Кубанской советской республике и Северо-Кавказском районе, о своих вождях Автономове*, Сорокине и Полуяне, об их разногласиях. Освобождение города от красных пришло неожиданно.
Появление белых
7 июля в Ставрополе с утра было заметно какое-то нервное движение в красных войсках. Из казарм выходили красноармейцы, спешно грузили на подводы вещи и двигались к югу. Обыватель, давно поставленный в полное неведение всех распоряжений красной власти, видел и здесь непонятное ему передвижение войск. Думали, что они идут на фронт. Но – на какой? Где этот фронт? Да и есть ли он вообще?
Никто этого не знал, и меньше всего знали, что фронт находился тогда лишь в одном переходе от города. Красноармейцы шли быстро, слегка озабоченно, но не в панике.
Думаю, что они также ничего не знали о событиях на фронте.
К вечеру того же дня 7 июля город будто бы очистился от красного гарнизона. На улицах были заметны усиленные отряды милиции из городских жителей. Некоторые из них как будто с офицерской выправкой. В городе стояла та тишина, которая бывает перед грозой или после нее. Часов в пять вечера, находясь около здания духовной семинарии, вдруг услышал, что – «в город вошли белые».
Сорвавшись с места, побежал на Воронцовский проспект. Там, у гостиницы, возле городского театра, стоял грузовик-автомобиль с пулеметами «для боя» и с номерами к ним в офицерских, настоящих офицерских погонах. Все угловые улицы были полностью забиты жителями города, но еще не ликующими. Народ, словно боялся верить тому, что видят их глаза. «Уж не трюк ли новый от красных?» – думали все. Но поведение офицеров при пулеметах уже не вызывало сомнений, что это «настоящие белые».
Из гостиницы вышел небольшого роста генерал, не старый собою, одетый по-походному. Тут же в толпе появились «летучки» (печатные воззвания) за подписью – «вр. губернатора Ставропольской губернии генерал Уваров». Появившийся генерал и был Уваровым. От чувства радости «освобождения» – толпа разразилась криками «ура». Я словно оцепенел. Я не знал, что же мне дальше делать. Думаю, этого не знала и вся толпа людей, находившаяся здесь. Они стояли и смотрели на прибывших белых офицеров, что-то говорили между собой, многие плакали.
Я почувствовал необходимое стремление «двигаться», что-то делать, помогать кому-то, но никак не стоять на месте. Мне захотелось говорить, выразить свою радость, захотелось «жить», но... никого знакомых вокруг меня не было в чужом городе. Я был один в многотысячной толпе.
Пробежав вниз по Николаевской улице, там я обнаружил все затопленное народом: тротуары, кофейни, всю улицу, по которой не только что трудно было проехать, но трудно было и пройти. Там, за плачущими лицами, я видел и восторженные. Видел лица с огнем злобы и мести. Народ очень шумно выражал свои чувства. Среди толпы поярля-лись редкие офицеры в погонах, только что вступившие в город. При появлении их – толпа бурно приветствовала военных. Офицеры же, молодецки козырнув, – ласково улыбались всем.
Совершилось что-то совсем непонятное, и совершилось так неожиданно и без борьбы, даже и без единого выстрела, и так быстро, что думалось: уж не сон ли это?
Я протиснулся в кофейню. Группа людей моего возраста стояла у столика и жадно глотала кофе. Их лица измучены. Костюмы потерты. По их разговору и их виду, я заключаю, что все они местные офицеры и только что вышедшие из своих убежищ, где они прятались после неудачного восстания. На худых и изможденных лицах мне так были понятны их ярко возбужденные глаза, горящие огнем негодования к насильникам и нескрываемою радостью совершившегося. Один из них, особенно изможденный, заказывает еще одну чашку кофе.
– На последние, – говорит он. – Теперь можно это позволить... времена переменились...
Ровно до полуночи толпился народ на улицах и не хотел расходиться. Но войск, белых войск, мы все еще не видели. И я уже боялся, как бы красные не сделали западню. Но радость настолько была велика, что страшно было думать, что красные могут вернуться.
Вход в город партизан Шкуро
С утра я уже был на Николаевской улице. В этот день жители не только что убедились в реальности занятия белыми войсками Ставрополя, но и наблюдали вход их в город. Я был счастлив вдвойне наблюдать это потому, что в город входили родные кубанские казаки, партизаны полковника Шкуро, которых мы так ждали три недели тому назад.
Входила целая дивизия хоперских и лабинских казаков. В колонне «по три» – тихо, немного устало, поднимались они по Николаевской улице вверх от вокзала. Кто же они были, эти казаки, восставшие «против трудового народа»?
В потрепанных черкесках и гимнастерках, в одних бешметах, на некоторых темно-бурые войлочные осетинские шляпы. На папахах у всех были белого цвета полоски, сверху вниз, чуть наискосок, как отличительный знак того, что они принадлежат к войскам «Белого Стана».
Казаки были разных возрастов. Подростков среди них было очень мало, но зато много казаков было пожилого возраста. Все были самые настоящие казаки-землеробы – обветренные, загорелые в походе и в тоске по своим станицам и семьям, оставленным в руках красных. У всех были усталые, исхудалые лошади. И трудно было отличить, где господа офицеры, урядники и рядовые казаки. Это был воистину «восставший Стан Казачий, где всяк всякому был брат». Все были без погон.
Вооружены были, чем и как попало. У многих карабины и обрезы. Они их держали (носили) погонным ремнем на передней луке, дулом вниз и под левое колено. Это чисто «по-горски». Некоторые держали их погонным ремнем на правом плече, даже под рукой, чтобы при встрече с врагом сразу же схватить его на карьере свободной правой рукой, не выпуская повода из левой, и дать своевременный выстрел по противнику. Некоторые были вооружены берданками и даже охотничьими ружьями. У многих были строевые переметные и ковровые сумы. У некоторых были бурки в тороках.
Казаки этих двух полковых округов – Хоперского и Ла-бинского, раскинутые своими станицами между черкесскими аулами, невольно переняли некоторые навыки своих кунаков. Своим видом, легкой посадкой в седле, станичным костюмом без соблюдения каких-либо форм и цветов – они представляли собой подлинное «иррегулярное войско», поднявшее знамя восстания всем миром против красной власти. За сотнями следовал обоз – две-три полупустые мажары с хлебом, зерном и больными казаками. Кучерами были седые бородатые отцы. К «дробинам» мажар привязаны оседланные кони больных казаков. «Тыла» у них не было!
За одной мажарой шел верхом очень молоденький офицер, красивый собой. Он был также в потрепанной, но хорошей «дачки» черкеске, с шашкой «с клинами», богато отделанной серебром. Под ним был подморенный, но дивный конь светло-золотистой масти. Из-под черкески было видно дорогое седло. Офицер был очень бледен и, явно, болен. Ему словно было совестно, что он не в строю, как и знал, что на него смотрит многочисленная толпа, почему он скромно сидел в седле и смотрел только вперед, на голову своего коня.
С последними рядами казаков я двинулся вверх, на базарную площадь. Там были выстроены все полки. Толпа людей окружила строй казаков и угощала их всем, чем могла. На удивление – казаки были очень скромны и малоразговорчивы. С удовольствием принимали только папиросы. Перед их строем стояли командиры, которые своим «замызганным» в походе видом и одеждой совершенно не отличались от массы своих подчиненных.
Перед спешенными казаками дает какое-то распоряжение особенно характерный по своему внешнему виду начальник: на нем длинная серая черкеска, полы у которой, словно оборваны собакой; карабин, надетый погонным ремнем на правое плечо и ложей под мышкой, дулом вниз; на ногах черные суконные ноговицы, блестящие своей потертостью временем и путлищами для стремян, и чевяки-постолы без подошв сырой невыделанной кожи, сшитых примитивно фаданом (ушивальником) «через край», с одной лишь целью – чтобы охватить ступню; на голове у него ширококрылая темно-бурая войлочная карачаевская шляпа табунщика. «Абрек... настоящий абрек», – думаю я, смотря на эту оригинальную, импозантную и очень стройную фигуру молодецкого партизана.
– Кто это? – спрашиваю ближайшего в строю казака.
– Да, сотник Брянцев... наш командир полка, – запросто отвечает он.
В стане белых войск.
Мое представление полковнику Шкуро
В этот же день был приказ по гарнизону: всем господам офицерам зарегистрироваться завтра же. Нас явилась не одна сотня. Все откликнулись с порывом. Закончив, иду в казачий штаб, к своим. Он помещался в том же отеле, только на втором этаже.
– Фед-дя! – слышу радостное восклицание, поднявшись в коридор, и мигом попадаю в объятия однокурсника по военному училищу есаула Саши Мельникова.
– А мы получили сведения, что ты расстрелян после восстания, – пылю) говорит он и тут же тянет за рукав, чтобы немедленно же представить меня атаману Шкуро.
По совпадению, Шкуро выходил из своего номера. Мельников отчетливо аттестует меня со всех положительных сторон. Шкуро приятно улыбается, без всякого начальнического «фасона» подает мне руку и быстро, весело говорит:
– Ну, конечно, Вы к нам, к нам...
Я так же радостно улыбаюсь, даю немедленно же свое согласие поступить в строевые ряды войск атамана Шкуро, и он куда-то спешно уходит.
В 1910 г. Шкура был хорунжим 1-го Екатеринодарского кошевого атамана Чепеги полка, а я – вольноопределяющимся того же полка. Мы были в разных сотнях. Его я видел несколько раз, и меня он мог и не знать. Офицеры и казаки полка называли его «хорунжий Андрей Шкура», с ударением на «а». Он тогда был немного оригинальный в своей жизни, его любили за молодецкие веселья, в которых он никогда не забывал своих братьев казаков. Я не видел его ровно 8 лет, но сразу же узнал, так мало он изменился.
Шкуро куда-то уехал, и мы остались вдвоем с есаулом Мельниковым. Сашу я не видел 4 года. Он сын директора гимназии, который недавно был расстрелян красными. Мельников – коренной хоперец, песенник, музыкант, широкий по натуре. Гибель отца очень озлобила его против красных. У Шкуро он самый близкий и доверенный офицер, которого тот брал с собой в Тихорецкую, с докладом к Кубанскому краевому правительству. И Саша говорит мне:
– Мы Андрея Григорьевича называем атаманом, потому что у нас казаки хоперцы, лабинцы и две сотни терских казаков. Он как бы Кубанско-Терский атаман.
На мое удивление «такому званию» – мой друг с улыбкой ответил:
– Это Андрею Григорьевичу очень нравится, – и продолжил, что ему Шкуро предложил сформировать «партизанский отряд». – Прошу тебя, Федя, на должность командира сотни, – закончил он. Я дал согласие.
В тот же день в Ставрополь вошел 1-й Черноморский полк под командованием полковника Малышенко и поступил в подчинение Ставропольского губернатора для наведения внутреннего порядка. Началось спешное формирование частей. Из ближайших станиц немедленно же стали прибывать казаки. На базарной площади масса казачьих подвод, конных и пеших казаков: формировался 1-й Кубанский полк. В новом командире, войсковом старшине Фос-тикове*, я узнал адъютанта 1-го Лабинского полка по Турецкому фронту 1914-1915 гг., когда он был в чине сотника.
Фостиков в короткой бурке поверх гимнастерки, на которой красуется орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Узнав меня, он козыряет дружески и, по обер-офицерски, дружески жмет мою руку, приглашая в свой полк на должность командира сотни. Я благодарю его, улыбаюсь и отвечаю, что уже состою в отряде Шкуро.
– Очень жаль, – бросает он. – Так мало теперь кадровых офицеров, – добавляет.
Разговорились о многом, как старые соратники.. Оказалось, что он так же, как и я, скрывался в Ставрополе.
Я в полуштатском костюме. За три месяца после нашего восстания, скрываясь от красных, я переменил много мест и квартир. Все мое имущество было на мне. О расстреле отца я узнал только спустя два месяца, как и наша семья узнала, что я жив, также после двух месяцев моего отсутствия в родной станице. Горе в семье (до этого) было неописуемое. Я хотел повидать могилу отца, поклониться ей, как и должен был повидать и успокоить пять несчастных женщин – 70-летнюю старушку-бабушку, 50-летнюю мать, теперь вдову, и трех сестренок-гимназисток, старшей из которых, Надюше, было 15 лет. К тому же, мне нужно было одеться в военную форму, привести себя в военно-походный вид. Шкуро меня понял и дал три дня отпуска. Я выехал в свою станицу.
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ В своей станице
Дома одна бабушка. Ей 70 лет. Жуткая доля «удови-цы»... Ее муж, наш дед, после победоносной русско-турецкой войны 1877-1878 гг., с 1-м Кавказским полком был размещен в Абхазии. 16 лет царской действительной службы – и никакого отпуска «на родину». С подругами, верхом на лошадях в седлах, «через Пашинку и Кавказские горы», как рассказывала бабушка нам, маленьким своим внукам, – они ездили в Абхазию повидаться с мужьями. Ездили два раза. «Пашинка», так называлась и при нас станица Баталпашинская. И когда дед вернулся домой 35-летним казаком «на льготу», – в тот же год он был убит разбойниками в степи.
Нашему отцу было тогда 16 лет. Он был единственный у родителей. В то время пожаром было уничтожено полстаницы. В огне погибло и все наше хозяйство. После этого и началась жизнь «молодой удовицы», нашей бабушки, полная горя, труда и слез. Натерпевшись жизненных невзгод, она настояла «учить детей», т. е. своих внуков. За них-то, «ученых», и был расстрелян наш 50-летний отец три месяца тому назад, так же в степи, но новыми разбойниками, большевиками. Теперь в доме нет никого из мужчин-работ-ников по казачьему хозяйству:
Старший мой брат, хорунжий – начальник местного гарнизона по постановлению станичного сбора. Младший брат Жорж, также хорунжий – по занятии станицы частями Добровольческой армии, как и все станичные офицеры, был мобилизован и зачислен в Алексеевский пехотный полк рядовым бойцом. Полк вел упорные бои на подступах к станице Тифлисской. Большевики занимали весь левый берег Кубани и своим артиллерийским огнем разрушали станицу, унося казачьи жизни, не считаясь ни с полом, ни с возрастом.
Мать, теперь тоже «удовица», в степи убирает хлеб. Отец засеял 28 десятин (три с половиной пая казачьего надела), и их надо убрать. Какая-то добрая душа косилкой, бесплатно, скосила «загон» пшеницы, и теперь она, с тремя дочур-ками-подростками, вяжет пшеницу « снопы.
Вот почему, увидев меня, так неожиданно прибывшего после трехмесячного отсутствия, да еще в неведомом для казачьего глаза странном костюме, – бабушка горько-горько, без слез, заплакала. Слез у нее давно нет. За 35 лет своего вдовства, она, маленькая ростом, иссохла в труде и заботах о семье и по хозяйству и – выплакала полностью все свои слезоньки.
Послеобеденное время. Со старшим братом, «охлюпью» на строевых конях, в простых станичных рубахах, выехали в степь на свой участок. Мать, увидев нас издали, остановилась, оперлась на грабли и... заголосила – тяжко, гулко, с завыванием волчицы-матери, потерявшей своих детенышей. Было так тяжко и страшно от этого, неслыханного мной еще никогда, какого-то грудного и надорванного голоса-плача матери. Она вся тряслась от плача и будто бы не заметила, когда мы подъехали к ней.
Соскочив быстро с коня и держа его в поводу, я молча обнял ее, нашу дорогую и добрую мать... а она, бедняжка, крупная женщина, всегда такая добрая ко всем людям, она, не говоря ни слова, всем своим телом повисла у меня на груди и горючими слезами залила всю мою рубаху, нежно приговаривая: «Сыночек мой... сыночек Федюш-ка...» На моей сыновней груди она выплакивала и своего погибшего мужа, и радость встречи с сыном. Я всегда знал, что в горе надо выплакаться. Всплакнул и я. Брат стоял рядом, и лицо его передернулось прыгающими гримасами.
Мать выплакалась и утихла. Вытерла концом платка слезы и, подняв голову, глубоко-глубоко посмотрела мне в глаза, видимо, чтобы рассмотреть хорошенько. Потом взяла обеими руками мою голову и стала целовать все лицо горячо, пылко, со страстью материнской любви. И потом уже тихо, спокойно спросила: «Ну, как ты, мой сыночек, там жил?..»
Бедные матери!.. Надо только понять все их горе!
Вновь в Ставрополе
В первые дни занятия Ставрополя боев за городом совершенно не было. Красные отошли на юг, к селу Татарка, бывшей станице Ставропольского казачьего полка времен Кавказской войны, и словно канули в неизвестность.
Город преобразился, стал ежедневно праздничным и жил буквально «на улице». С утра и до поздней ночи люди толпились у гостиницы, где помещался штаб губернатора, и у штаба Шкуро, на верхнем базаре. Там, на площади, формировались новые части. Много было добровольцев из учащейся молодежи. Она, оскорбленная в своих чувствах перед Родиной, горела стремлением к мести.
К штабу Шкуро прибыли добровольцы-крестьяне Московского и Донского сел, что под самым Ставрополем. Все они были солдаты действительной службы Великой войны 1914-1917 годов на Кавказском фронте. Одеты они были в защитные гимнастерки и штаны. На головах фуражки. Все были без погон, но на фуражках красовались белые ленточки. Их было человек 250. Эту роту молодцов выстроил местный поручик, видимо, их же полка. Сам он в полуштат-ском костюме, в белой летней городской рубахе, на которой были навесные погоны. Отойдя далеко от фронта на его средину, он сам встал в положение «смирно» и, после некоторой паузы, громко, отчетливо скомандовал, словно рисуясь перед толпой:
– Рот-та!.. Равняйсь!.. Смир-р-но! Ружья на-а пле-чо!
И эти солдаты, может быть, некоторые из них даже мелкие вчерашние большевики, но – получившие воспитание в императорской армии – они, словно соскучившись «по порядку», так молодецки проделали ружейные приемы, что называется «с хрястом», что многосотенная толпа людей, преимущественно женщин, дружно зааплодировала им.
Вот тут-то нужно было учесть настроение солдатской массы, психологию души русского мужика-земледельца. Они так горели желанием загнать большевиков в самые «тартарары», что любо было на них смотреть. Но через несколько дней пыл их остыл из-за придирчивой дисциплины, приказания надеть погоны и влиться в «какой-то офицерский полк». И они разошлись по своим домам...








