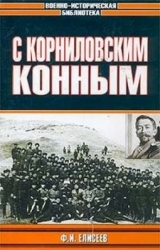
Текст книги "С Корниловским конным"
Автор книги: Федор Елисеев
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц)
Есаул Конвоя Савицкий
До Москвы – никаких приятных ощущений. Вагоны переполнены. За стеклами вагона сплошной снег, холод, «серая» Русь... и отличные удобства почувствовал только от Москвы – по Николаевской железной дороге. Сразу бросилось в глаза, что это «столичная дорога». Но здесь был уже настоящий север – злой и холодный. Теплых вещей у меня – никаких. Единственная шерстяная дачковая черная черкеска да белый дачковый шерстяной башлык. Слово «черкес» очень часто стало слышаться мне вслед. Да... здесь кавказский казак есть лицо мало ведомое. «Черкес»? Ну и пусть я буду черкес. Не объясняться же мне с каждым!
Пыхтя и выпуская клубы пара, поезд вошел в громадный Николаевский вокзал. Выйдя из вагона, я почувствовал свое полное одиночество и какую-то беспомощность в большой толпе людей. Где же мне остановиться? В Петрограде ни одной души знакомых. Хотя я в нем второй раз в своей жизни. Первый раз был юнкером, прибыв из Оренбурга на Рождественские Святки 1911-1912 гг. Но тогда я официально остановился в сотне юнкеров Николаевского кавалерийского училища, а теперь...
Беру извозчика и говорю ему везти меня в ближайшую гостиницу на Невском проспекте. Все гостиницы переполнены. Едва нашел комнату на 9-м этаже. Но когда я вошел в нее, то испугался: это была маленькая клетушка, узкая кровать, столик и один стул. Но, чтобы пройти к столику, – был аршинный проход между кроватью и стеною. Цена же его – 9 рублей. Спрашиваю «лучший номер» – служащий вежливо отвечает: «Радуйтесь, господин офицер, что и такой Вы достали. В столице все переполнено».
Деваться некуда. И расположился я в нем с ручным чемоданом, в котором находились все принадлежности моей парадной формы одежды: красный длинный бешмет, расшитый серебряным галуном; черная каракулевая папаха с красным верхом и галунами; эполеты, все боевые ордена; тесьмы, чевяки и ноговицы ручной работы – подарок черкешенок Хакуриновского аула в 1914 г., так изящно и скромно украшенные тонкими полосками шитья золотом; белье, фотографии и другие мелочи. Приехал ведь служить при самом Русском Императоре, поэтому взято все самое лучшее из формы одежды...
Выпив кофе, еду на санках по адресу на Шпалерной улице. Большой многоэтажный дом. По лестнице с красными толстыми коврами поднимаюсь на указанный этаж. Везде блеск и красота. Проходя этажи, читаю фамилии офицеров Конвоя Его Величества, квартирующих в этом большом доме. Чины и фамилии выгравированы на медных табличках дверей. Хорошо запомнилась фамилия хорунжего Федюш-кина, явно офицера Терского Войска. И сравнил я нашу офицерскую жизнь на войне в Турции, в каменных норах курдов, полных блох...
Достиг двери с табличкой «Есаул Савицкий». Позвонил. Дверь открыла высокая стройная блондинка. Я назвал себя, сказав причину, по какому случаю я прибыл из-под Карса и почему хочу видеть есаула Савицкого. Блондинка, не закрывая двери, ответила: «Я сейчас скажу мужу».
Супруга Савицкого не подала мне руки и не выразила никакого удовольствия встретить на столь далеком севере своего земляка, кубанского офицера. Это мне не понравилось. Скоро вышел ко мне высокий, крупный, с черной бородой мужчина, с лицом, будто после остатков болезни «оспы», с прической «ежиком». Широкий китель, темно-синие бриджи с двойным галунным конвойным лампасом облегали его большую фигуру.
– Я есаул Савицкий... чем могу служить? – были его первые слова.
Доложив о себе, о его телеграмме к брату для моего вызова в Петроград, я услышал от него следующие слова:
– Его Величество вчера выехал в Ставку. Командир Конвоя также. В столице неспокойно. Начались революционные вспышки. Государственная Дума закрыта. И... уже поздно. Вам придется вернуться в полк.
Я был огорошен. И почувствовал, что аудиенция окончена. Докладываю о письме генерала Мистулова на имя помощника командира Конвоя полковника Киреева. Савицкий вернулся к себе и позвонил по телефону Кирееву по сути моего прибытия, оставив меня в коридоре. Вернувшись, он передал ответ полковника Киреева: «уже поздно...»
Передав письмо для Киреева, поклонился и вышел, т. е. начал спускаться вниз по нарядной лестнице с красными толстыми коврами, окаймленными начищенными медными пластинками-нажимами, мимо дверей на каждом этаже, где квартировали офицеры Конвоя Его Величества Кубанского и Терского казачьих войск.
Что меня удивило, так это то, что есаул Савицкий, природный кубанский казак, лет сорока от роду, сын генерала – он не только что не поинтересовался Турецким фронтом, откуда я прибыл, настроением войск, но он не поздоровался со мною за руку и не пригласил зайти в квартиру, хотя бы в его кабинет. Все объяснение было стоя, в коридоре. Словно я явился ему из соседней комнаты «на пять минут», а не из-под Карса, откуда шесть дней пути скорым поездом по железной дороге.
Офицеры армии всегда были недовольны офицерами гвардии за их привилегированное положение, за быстрое продвижение в чинах и как бы за снисходительный взгляд, свысока, на армейских офицеров. Это было недопустимо. Все кадровые офицеры получали одно и то же военное образование, все оканчивали одни и те же военные училища, все они служили одному Императору и Отечеству. Почему же такая несправедливость в продвижении в чинах и по службе? Этот вопрос поднимался в военной печати и готов был к разрешению, но революция задержала его осуществление.
В гвардии не было чина подполковника и из капитанов, ротмистров и есаулов – давался сразу же чин полковника. Между прочим, есаул Савицкий предупредил меня, что при зачислении в Конвой, по положению в гвардии, «Вы, подъесаул, будете числиться младше всех хорунжих, уже состоящих в Конвое Его Величества».
Петроград, февраль 1917-го. «Солдатик»
Выйдя от Савицкого, я почувствовал себя так одиноко в столице, словно попал в пустыню. Ведь здесь нет у меня ни одного знакомого человека! Не возвращаться же мне немедленно в полк в Закавказье?
Иду по Шпалерной улице, в сторону Литейного проспекта. На тротуаре, у небольшого магазинчика кавказского серебряного оружия, стоит очень высокий, крупный телом горец, в длинной шубе-черкеске, при дорогом кинжале в позолоте. Он остро рассматривает меня, что я невольно остановился и спросил – кто он? И узнал, что он бывший старый урядник или вахмистр Конвоя Императора Александра Второго. Это его магазин кавказского серебряного оружия «для казаков-конвойцев». Его фамилия Бичерахов.
Он осетин-казак Терского Войска. У него есть сын-офицер, Лазарь Бичерахов*, сейчас начальник Партизанского отряда в Персии, в корпусе генерала Баратова*. Мне так приятно было слушать этого богатыря казака-осетина, совершенно бодрого старика и так стильно и богато одетого по-кавказски в столице Российского государства.
Против нас, у ворот между высокими домами, стоял дневальный казак-конвоец в синей черкеске, расшитой галунами, и в красном бешмете. Здесь стояла 5-я сотня Конвоя, сформированная во время войны из георгиевских кавалеров разных полков, коей командовал есаул Савицкий.
Распрощавшись с отцом Лазаря Бичерахова, направляюсь к Литейному проспекту и... встречаю голову большой толпы манифестантов-рабочих, идущих с Выборгской стороны. Это было 24 февраля. По тротуарам Литейного – гуляющая нарядная питерская публика. Много офицеров. Среди манифестантов много женщин. Детей не видно. Мужчины – все рабочие. Идут они нестройно, тихо, толпою. Слышится порою начало революционных песен, которые тут же и прекращаются. Иногда кто-то выбрасывает вверх из толпы небольшие красные флажки.
Рядом со мною плетется сгорбленная крестьянка-старушка. Я ласково обращаюсь к ней со словами:
– Бабушка! Что это?
– Как што это? Не видишь, што-ли? Голодный народ вышел... ты-то вон как разодетый... ишь какой барин! – злобно произнесла она, перекривившись брезгливо лицом и своим тщедушным телом, и сошла с тротуара.
Я удивился этому ответу, но еще более удивился такой нескрываемой злости и ненависти этой старухи к офицерскому мундиру, и мое настроение сразу же понизилось. Я никогда не слышал от своих женщин-казачек не только чего подобного, но наоборот – я слышал и видел от них бесконечную любовь к офицеру, как к существу высшему и глубоко почитаемому.
– Казаки! Казаки! – вдруг пронеслось в толпе несколько голосов, и она, толпа, сразу же остановилась и как бы присела, прячась от ударов. Из-за угла показался взвод донских казаков. Одеты они были «налегке», в темно-синие свои длинные суконные чекмени, в маленьких барашковых черных шапчонках, суживающихся кверху, при шашках и винтовках, но без пик. Все казаки молоды, не старше 25 лет от роду, на отличных лошадях. Впереди подхорунжий с подстриженной бородкой, видимо, сверхсрочной службы, с двумя или тремя георгиевскими крестами на груди. Они шли шагом и в колонне «по три». Услышав крики «Казаки! Казаки!», командир этого взвода донских казаков, идя впереди своих подчиненных с подбоченившеюся правою рукою, – поднял ее вверх и громко произнес:
– Ничиво! Не бойтесь! – я очень ясно слышал эти слова.
Толпа же немедленно закричала:
– Ур-ра-а... казаки! – и двинулась дальше вперед, расступившись и дав им дорогу.
Интересовал меня Конюшенный музей, куда я и направился. Я долго оставался в нем и осмотрел все, что было возможно по времени. Много коронационных царских колесниц всех эпох, покрытых позолотой вплоть до колес. Вот сани с железными полозьями, сделанные лично царем Петром Первым. Особенное внимание обратил на три казачьих седла, «подарок своему Августейшему Атаману всех Казачьих Войск, Наследнику-Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу от Донского, Кубанского и Терского казачьих Войск», изготовленных в Войсковых военно-ремесленных школах.
Седла с полным прибором. И напрасно я искал по войсковой гордости преимущественной красоты в подарке от своего Кубанского Войска. Все три седла были, конечно, первоклассной работы казачьих мастеров, но седло от Терского Войска выделялось каким-то своим исключительным изяществом и тонкостью чисто горской, кавказской работы. Тут же, у седел, на специальных топчанах лежали и «приборы» к ним, т. е. уздечки, пахвы, нагрудники.
От Донского Войска – все черного ремня с массивным серебряным набором. Все богатое, но мало изящное. От
Кубанского Войска три прибора черного, белого и кирпично-красного (войскового цвета) ремня. От Терского Войска также три прибора – черного, белого и голубого цвета уздечки, пахвы и нагрудники к седлу. У кубанского и терского седел луки ленчика (арчака) отделаны белым, а у терского – оленьим рогом.
Я долго стоял над седлом от Терского Войска и с восхищением любовался им – такой изящной ручной работой казаков. Это было поистине «черкасское седло», как поется в некоторых казачьих песнях.
Без всяких приключений мы спокойно доехали до Рос-това-на-Дону. Но революция – незаметно для нас – шла вслед за нами. О ней уже знала «чернь», только ничего не знали и не видели мы, офицеры. В Ростов прибыли часов в восемь вечера. В нашем купе 2-го класса за дверьми, на продольной верхней полке для багажа, почему-то лежал солдат в шинели. Когда он вошел и занял это неположенное для солдат место, мы не видели. Оно было за нашими дверьми.
С корнетом мы решили пройтись на вокзал и выпить кофе. «Солдатик... посмотри мои вещи», – сказал я ему ласково, как своему младшему брату-воину, и указал рукою на мой чемодан и на пальто. «Слушаюсь, Ваше благородие», – как-то подобострастно ответил он. При этом его глаза, как мне показалось, блеснули какой-то радостью, хотя до этого он притворялся спящим.
Через десять минут мы возвратились, но в купе нет ни «солдатика», ни моего чемодана. На скамье оставалось только небрежно брошенное мое офицерское пальто мирного времени, сшитое в Оренбурге перед производством в офицеры и которое я впервые одел в Петроград. Беспокойно оглядывая купе, я убедился, что чемодан похищен именно этим солдатиком. Словно рвотной нечистью обдал все мое существо такой поступок солдата-воина. Искать его и вещи было бесполезно в толчее ростовского вокзала. Да его там уже и не могло быть... Я был так огорчен в лучших своих офицерских чувствах к солдату-воину. Стоимость пропавших вещей не жаль, но жаль, как дорогую память, полную парадную форму кубанского офицера, все боевые ордена до Святой Анны 2-й степени включительно, редкие фотографии: юнкерские, офицерские в Турции, в городе Ване. Все взял с собой самое ценное и дорогое для моей души. Но главное – многие из этих вещей никому не нужны как ценность, разве только золотые ордена, не теряющие своей стоимости. Хорошо, что Святой Владимир был со мной, на черкеске.
Огорчаться стоило: украл солдат, предусмотренно залезший в офицерский вагон 2-го класса, в котором он быть не имел права, и на которого я, по всегдашней своей доброте к нижнему чину, вместо того чтобы «вышибить» его отсюда – по-братски понадеялся на совершенно неведомого солдата.
С таким настроением я вернулся в свою станицу. Здесь было все спокойно, и о «бунтах в Петрограде» никто ничего не знал и не слышал. Казачья станица жила своею патриархальною жизнью, богатая и довольная существующим порядком. Через два дня я выехал в полк. Революция гналась за мною по пятам и «настигла» в Карсе.
По пути в полк. Станция Акстафа
С каким-то грустным чувством выехал я из своей Кавказской станицы в Карс, зная, что после отъезда полковника Мистулова в полку будут большие перемены психологического свойства. На железной дороге был полный порядок, и наш скорый поезд шел точно по расписанию.
За Елисаветполем, на станции Акстафа, снова неожиданно 2-й Екатеринодарский полк представился мне офи-церами-сверстниками по Оренбургскому казачьему училищу, подъесаулами Соколовым, Васюковым* и Рядниной. От них узнаю, что их 4-я Кубанская казачья дивизия перебрасывается в Персию, в состав Кавказского кавалерийского корпуса генерала Баратова. Они просят меня задержаться на сутки с ними, так как полки дивизии выгружаются из поездов здесь и потом последуют походным порядком через Эривань, на Джульфу. Джульфа – пограничный пункт между Россией и Персией на реке Арак-се. Я согласился задержаться здесь до следующего утреннего поезда, идущего на Тифлис.
Вечером идем в гарнизонное офицерское собрание. За одним из столов старшие офицеры-екатеринодарцы «режутся» в карты, в азартную игру «железку», по-французски – шмэн дэ фэр, что значит – железная дорога. Среди них вижу войсковых старшин Давыдова* и Журавель*, которых хорошо знал по 1-му Екатеринодарскому Кошевого Атамана Чепеги полку в 1910 г. Тогда Давыдов был подъесаулом и образцовым начальником полковой учебной команды, а Журавель был только хорунжим и прославленным скакуном на офицерских скачках. На груди у него офицерский Георгий 4-й степени.
После семи лет разлуки мне эта встреча была особенно приятна. В этот вечер мы впервые узнали, что в Петрограде произошла революция, Император отрекся от престола, и государственная власть перешла в руки какого-то Временного правительства. Для меня лично это было такой сильной неожиданностью, что, совершенно не думая, вырвалась фраза, и довольно громко: «Казакам после этого будет плохо...»
И каково же было мое удивление, когда войсковой старшина Давыдов, крупный, бородатый, с резкими пронизывающими Вас серыми строгими глазами, мой былой кумир по полку в 1910 г., – строго посмотрел на меня и произнес: «Как раз будет наоборот... от этого всем станет жить гораздо легче».
Никто из присутствовавших офицеров на это ничего не ответил, но меня этот ответ штаб-офицера удивил и огорчил. Мне стало очень грустно, офицеры же продолжали играть в карты, словно ничего и не случилось в нашем Отечестве. Перед офицерами были кучи бумажных денег. Играли все азартно, особенно смело Давыдов и Журавель.
У нас в полку играли только в преферанс. Мы, молодежь, научились этой игре лишь в Турции, жалованье было большое, играли мы все не особенно хорошо, а от этого и азартно. Но проиграть 10,15, 20 рублей «в одну пульку» – считалось «азартным проигрышем». И никаких других карточных игр в полку не существовало. Здесь же офицеры «швырялись» сотнями рублей. Невольно подумал я, что офицеры-екатеринодарцы богатые люди и не живут на одно жалованье.
Все это вместе взятое – мне не понравилось, но, связанный долгою дружбою с подъесаулом Рядниной, я не устоял против его просьбы и, прокрутившись в собрании ровно до утра, почувствовал никчемность своего посещения.
Наконец настало утро. Мы вышли в коридор. У вешалки, вместо моих новых мелких галош для азиатских чевяк на мягких подошевках, подшитых «фаданом», стояли пара галош полуглубоких, старых, изношенных и очень грязных. На дворе грязь, в мягких чевяках не пройти. Ко всему виденному и слышанному в собрании – и это довольно мелкое явление – еще больше усугубило мое и без того скверное настроение. «Ну, кто мог так умышленно обменять галоши? – думаю я. – Кроме господ офицеров никого ведь в собрании не было!»
Благородный Алеша Ряднина, честный и верный друг, неловко сконфужен.
«Ничего, дорогой... одевай пока эти до первого магазина», – смеется он, успокаивая меня. И я одел эти старые, чужие, грязные, большие галоши, словно солдатские «кегли» для часовых, как неприятную необходимость, чтобы дойти до вокзала. Тогда я не мог и подумать, чтобы столь незначительный случай в первый же день революции стал как бы символом всего того «грязного и чужого» для Казачества, что принесла ему русская революция 1917 г.
Тифлис. Революция в Карсе
В Тифлисском Михайловском пехотном военном училище – наш третий младший брат Георгий*, юнкером старшего курса. Он из вольноопределяющихся 1-го Кавказского полка и участник Эрзинджанской операции в июле 1916 г. Моими заботами он готовился и выдержал вступительный конкурсный экзамен в это прекрасное военное училище, почему посетить его мне надо.
Жоржа не узнать: ко мне в приемную вышел высокий статный богатырский блондин с правильными чертами лица, с красивыми смеющимися глазами и с полным пониманием и сознанием воинского юнкерского щегольства. Мы оба были очень рады встрече. Обнялись. Сели. Передал новости семьи. В доме, в нашем многолюдном и дружном семействе было все благополучно.
Сидя с ним в юнкерской приемной, я думал: кто же теперь будет производить их в офицеры? Императора ведь нет! Кто же другой имеет ту высшую государственную власть, которая так резко перерождает человека – из обыкновенных смертных в роль благородной офицерской касты? Так мы были воспитаны и только так понимали свое высокое офицерское положение в своем Отечестве.
Его выпуск произведен был в офицеры приказом военного министра. Через три года с месяцами наш младший брат Жорж, в чине есаула Корниловского конного полка Кубанского Войска, жуткою смертью погибнет в Таврии в июле 1920 г., на пятом своем ранении в гражданской войне, на 24-м году от рождения... Зачем же было родиться, жить и учиться?!
В Тифлисе я задержался два дня. Остановился в гостинице «Ной», на Михайловском проспекте, недалеко от военного училища. На этом проспекте мне пришлось увидеть странную картинку: Михайловское военное
училище, всем своим строевым составом, шло куда-то на парад. Роты шли отлично, с винтовками «на плечо» и с примкнутыми штыками. Шли весело, ровно, четко, как гвардия. В строю ничего не было революционного. Все было ЦАРСКОЕ. И вдруг я слышу от них революционную и боевую песню, но так мощно, стройно и красиво исполняемую «в ногу» и абсолютно всем своим составом – «Смело товарищи в ногу...»
Если вначале я, любуясь четким строем юнкеров, как-то не обратил внимания – что они поют? – то следующие слова песни оскорбляли уже их юнкерский мундир:
Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода – вот наш девиз боевой!
Пели сильно, дружно, даже красиво и как бы вызывающе – но было обидно смотреть на молодецкий строй юнкеров и от них, от юнкеров, будущих офицеров – слышать этот социал-революционный боевой марш. К тому же я удивился – когда же они его разучили? И кто их научил? Не курсовые же их офицеры? Я ничего не понимал... Все это наводило только одну грусть и тоску. Но это, как оказалось, были только «цветики революции»...
Распрощавшись с братом, который был произведен в офицеры перед самой Святой Пасхой, я выехал в Карс. В Александрополе, что между Тифлисом и Карсом, на вокзале я видел все того же знакомого мне жандармского ротмистра в красной своей форменной фуражке, высокого стройного блондина с немецкой фамилией, который, как всегда, встречал всякий пассажирский поезд. Мы поздоровались. В лице его я заметил тревогу. Думаю, что он уже обо всем знал, ждал своей судьбы – жандармского офицера царской власти, но волна революционного разрушения и насилия еще не докатилась до Александрополя.
Через четыре часа наш поезд подошел к Карсу. Из окна вагона вижу большую толпу солдат, как саранча, с винтовками и с примкнутыми штыками – они что-то кричат и бегут к вокзалу. Наш поезд остановился. У дверей вагона 2-го класса сталкиваюсь с озверелой толпой солдат. Какой-то унтер-офицер с винтовкой уже вскочил на порожки вагона и, увидев меня, крикнул: «Вот он!»
Я невольно сделал шаг назад. «Нет, ни он! – вдруг произносит и добавляет: – Где он?» – обращаясь неизвестно к кому. Вначале я понял, что произошел местный солдатский бунт, и они ищут виновника их притеснений, что ко мне, к казачьему офицеру, совершенно не относится. Меня они пропустили на перрон, а сами ворвались в вагон, ища кого-то.
Железнодорожный вокзал в Карсе находился за городом. Перед вокзалом большая площадь. Она полна солдатами, все с винтовками. Вижу, через площадь, рысцою, идет наш обозный казак Новосельцев, станицы Новопо-кровской. Обоз 2-го разряда и ветеринарный околоток от нашего полка находились в Карсе. Зову его к себе и тревожно спрашиваю:
– Что случилось? Где наш полк?
Казак берет руку под козырек и растерянно отвечает:
– Не знаю, Ваше благородие... солдаты говорят – пришла революция... пришли и к нам и заставили верхи (верхом на лошадях) выехать на улицы, а зачем – не знаю. Полк в Сарыкамыше, а во Владикарсе остались обозы и дамы. А дальше я ничего не знаю, Ваше благородие, – закончил обозный казак.
К ночи я прибыл в селение Владикарс. Там было совершенно тихо и спокойно, и никто ничего не знал, что творилось в Карсе. На утро прибыл в наше село 1 -й Таманский полк и Кубанская конная батарея, 4-я или 6-я, нашей же дивизии. Было тихо, но в воздухе чувствовалась тревога; и как всегда – денщики, а от них и строевые казаки узнают события раньше, чем мы, офицеры.
Утром, едучи верхом по селу, вижу, что батарейцы не встали с завалинок и не отдали мне положенной чести. Этого в нашем полку никогда не случалось. Наши казаки при всех встречах с офицерами охотно и отчетливо отдавали воинскую честь, как бы гордясь этим.
Черноморцы всегда были тяжелы на подъем, но это нас, кавказцев, не касалось и в данном случае их жест словно осквернял улицы «нашего села отдыха», где полк стоял вот уже шесть месяцев. И батарейцы, как и таманцы, – были здесь только гостями. Я окрикнул казаков. Они встали и отдали честь. А вечером мы узнали, что в Карсе образовался военно-революционный комитет, комендант крепости с немецкой фамилией арестован «как изменник», и от казаков просят прислать немедленно делегатов «за инструкциями». Только теперь я понял, что батарейцы уже знали «о революции в Карсе» и о своих, еще не ясных правах «нижних чинов» после революции.
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ
Революция в нашем селе Владикарс
Командир 1-го Таманского полка войсковой старшина Белый* немедленно же собрал всех офицеров гарнизона Владикарса, пояснил обстановку и решил выяснить – что от казаков требуется?
От их полка были командированы командир 1-й сотни подъесаул Демяник* и два урядника. Все были назначены самим командиром полка. Полк он возглавлял временно, как старший помощник. С повышением по службе полковника Кравченко законного командира в полк императорскою властью еще не было назначено.
Офицеры Таманского полка, батарейцы и я – сидели в нашем офицерском собрании и тревожно ждали возвращения из Карса своих делегатов. Все офицеры 1-го Таманского полка, однобригадники еще с мирного времени, были отлично мне знакомы. Со многими был в близкой дружбе, даже на «ты», в данном случае и с делегатом, подъесаулом Демяником, как все его звали в полку – Вася. Вот почему эти тревожные часы мы переживали одинаково.
Демяник с урядниками вернулся часа через два-три. Стояла уже полночь. Никто не спал. Белый нетерпеливо встретил Демяника. Мы все напряженно слушаем Васю. Он, как всегда, был спокойный. Оказывается, он был на заседании военно-революционного комитета гарнизона крепости Карс. Там нашим делегатам сказали, что «в Петрограде произошла революция. Император отрекся от престола. Вся власть в государстве перешла к народу. Все царские министры арестованы. Образовалось новое революционное Временное правительство. Вышел новый приказ по Армии, озаглавленный – «Декларация прав солдата и офицера», подписанная военным министром Гучковым».
Доложив, он передал своему командиру полка «эту декларацию», которая была получена в Карсе телеграфно из Петрограда. Белый стал читать ее нам внятно, чтобы не пропустить ни единого слова.
По мере того как умный, гордый, энергичный широкоплечий брюнет с аккуратно подстриженной бородкой, войсковой старшина Белый, летами, думаю, под сорок, читал ее нам пункт за пунктом, – лично я чувствовал, как у меня под ногами уходила почва офицерской власти над своими подчиненным нижними чинами. Словно я стоял в реке, на песке, который, под тяжестью человеческого тела и течением воды уходил из-под ног, шел за течением, а человек беспомощно погружался в воду... А в душе, и в моих мозгах, сгущалась не печаль, а какая-то мрачная тьма; и мне, секундами, казалось, что это происходит сон, какой-то кошмарный сон...
Думаю, что это ощущали очень многие офицеры-таманцы и батарейцы, потому что при чтении «декларации» стояла гробовая тишина; и даже остроумные таманцы, порою несдержанные на реплики, даже и при своем командире полка – в данные минуты все грустно молчали, словно набрали воды в рот. Белый окончил читать. Офицер он был пылкий, гордый, но в данном случае он спокойно спросил подъесаула Демяника:
– А Вы, подъесаул, не спросили их (т. е. военно-революционный комитет Карса), что те господа офицеры, кто с новыми правилами не согласен, могут ли подать в отставку?
– Не спросил, господин войсковой старшина, – ответил Демяник.
– Очень жаль... Лично я этого не разделяю и на военной службе не останусь, – довольно строго и наставительно ответил он Демянику и даже выцукал его за это. Мы все молчали. Вообще же никто из нас, строевых офицеров, ничего не понимал в политике и совершенно не разбирался в совершаемых событиях.
Белый, по словам таманцев, был воспитателем какого-то кадетского корпуса, почему и был строг и пунктуален. Он скоро ушел из полка.
– Позвольте доложить еще, господин войсковой старшина, – отвечает Демяник и докладывает, что военно-революционный комитет в Карсе секретно передал урядникам, что офицеров, протестующих против революции, надо немедленно же арестовать и препроводить в Карс.
Это заявление доконало нас окончательно. Мы сразу же почувствовали полную свою начальническую беспомощность в воинской дисциплине и почувствовали страх. Страх не перед казаками, а перед Карсом, с его многочисленным солдатским гарнизоном, перед коим мы, дивизия казаков, теперь вся разбросанная полками по далеким селам, не представляла собой никакой силы. Мы почувствовали сразу же диктатуру карской солдатской массы, толпы и совершенно не хотели быть арестованными и препровожденными туда, где, полагали, что с нами не будут церемониться...
Некоторые старшие офицеры-таманцы выражали свое негодование, но выражали в тонах семейных, и мы не знали, – что еще ждать, и чего ждать? – как меня, через ор-динарца-казака нашего офицерского собрания, вызывал на улицу второй штаб-трубач полкового хора, корнетист, вахмистр Красников. На улице, в темноте ночи, вернее далеко за полночь, Красников, взяв руку под козырек, тяжело дыша, тревожно докладывает:
– Ваше благородие... я прибежал предупредить Вас, что некоторые казаки трубаческой команды хотят Вас арестовать и отправить в Карс... не все, конечно, а нашлись сволочи... надо как-то до этого не допустить...
Холодная струйка чего-то быстро пробежала у меня по позвонку от шеи и растворилась в копчике. Эта струйка чего-то была мне еще неведома. Потом, во время восстания 1918 г. и в боях гражданской войны, когда порою смерть стояла так близко, эта струйка появлялась вновь в такой же степени и в таком же движении, быстром, две-три секунды по времени. Эта струйка была – чувство страха за свою жизнь. Но когда эта струйка растворялась в моем копчике, у седалищного нерва – было уже не страшно.
Ее, вот эту струйку страха за свою жизнь, открыла мне русская революция. До нее, в Императорской армии, во всех боях – ее я не ощущал. Когда струйка страха растворилась – во мне заговорило чувство возмущения.
– Почему?., за что меня хотят арестовать? – коротко спрашиваю.
– Да все, Ваше благородие, за заигранные деньги... они их хотят получить на руки... всегда об этом говорили, почему, дескать, они хранятся в банке, а не розданы на руки?
Услышав это – у меня сразу же отлегло от сердца, так как этот вопрос легко исправим. Для этого надо поехать в банк, взять заигранные трубачами деньги и раздать им.
– Кто же там мудрит? – спрашиваю Красникова.
– Да все тот же старший Стрельцов и Чиженко, – отвечает он.
– Я сейчас сам приду к трубачам... пусть соберутся в главной хате, – говорю Красникову, отпускаю его и возвращаюсь в столовую, чтобы спросить разрешения Белого – «отлучиться по делам службы»...








