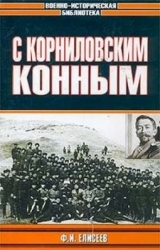
Текст книги "С Корниловским конным"
Автор книги: Федор Елисеев
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 44 страниц)
Я удивился этой скромности и его благородству. Но когда к ночи не вернулся один из разъездов, что были посланы левее полка, и не вернулся именно тот разъезд, в котором был его брат, – мне стало не по себе. Не нашли разъезд и в селе Киевском, куда отошли на ночлег. Я боялся тревожить словами успокоения своего бескорыстного друга и адъютанта.
Вечером он пишет приказ по полку под мою диктовку. Много курит, молчит. Но когда обращается ко мне, то как-то особенно твердо и внятно выговаривает мои имя и отчество – «Фед-дорр... Ив-ван-новичч...»
Генерал Улагай отпустил всех офицеров... Я подошел к генералу Бабиеву за распоряжениями и всматриваюсь в его глаза, чтобы прочесть в них – как он будет реагировать на мои «первые неприятности с ним по службе» – пишущую машинку и его ранения. Но он как ни в чем не бывало говорит мне:
– Джембулат! Вы с полком пойдете со мною в село Дивное. А пока – часовой привал в селе.
В село Кистинское пришли два казака вчерашнего пропавшего разъезда. Из двух спасшихся казаков один – был брат Васильева. Он доложил нам:
«Наш разъезд, следуя по степи, дошел до уровня середины села, никого не встретив. Потом нас обстреляли. Разъезд остановился и увидел позади себя лаву конных, человек около ста. Кто они? наш полк? или красные? Рассыпав так же в лаву всех шестерых своих казаков, урядник пошел на них для выяснения. И скоро мы узнали, что это были красные...
– ШАШКИ ВОН! ЗА МНОЙ! – крикнул урядник и бросился на них, чтобы пробиться назад. Но... где же там?! Красные быстро сомкнулись. Урядник был смят и убит. А нас захватили в плен. И сегодня, когда красные отступали, мы вдвоем спрятались, а тех троих казаков они увели с собой», – закончил рассказ молодой казак Васильев.
Его старший брат, суровый воин, сотник – даже и нс обнял брата, спасшегося от неминуемой гибели. И только его редко улыбающиеся глаза говорили мне о том, насколько он рад. Но он активно и строго расспрашивал брата, как все это случилось? И старался не пропустить и одного слова в рассказе, словно «выуживал» – не было ли разъездом, и им, его братом – проявлены трусость или оплошность? А меньший брат Васильева, рядовой казак, так бесхитростно рассказывал, как это все случилось, что мне пришлось сказать: «Ну, довольно расспрашивать, Яков Клементье-вич! Брат же предлагает проехать на то место, где все это произошло, и, может быть, найдем труп урядника».
Мы поскакали туда. Убитый урядник лежал лицом вниз, вытянув руки вперед. Он убит был, видимо, в седле и, падая с коня – автоматически вытянул руки вперед. Убит пулей, в грудь. Он не был раздет красными. Снято было только оружие. Гимнастерка и погоны были довольно свежие. И что особенно тронуло сердце: он был вахмистр, а не урядник; и черная выпушка на красном погоне, и черной тесьмы «басон вахмистра» – резко подчеркнули, как он гордился новой формой своего КОРНИЛОВСКОГО полка. Так жаль было этого, безусловно, храброго и нерастерявшегося вахмистра, так жутко принявшего смерть в бою.
В этот же день я отдал приказ по полку, с описанием его подвига, и тело в гробу было отправлено в его станицу. Спасшихся казаков приказом по полку того же числа – я переименовал в звание приказных. Кто поймет теперь все это?!
Острый глаз Бабиееа
Штаб полка часто посещал хорунжий Копчев, родом болгарин, доброволец-воин. Он меньше всех «тянулся воински», считая себя «гостем из Болгарии». Под ним была рослая светло-буланая кобылица донской породы, худая, небрежно чищенная, со стриженой гривой, чего у казаков не полагается. Ясные глаза говорили, что она молода. Копчев неизменно приезжал на легком английском седле, небрежно сидя и с распущенными поводьями. Было даже досадно смотреть на всю его фигуру на лошади, настолько она беспечна в седле по незнанию и езды, и лошади. Я заинтересовался его кобылицей и как-то попросил проехать на ней. Лошадь оказалась благородного характера и послушная.
Мой Карабах, живой как ртуть, был отличный под седлом во всех отношениях, но он был мал ростом для меня. И что хорошо было для командира сотни, то мало выигрывало для командира полка. Я предложил Копчеву поменяться лошадьми. И когда он под седлом испытал моего коня, – влюбился в него и мена состоялась. В Киевском я ежедневно делал проездки на новой кобылице, вестовой хорошо за ней ухаживал и выровнял в теле. Кобылица стала неузнаваема.
В селе Кистинском полки 3-й Кубанской дивизии выстроились для движения в село Дивное. Бабиев не видел наш полк два месяца. Знаю, он по нему скучал. Прибыл поздороваться и... не узнал полк.
Во-первых. Почти весь полк был в белых небольших папахах, а офицеры – поголовно в них.
Во-вторых. Все в погонах: У вахмистров, урядников и приказных – черные нашивки на них, вместо белых, нитяных, которые говорили о какой-то серьезности, сосредоточенности, глубине чувств к подвигу своего Великого Шефа полка, генерала Корнилова.
В третьих. Конские черные хвосты на сотенных значках, с продольной полосой по диагонали. Полковой вой скового красного цвета флаг на высоком древке; по широкой черной, по диагонали, полосе, белыми накладными буквами обозначалось – КОРНИЛОВСКИЙ, как указано было в официальном документе о форме полка. Сверху, от балаберки, как и на сотенных значках – от легкого ветерка колыхался длинный густой черный конский хвост, как эмблема легкой казачьей конницы. Три цвета ярко выделялись в массе резервной колонны полка – красный, черный и белый. Первое же впечатление – «белоголовый полк».
Бабиев, как заядлый конник остро обратил на это внимание. Он был ревнив, но в данную встречу – я не заметил в его глазах ревности, а заметил только радость. Ведь Корниловский полк был его любимое детище, которому он уже дал очень много.
Что надо пожалеть, так это то, что в полку не было знамени. Когда еще Бабиев командовал полком, говорилось как-то или предполагалось, что скоро нашему полку будет пожаловано войсковым атаманом одно из знамен-значков Запорожского войска, хранящихся при Войсковом штабе. Но мы его не дождались не только что с Бабаевым, но и вообще – полк так и не имел своего знамени или штандарта.
В дороге в Дивное – я шел верхом рядом с ним, и мы, как всегда, говорили, вернее – он больше говорил.
– Неужели это есть кобылица хорунжего Копчева? – спрашивает он, рассматривая с седла ее подо мной, как говорится, с ног и до головы, изучая опытным глазом большого конника все ее «статьи». И эта кобылица, по кличке «Ольга», послужила частицей «моей гибели» перед Бабие-вым, вскоре в селе Дивном. Памятная кобылица.
Прибыв в Дивное, полк расположился по старым квартирам. Как-то он верхом прибыл ко мне. Тары-бары обо всем, больше о полку родном, а потом, немного смущенно, говорит:
– Бери перо и бумагу, а я продиктую письмо матери.
– Да у тебя там, в штабе, адъютанты... почему они не могут написать? – говорю ему.
– Да неловко как-то по одному вопросу... да и не хочу, чтобы об этом знали в штабе дивизии, – отвечает он.
И я пишу под диктовку: «Дорогая мама!..» В легком, шутливом тоне диктует он о здоровье и житье-бытье на фронте и продолжает: «посылаю тебе к Празднику Святой Пасхи 400 куриных яиц и один пуд сливочного масла от благодарного населения».
Я останавливаюсь писать, улыбаюсь и смотрю на него – шутит ли он или всерьез диктует? Оказалось – всерьез. Только «от благодарного населения» просит поставить в кавычки. На мое удивление – он отвечает наивно так:
– Ну, посуди сам! Где она там, в Екатеринодаре, может достать к празднику того и другого? А здесь – половину я купил, а другую половину казаки достали. Ну, вот и будет там, старушке, и радость, и экономия к празднику.
У него, в Екатеринодаре, отец-генерал в отставке. Всю жизнь он привык жить широко. Пенсия была – небольшая. Вот сын и хотел помочь, как мог, да еще к такому светлому Празднику. И я его за это совершенно не осудил.
Я хорошо знал, что Бабиев был бессребреник, и для себя, даром, у крестьян ничего не брал, щедро расплачиваясь при уходе. В данном случае, яиц и масла у крестьян было много. Город Ставрополь в 120 верстах. Сбыта нет. Ну, так чего же?! Как и не сомневался я, что часть яиц и масла он купил, а остальную часть его верные вестовые не украли, а разными способами выпросили у крестьян. Гордый, но он не был злым и недобрым человеком. Иногда бывал и малодушным, но только на миг. Но никогда не терял себя.
Подобное преподношение генерал Бабиев мог получить и через сельского старосту. В тот период времени это было совершенно непредосудительно.
В субботу, перед Святой Пасхой
Полк в селе Дивном. Мы были так рады, попав «в центр», что решили достойно встретить и провести День Святой Пасхи, который приближался. Собрав сотенных командиров, рассказал им «свой план». Решили: щедро отпустить денег из экономических полковых и сотенных сумм, чтобы порадовать душу своих младших братьев-казаков.
В Святой Крест Ставропольской губернии, славившийся приготовлением вина, был командирован офицер с казаками, чтобы доставить к празднику 40-ведерную бочку вина и семь ведер водки, из расчета – ведро с четвертью вина на каждый взвод Краков и ведро водки на каждую сотню. В сотнях тогда числилось по пятьдесят казаков. В Страстную Пятницу вино было доставлено в полк и передано на хранение в полковой обоз, которым руководил строевой вахмистр Бойко, умный, честный и большой хозяин.
На второй день было очень теплое солнечное утро. После завтрака я прошел на полковой двор, проверить – все ли в порядке? Двор был чисто выметен до последней соломинки. До десяти двуколок поставлены в ряд. Сбруя повешена для просушки на солнце. Приятно пахло сеном, зерном и ремнями. Отдельно, на мажаре без дробин – пузато высилась 40-ведерная бочка с красным вином. Рядом, на двуколке – пять ведер водки в четвертовых бутылях. Все прикрыто брезентом от соблазна казачьих глаз. Вахмистр Бойко хорошо знал психологию своего брата-казака. Знал и я, и на ночь выставил к этим подводам вооруженный караул. Я боялся – как бы ночью казаки не проявили активности... Ведь такая у них серая жизнь! Абсолютно нет никаких удовольствий и развлечений! Нет и нормальной человеческой жизни, но зато риск – ежедневно, ежечасно. От этого легко проявить «соблазн», которого надо не допустить. Поэтому-то я и пошел проверить все сам и строго-настрого приказал – следить!
Бойко встретил меня рапортом приветливо, как всякий хороший хозяин, у которого все исправно. Я в черкеске, при кинжале и револьвере, но без шашки. Полковой двор против моей квартиры – так зачем же надевать шашку, да еще поутру? Я нагнулся у колеса двуколки и что-то рассматриваю внимательно, как вдруг толпа офицеров – быстро, шумно, весело нагрянула в чисто выметенный двор. Впереди всех сотник Малыхин – веселый, радостный. Я как-то и забыл, что он в командировке. Выше среднего роста, стройный, затянутый в темно-вишневую черкеску, он, через ножку, бегом подскочил ко мне, взял левую руку под козырек и громко произносит:
– Господин полковник, есаул Малыхин представляется по возвращению из Екатеринодара!
Первые два слова я пропустил, и моя мысль включилась, только начиная со слов – «есаул Малыхин». Я удивился, почему он называет себя есаулом, когда он только сотник?
Через высокие плечи Малыхина вижу необычайно радостные лица офицеров, и впереди всех особенно радостное лицо сотника Васильева, сотников Маркова, Лебедева,
Мартыненко, Иванова, Твердого, лицо хорунжего Литвиненко, Тюнина, Савченко и других хорунжих. При рапорте Малыхина – все они замерли в положении «смирно» и как-то отчетливо приложили ладони правой руки к своим папахам. Малыхин, отрапортовав, сделал шаг влево, словно давая дорогу тем, кто стоял позади него. Я подаю ему руку и говорю с улыбкой:
– Вы так скоро вернулись, Николай Павлович!
– Так точно, господин полковник! – рубит он. И, вновь взяв руку под козырек, произносит:
– Позвольте поздравить Вас с производством в полковники!
И теперь я понял, почему он титулует меня «полковником». Но я не успел ему ответить, как два десятка рук офи-церов-корниловцев подхватили меня и я, потеряв почву под ногами, полетел вверх...
– Ур-ра-а!.. Ур-ра-а!.. Ур-ра-а!.. – понеслось по двору.
– Да стойте!.. Стойте!.. Дайте понять, что случилось? – кричу им, а сам схватился за папаху, чтобы она не сорвалась с головы.
– Нашему дорогому полковнику – ур-ра-а! – кричит Васильев благим матом, и я опять полетел к небу и... обратно.
Наконец я на своих ногах. И, обращаясь к Малыхину, – спрашиваю:
– Николай Павлович – все ли офицеры произведены в следующие чины, в которые были представлены?
– Абсолютно все, господин полковник! – рубит он вновь меня словом «полковник», как бы получая от этого удовольствие. И в доказательство – повел горизонтально рукой.
Я смотрю на его погоны, – и они у него уже без трех звездочек славного чина сотника. Он был уже в погонах есаула. Я отлично знаю, кто представлен из сотников в есаулы, и они находятся здесь, но еще в старых погонах. Малыхин же купил себе погоны есаула уже в Екатеринодаре.
– Так почему же новые есаулы еще в погонах сотнг-ка?! – кричу всем.
Это был сигнал. Их тут же окружили, выхватили кинжалы и... сорвали звездочки благородного сотника, который стоял часовым даже у гроба Господня.
Все с удовольствием поддались «этому насилию», и только экономный сотник Васильев выкрикнул: «осторожнее – чтобы погоны не испортить!» В есаулы произведены и отсутствующие сотники Клерже и Пухальский. Остальных не помню. Малыхин же не унимается. Сделав лицо серьезным и взяв под козырек, произносит:
– Позвольте Вам, ото всех офицеров полка, преподнести погоны полковника!
И, достав из-за борта черкески, – протягивает мне их. Малыхин был умный и понимающий офицер.
Я беру погоны и смотрю на них. И мне стало почему-то грустно. Я почувствовал, что это еще рано для меня, для моих 26 лет от роду. Ведь я должен теперь посолиднеть, т. е. постареть, когда душа так еще молода! К тому же – я еще не насладился чином и есаула! И чин есаула для меня был солиден! А вот теперь я полковник. И, может быть, и конец карьеры? И так скоро?!
– Ну, господа, а теперь на обед ко мне! – говорю всем и мы, перейдя улицу, – были в своем штабе полка.
– Дайте приказ по войску о производстве, – говорю я Малыхину, когда сели за стол.
– Приказа еще нет, господин полковник, – вдруг отвечает Малыхин.
– Как, т. е., нет? – удивленно спрашиваю его.
И он при всех докладывает:
«После утверждения начальником нашей дивизии генералом Бабиевым – он со всеми наградными листами прибыл в Екатеринодар, представился с ними лично походному атаману генералу Науменко; последний так же утвердил их и представил в Войсковой штаб на подпись Войсковому атаману генералу Филимонову, от которого зависело производство. Но так как подходил праздник Святой Пасхи, то по техническим причинам – приказ о производстве отпечатан не был. Он выйдет официально только на 4-й день Пасхи, 12 апреля.
Меня это удивило. Не верить Малыхину я не мог, как официальному лицу по должности полкового адъютанта, но не мог я признать «на слово» производство своих офицеров и себя, почему – возвратил тут же ему свои погоны полковника. Это немного огорчило офицеров, так как они, не имея приказа по войску, должны оставаться в прежних чинах. А произведенных было не меньше тридцати человек. Но – приказ по войску действительно вышел на 4-й день Святой Пасхи, 12 апреля 1919 г., который и был получен в полку своевременно.
Святая Пасха на Маныче в 1919 г.
На этом собрании командиры сотен доложили мне, что казаки хотят быть на церковном богослужении и услышать в полночь из уст священника радостное и торжественное – «Христос Воскресе!»
Этот вопрос был нелегкий. Противник был от нас в 12 верстах, за Манычем. Астраханский мост через реку находился в руках красных, следовательно, инициатива нападения была также в руках красных. Им ничего не стоило перейти Маныч, и конной массой, пройдя по сухому ровному полю 12 верст, – напасть на нас, врасплох. И мы ждали этого нападения именно в ночь под Святую Пасху, когда душа верующего казачества будет в молитвах нестись к Богу, а следовательно, будет расслаблена воля, а они, безбожники, в сатанинской ненависти к Богу – только усилят свой порыв.
Поскакал к Бабиеву. Он разрешил полку быть в церкви, но быть в ней в полной боевой готовности. К 11 часам ночи Корниловский полк численностью до 400 казаков со всеми командами, в конном строе, прибыл на церковную площадь села и построился в резервную колонну. Восемь пулеметов сотника Мартыненко расположились вокруг полка, направив дула пулеметов по всем расходящимся от площади улицам. Мартыненко приказано быть все время только при пулеметах, в церковь не входить и быть в полной готовности ко всяким неожиданностям.
Половине полка, трем сотням, спешившись и держа лошадей в поводу, – быть также в полной боевой готовности. Другая половина полка, сбатовав лошадей, со своими офицерами и с винтовками в руках, вошла в церковь, став строем в несколько шеренг. Казакам разрешено стоять в положении «вольно», но быть начеку. В черкесках, с винтовками в руках, гуськом, свыше 150 казаков вошли в церковь. Они должны простоять полслужбы и потом заменить те три сотни, которые остались на площади.
Село Дивное было большое и богатое. Просторная церковь. Празднично нарядная толпа зрителей, в особенности крестьянок, с зажженными свечами в руках – удивленно посмотрели на вооруженных казаков в святой церкви, но, видимо, поняли, что идет война, так надо – спокойно продолжали молиться.
На правой мужской половине, впереди всех, стоял наш молодой генерал Бабиев. Рядом с ним усатый генерал-пластун Ходкевич. Подойдя к Бабиеву – тихо, коротко доложил, что сделано на случай тревоги. Он чуть улыбнулся и кивком головы – одобрил.
Служба шла торжественно. Служили три священника и среди них наш полковой батюшка Золотовский из станицы Терновской Кавказского отдела – высокий, стройный, красивый. Он имел гражданскую прическу, коротенькую подстриженную бородку, чисто выбрит выше нее, а в частной жизни носил штатский костюм. Прибыл в полк он на днях, и я впервые вижу его в церковном облачении. Он был красив в нем и выглядел очень благообразно.
Мне всегда казалось, что священники, отправляя церковную службу, в эти часы не живут личной жизнью, забывают все мирское. Мне думалось, что в эти часы их мысли витают только на небесах, в разговоре с Богом. Но в эту памятную ночь, когда я стоял впереди своих казаков-корниловцев, – я встретился с глазами своего полкового священника. И он не только что посмотрел на меня «по-человечески», но, как мне показалось, – он чуть улыбнулся глазами. И мне показалось, что он в душе сказал ласково так: «Очень приятно, Ф.И., что вы прибыли в церковь со своими казаками... и я теперь еще торжественнее буду отправлять церковное богослужение. Спасибо вам». И я не ошибся: он так и рассказал мне свои чувства потом, когда увидел ряды своего Корниловского полка в церкви.
Красные не сделали набега на нас в эту ночь Святой Пасхи. Полк вернулся на свои квартиры и лег спать. Но казачий пасхальный обед начался рано. При раздаче вина и водки по сотням присутствовали многие офицеры, все вахмистры и взводные урядники от сотен и команд полка, со своими артельщиками и многими помощниками. Присутствовали не потому, что нужно было, а потому, что это было впервые в полку, а может быть, и во всей их военной службе. Я и сам, за всю свою военную службу, начиная с 1910 г., – впервые вижу, что для казаков была приготовлена та традиционная «чарка водки», о которой так беспокоился всегда Суворов; и которая так необходима была каждому воину, в особенности на войне.
На Турецком фронте в 1-й Великой войне 1914-1917 гг., в лютые зимние стужи, оторванные от родной земли, почти всегда полуголодные, изможденные в постоянных думах о своей заброшенности казачьи полки, в частности наш 1-й Кавказский, – никогда не дали казаку этой «чарки водки» в праздники. Просто – было не принято. И об этом не думалось. Конечно, казаки пили вино в армянских селах, но пили только украдкой, под страхом наказания, секретно. Суворовская же «чарка водки» кроме физического – давала и моральное подкрепление и выпивалась законно, открыто, при всех и на глазах своих офицеров. И солдат, перед тем как выпить ее, заветную – снимал шапку и крестился.
Вот где была сила, радость, красота и святость этой «солдатской чарки водки», исходящей от самого батюшки-царя. Вот почему теперь пришли многие, чтобы посмотреть на эту официальную раздачу вина казакам.
Господь Бог послал в этот день мягкое теплое весеннее утро. Заведывающий хозяйственной частью полка подъесаул Козлов, из сверхсрочных образцовых подхорунжих мирного времени 1-го Кавказского полка, был скромен в своих распоряжениях потому, что он считался «молодым корниловцем».
Наблюдать картину раздачи вина, действительно, было очень интересно. Сотенные артельщики со своими помощниками прибыли с самыми настоящими и большими ведрами – «чтобы не упустить свое»... Кругом бочки толпились офицеры, вахмистры, урядники. Все ждали этого события, как чего-то особенно жизненного, но «не по питью», а вот именно как «казенной чарки водки». Наконец момент настал.
– Можно начинать, господин есаул? – спрашивает Козлов.
– Начинайте, Иван Матвеевич, – отвечаю ему.
– Ну, Господи благослови! – торжественно произносит он и громко, коротко говорит:
– Бойко! Открывай «чоб»! – И густая красная влага вина под своим напором в бочке – длинной дугой выбросилась вон... и первый же казак ловко подставил свое ведро. За ним подставлено следующее ведро, и потом еще – следующее, следующее, следующее, беспрерывно, по одному ведру с четвертью на каждый взвод казаков. Это было чисто запорожская раздача вина. Всем было очень весело и радостно. Черноморские остроты лились рекой тут же, как и лилось из 40-ведерной бочки так приятное на вид красное вино. Роздана и водка – по одному ведру на каждую сотню. Разные команды полка, по ревнивому подсчету вахмистров, – получили пропорционально численности в людях. Казаки на этот счет были ревнивы, подозрительны, но аккуратны.
С поздравлениями своих казаков – офицеры разошлись по своим сотням. И скоро «корниловский район» села заговорил песнями.
Празднику офицеров полка
Бабиев, имея «глаза и уши» в полку, – отлично знал, что в нем приготовились к празднику. Но эти его «глаза и уши» передавали с улыбкой и мне, что он думал.
«Если Елисеев лично не пригласит меня, – в полк я не приеду» – передали они мне его слова.
Я это понял, и мне это понравилось. Я отлично знал его пылкую и пристрастную любовь к полку, и знал, что он будет долго бесноваться, не побывав у нас. И никто его, даже и женщины, не удовлетворят так, как кутеж с офицерами Корниловского полка. Офицеры не могли не знать о неприятностях у меня с ним из-за пишущей машинки и особенно о ранениях. Сотник Васильев, как адъютант и свидетель всего этого, – он со свойственной ему резкостью в правде – возмущался открыто. Вот почему офицеры напряженно ждали: поеду ли я к Бабиеву с приглашением или нет? Но я и минуты не думал, чтобы не пригласить на столь Великий праздник кровью с нами связанного, молодецкого и всегда веселого генерала Бабиева.
Офицерский стол был накрыт в просторном и светлом зале местной школы, находившейся в районе полка. Всем офицерам предложено было прибыть верхом на лошадях к школе, для встречи Бабиева. К штабу дивизии нужно было проехать один квартал вправо и потом один квартал влево. Я там.
– Генерал у себя в комнате, наверху, – сказал мне начальник штаба.
Постучав в дверь, вошел. Бабиев был в своей верблюжьего цвета дачковой черкеске, при кинжале и револьвере, в папахе. Словно куда-то собрался ехать. Вид его был скучный, немного злой, а может быть, разочарованный. Я остановился у двери и, не снимая папахи, приложив руку к ней, докладываю:
– Ваше превосходительство, господа офицеры Корниловского полка и я – просим вас пожаловать к нам на полковой обед по случаю дня праздника Святой Пасхи.
Я хорошо знал Бабиева. Он был бесхитростный человек и добрый, но воспитанный в холе, которому с детства было позволено многое родителями как единственному сыну у них. Естественно, это развило в нем чувство «мне все возможно». Но когда он стал офицером, то начал познавать, что это было совсем не так. И «все для него» не могло быть: равные ему офицеры не хотели, а старшие не позволяли. Это его задевало, но – «все хочу» все же не вытравлялось жизнью. И если оно было сдерживаемо старшими и сверстниками тогда, когда он был молодым офицером, то теперь, когда он стал генералом и начальником пяти конных полков, – оно всплывало вновь.
Вот почему в светлый день Святой Пасхи, когда и природа даже оживает, и весь мир ликует Воскресением Христа, – ему было скучно и одиноко.
Доложив, я смотрю, как и полагается, прямо ему в глаза. В те глаза, которые я хорошо знал, изучил и понимал их. И уловил в них, как они чуть дрогнули и... обрадовались. Чопорно, гордо, грудным голосом – он произносит: «Христос Воскресе!» и целует меня в губы три раза. Потом добавляет:
– Вы это искренне зовете меня на обед?
– Разве Вы, Николай Гаврилович, можете сомневаться во мне и в офицерах-корниловцах? – ответил ему.
Подать ему коня было делом одной минуты. У него никто не ходил шагом. И мы в седлах идем вдоль улицы. Он вновь осматривает мою кобылицу, а я любуюсь его энергичным, сильным, веселым и нарядным по-дикому калмыцким конем, которого вижу впервые. Светло-гнедой масти, с лысиной, две или три ноги «в чулках», физическая сила и задор выпирают во всем его красивом мускулистом теле и в особенности в выпуклых, энергичных и как будто злых, острых ясных глазах. При высоком и гордом поставе головы и шеи – у него очень широкий шаг. Глаза и уши остро направлены только вперед. И только изредка он повернет голову в стороны, будто хочет всем сказать, кто находится впереди и по сторонам: «смотрите, кого я несу на своей спине!» И Бабиев, и его конь – они, действительно, украшали один другого, а вдвоем – представляли редкого по красоте казака-кавказца.
Мы повернули за второй угол улицы. И когда он так неожиданно увидел группу конных офицеров-корниловцев до 25 человек, – недоуменно спросил:
– Что это значит?
– Господа офицеры встречают Вас, – ответил ему.
Медлительный сотник Марков как самый старший в
чине едва успел скомандовать: «Смирно! Господа офицеры!» – как Бабиев выкрикнул: «За мной!» и скопытка бросился в карьер вдоль улицы, к нашему штабу полка. Поднимая облачко сыроватой пыли, все офицеры кавар-дачком понеслись вслед за ним, преследуемые злым лаем собак, выскочивших из своих дворов.
Два длинных стола с яствами и напитками поставлены под прямым углом, буквой «Г», почему Бабиеву видны были все офицеры. В противоположном углу был накрыт стол для полковых трубачей, также с закусками и выпивкой.
Все мы в черкесках и при полном холодном вооружении. Бабиев впервые среди офицеров с тех пор, как принял дивизию. И он видит, как мало осталось тех, с кем он был тогда! Он внимательно рассматривает каждого со своего места, спрашивает меня их фамилии, какой станицы и прочее.
После первых рюмок были короткие тосты. Оркестр сопровождал их бравурной «тушью». Как принято в полку – офицеры садились за стол не по чинам, а по голосам для песен, кроме двух-трех старших, для представительства около Бабиева. И вот, когда офицеры-корниловцы запели свои песни, исключительно черноморские – душа Бабиева растаяла... Он сам хорошо пел, но линейные песни. И он любил в песнях казачьих гик, крик, свист, тарелки, бубен, зурну. Вообще – он любил «бум», а мы его услаждали, как и услаждались сами такими минорными и мелодичными песнями. Наконец, потешили мы его и веселыми песнями.
Много пелось и много пилось. Обед был долгий, многие размякли. Участились тосты. Самым интересным был тост хорунжего Литвиненко. Он не был особенно пьющим, но компанию поддержать мог и любил. Крупный, широкоплечий, широколицый, весь раскрасневшийся от выпитого – он попросил слова. Все примолкли, так как всегда ожидали от него и умного, и логичного, но чаще очень оригинального. Оно и вышло оригинальным.
«Хурунджый Лытвын», как называли его казаки, редко говорил по-русски, но зато его черноморская речь всегда была так образна и интересна, как редко у кого:
– Я пю (пью) за гэнэрала Бабия, котрый нас роздрачуе (возбуждает) на всэ!
Дальше ему не дали закончить... Громовое «ура», крик, смех – заглушили самые благородные его намерения. Бабиев, широко улыбаясь, понял это с самой хорошей стороны, и только сам автор этих слов недоумевал и возмущался, что ему не дали докончить его мысли, тоста.
Ненужное дело
Веселие продолжалось. Было уже за полночь. Вдруг принесли почтограмму от начальника штаба корпуса, генерального штаба полковника Егорова на имя Бабиева. Он просит прочитать ему тихо, и я читаю: «По агентурным сведениям, на Астраханский мост, что через Маныч, только что пришли две новые роты красных с пулеметами. Не находите ли Вы возможным выслать туда две сотни Корниловского полка, чтобы они, с рассветом, атаковали бы их и захватили в плен».
Мы оба удивлены подобным предложением, к тому же совершенно несвоевременным. Да и почему надо послать сотни от Корниловского полка, когда в селе стоят еще три кубанских конных полка? Бабиев решил не отвечать. Но через час пришло повторное предложение.
– Две сотни в 80 шашек не смогут конной атакой взять две роты в плен, – тихо говорю ему. – И если Вы будете настаивать, то должен выступить весь полк, – добавляю.
– Корниловцы – алла-верды! – встав, крикнул Бабиев.
– Якши йол! – как всегда, дружно подхватили все. И он прочитал всем почтограмму полковника Егорова – «выслать две сотни». К моему удовольствию – все были удивлены и молчали. Тогда Бабиев продолжил от себя:
– Я посылаю весь полк, и сам с Вами скачу на Маныч!
Дружное «ура» было ему ответом. И многолюдная зала
довольно уставших людей, громко загомонила голосами и топотом ног, быстро выскакивая на улицу, чтобы бежать к своим сотням, будить казаков и скакать к Манычу.
Я был настроен совершенно против такого несвоевременного набега, но настаивать перед Бабиевым уже не хотел, чтобы не иметь еще и «третью неприятность» и к тому же по боевому приказу. В душе и Бабиев был против, но предлагал ведь начальник штаба корпуса!..
Походный сигнал «Генерал-марш», пропетый всем хором трубачей, – не разбудил казаков в их хатах после торжественного и веселого дня Святой Пасхи. В общем, сотни долго седлали, собирались, строились. Мы с Бабиевым были нормальны, но многие офицеры сильно размякли от выпитого. И 12 верст к Манычу – полк все же шел широкой рысью, изредка переводя коней в шаг.








