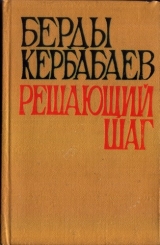
Текст книги "Решающий шаг"
Автор книги: Берды Кербабаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 55 страниц)
Чернышов умолк, погруженный в свои думы. Артык не все понял из его рассказа, но он видел, что друг чем-то расстроен, и ему хотелось утешить его.
– Иван, – спросил он, – как называется та война, о которой ты говорил?
– По-вашему – не знаю как, – улыбнувшись, ответил Иван Тимофеевич, – а по-нашему – революция. Революция, – повторил он четко, видя что Артык шевелит губами.
– Пусть будет и по-нашему так! Ривалюса, – тихо повторил он и встал.
Солнце красным шаром скатывалось за далекий гребень гор. Зной спадал, приближалась ночь. Артык стал прощаться с хозяевами.
– Иван, пусть седло и уздечка останутся у тебя. До свиданья, будьте здоровы! – сказал он и торопливо вышел за калитку.
– Артык, приходи почаще! – крикнул ему вслед Чернышов.
Глава четырнадцатая
Собственно говоря, торопиться Артыку было некуда. Как только зашло солнце, начало быстро темнеть. Возвращаться домой поздно вечером Артык не хотел – усталость брала свое. Но он постеснялся просить ночлега у гостеприимных хозяев и решил переночевать в чайхане.
Чайхана Джумадурды была местом сборища всех, кто прицеплял тыкву к заду (Так звали государственных служащих, носивших у пояса оружие). Так как карманы чайханщика от этого раздувались, он кутежи особо почитаемых людей устраивал у себя во внутренних комнатах. У него можно было найти всякий товар, а угодить богатому гостю Джумадурды почитал особым искусством. Артык знал, что чайханщик не обрадуется ему, но все же вошел в чайхану и попросил места для ночлега.
В этот день в город съехалось из аулов немало народу, комнаты для гостей и ночлежников были переполнены дейханами. Не надеясь легко отделаться от нового посетителя, Джумадурды уложил Артыка в проходной комнате. Усталость и сон уже одолевали Артыка, он повалился на кошму и сразу уснул. Но не прошло и часа, как он проснулся от шума и громких голосов.
Около девяти часов в соседней комнате началась пирушка. В просвете между дверным косяком и килимом перед глазами Артыка мелькали фигуры гостей: какого-то молодого человека в красном халате и в сапогах, начищенных до зеркального блеска, волостного Ходжамурада, толмача уездного управления в военном кителе и в белых погонах, хромого писаря волостного правления Аксака-мирзы, по прозвищу Куллыхан, еще кого-то... Пришел и Бабахан-арчин. Войдя, он хлопнул руками и что-то крикнул, – от этого крика Артыку стало тошно. Вслед за арчином в комнату вошли одна за другой три чисто одетых женщины с блюдами в руках.
– Ай, молодец, Джумадурды! – сказал Бабахан. На его возглас тотчас же отозвался хромой мирза:
– Арчин-хан, если хочешь поздороваться с ними, скажи: «Айсолтан-бай, молодушки, жить вам сто лет, а мне дважды по пятьдесят!»
Стукнулись пиалы, наполненные вином.
– Поднимем еще раз за здоровье Айсолтан-бай!
Это несомненно крикнул волостной Хуммет. Потом снова послышался голос Куллыхана:
– Эй, сосунок, почему не пьешь?
– Не умею. Я в жизни водки не пил, – ответил кто-то, кого Артык не узнал по голосу.
– Эх, собачий ты сын! Что ж ты думаешь, люди учатся пить в утробе матери? Хочешь стать человеком – пей.
Начался беспорядочный шум. Артык не мог уже больше спать; приподнявшись на локте, он осторожно отвел край килима. Теперь из своего темного угла он мог не только слышать, но и видеть всю веселящуюся компанию.
Отказывался пить Баллы, сын Халназара. Тогда его решили напоить силой. Баллы сопротивлялся, его держали за руки и лили ему в рот водку. Проглотив несколько глотков обжигающей жидкости, он вырвался и вскочил, задыхаясь, словно проглотил раскаленные угли. Его снова усадили, дали выпить воды. Рядом с Баллы на ковре сидел тот самый молодой человек в красном халате. Это был Атаджа, сын городского купца Котура. Баллы стал ругать его:
– Ты, сосунок, не облизанный матерью. Во всем ты виноват! Погоди, сын свиньи, я с тобой рассчитаюсь!
– Что ты – невинности лишился, что ли? – возражал Атаджа. – Выпил – увидел рай. Чего вопишь?
Как понял Артык из обрывков разговоров, Атаджа был хозяином пирушки. Устроить попойку его заставила простая причина: из-за неуплаты налогов было задержано восемь вагонов пшеницы, приготовленной для отправки в Андижан, Маргелан и Джизак. Если бы ему удалось получить бумажку от волостного с подтверждением уплаты налогов, толмач сумел бы продвинуть вагоны.
Все набивали рты сочным пловом. Чайханщик Джумадурды суетился вокруг гостей. Пиалы вновь и вновь наполнялись вином.
Куллыхан приподнялся на одно колено:
– Пью за здоровье Хуммета-волостного!
Волостной Ходжамурад поднял свою пиалу еще выше:
– Призываю выпить за здоровье его величества белого падишаха!
По очереди стали пить за здоровье царя, генерал-губернатора края, уездного начальника и всех сидящих. Баллы свалился после третьей пиалы. Лица у всех покраснели, глаза налились кровью, движения стали неуверенными. Жуя плов, Куллыхан половину ронял на скатерть. Когда Бабахан закашлялся, рис изо рта у него полетел в лица сидящих напротив.
Артыка уже мутило от запаха водки, от всего, что он видел, но он продолжал смотреть.
Ходжамурад бросил блестящую саблю и крикнул:
– Эй, молодушка из Ахала, чалу! (Чал – напиток из верблюжьего молока)
Грубая матерная брань повисла в воздухе. Грузный Хуммет, надувшись, выругал Атаджу:
– Сын свиньи, барышник! Это и есть все твое угощение?
Атаджа захлопал в ладоши:
– Водка найдется, если б ты даже захотел искупаться в ней... Эй, Джумадурды, принеси побольше!
Бабахан бессвязно бормотал:
– Тащи, сын вагонщика знает, что делает... Делай так – и все твои просьбы исполнятся. А этот сын дурака, блеет без молока...
Полупьяный Ходжамурад уставился на него мутными глазами:
– Кто этот негодяй? Кто блеет без молока, говори!
– Продай, – говорю ему, – своего жеребца Ходжамураду-волостному за сто рублей. Он тебе в другом деле поможет. А он несет всякий вздор. Говорит – за пятьсот не отдам!
– Да ты о ком?
– Да об Артыке, вот ей-богу!.. Об Артыке Бабалы.
Ходжамурад засмеялся:
– Теперь его гнедой бесится у кола подле моей кибитки...
Артык, и без того думавший: «Это не водку, это кровь дейханина пьют!» – чуть не задохнулся от ярости. Он откинулся назад и долго лежал без движения. «Что делать? Броситься в середину, перебить посуду, схватить за горло?.. Кого?.. Старшину Бабахана? Ходжамурада?.. Но к чему это приведет? Не сегодня, так завтра попадешь к ним в лапы».
Понемногу к Артыку вернулось спокойствие.
Между тем шум в комнате нарастал. Прислушавшись, Артык понял, что произошла ссора между Куллыханом и толмачом. Обидевшись на какое-то слово, хромой писарь кричал:
– Повтори, что ты сказал, собака!
Откинув край килима, Артык снова прильнул глазом к щели. Куллыхан выхватил из кобуры револьвер. Толмач подался к нему:
– Ну, не выстрелишь – бабой будешь!
Куллыхан спустил курок, но волостной Хуммет успел толкнуть его под локоть. Грохнул выстрел. Голубой дым потянулся кверху, вслед пуле, ударившей в потолок. На звук выстрела прибежала Айсолтан:
– Ой, что случилось?
– Куллыхан подстрелил ворону!
Все засмеялись. Этот выстрел, крики толмача, ругань писаря никого особенно не обеспокоили. Только Баллы, подняв голову, повел вокруг мутными испуганными глазами. Бабахан, держа пиалу, наполненную водкой, встал пошатываясь.
– Айсолтан, выпей за мое здоровье, – обратился он к женщине и уронил пиалу.
Его стало рвать, и женщина кинулась подставлять таз. Усы Бабахана обвисли, слиплись. Мерзкий запах ударил в лицо Артыку.
Толмач, распушив усы, пристально посмотрел на сына торговца и как ни в чем не бывало сказал:
– Атаджа, вели принести карты!
Посуду убрали. На ковер упала колода нераспечатанных карт. Пьяные фигуры задвигались, рассаживаясь в круг, руки полезли в карманы, вытаскивая и роняя деньги.
Хуммет начал метать банк. Баллы, никогда не видавший картежной игры, смотрел на все непонимающими глазами. Толмач, взяв свою карту, взглянул на него и сказал:
– Бери карту, чего глаза вылупил!
– Куда ему! – усмехнулся Хуммет. – У него еще молоко на губах не обсохло.
Баллы обидели эти слова, его рябое лицо скривилось в жалкой улыбке.
Когда Хуммет раздал карты, Бабахан бросил поверх банка свой толстый бумажник:
– Давай!
Хуммег протянул ему вторую карту.
– Давай еще! Еще одну!
– Сгоришь!
– Дай, сказал – дай! Сгорю я, а не ты!
Волостной протянул ему верхнюю карту колоды:
– Сгорел, сын дурака?
Не сказав ни слова, Бабахан вынул из бумажника четыре десятирублевых бумажки и бросил в банк.
Толмач то и дело смотрел на свою карту, не решаясь назначить ставку. Наконец, он сказал:
– Давай на пять рублей. Волостной пристыдил его:
– Сукин сын, весь уезд у тебя в руках, чего ты боишься? Бей по банку!
Бабахан, не выпускавший изо рта чилима, пыхнул дымом и засмеялся:
– Ташлы-толмач храбр, когда кладет в карман. А когда есть опасность потерять, он – в кусты.
Куллыхан, выплюнув табак, вытер губы рукавом и ударил на двадцать пять рублей. Он выиграл, но Хуммет удвоил банк. Тогда Бабахан, засучив рукава, подвинулся вперед:
– Давай на все! В счет всего аула Гоша!
Старшина получил на десятку туза и потянул к себе деньги.
Игра продолжалась долго. Куллыхан проиграл все, что у него было, занял у толмача и опять проиграл. Тогда он снял и положил перед собой свой красный халат:
– Дай карту!
Ташлы-толмач с насмешкой сказал:
– Ну, если теперь проиграет, то и мать родную заложит!
Проигрался и Ходжамурад. Не зная, у кого еще занять, он озирался по сторонам. У «сына вагонщика» он уже брал дважды. Тогда Бабахан приказал Баллы:
– Баллы-хан, вынимай сто рублей!
Видимо, для Баллы сто рублей были равны половине отцовского состояния – так много денег ему не часто приходилось держать в руках. Сегодня по поручению отца он получил в городе деньги за полвагона ячменя. Отдать сто рублей он боялся, но и не дать было неудобно, и он сидел, вытаращив глаза, не зная, что делать. Старшина напустился на него:
– Когда вам что-нибудь надо – тебе или своему отцу, – так идете к нему. Давай, тебе говорят!
Баллы дрожашими руками отсчитал сто рублей и отдал. Но для волостного эти деньги ничего не значили – он все сразу поставил на банк. Старшина принялся хвалить сына бая.
– У Халназара Баллы – лучший из сыновей. Я сам скоро женю его.
– Что же он – только что похоронил одну жену и уже думает о другой?
– Сыну бая можно иметь и две, и три жены.
Баллы, видимо, успел уже пооткровенничать с сыном торговца. Атаджа обратился к старшине:
– Арчин-хан, у тебя в ауле есть подходящая невеста – дочь Мереда. Сватай ее, если в самом деле хочешь женить Баллы.
– Да Меред... Не удастся, наверно, – сказал Бабахан.
Волостной Ходжамурад, рассматривая свои карты, заметил:
– Ничего не удается только беспомощному... Дайка карту!.. Пусть попробует у меня кто-нибудь поартачиться!
Старшину задели слова Ходжамурада, но ему не хотелось ссориться с волостным, и он мягко возразил:
– Меред хотя и не бай, но человек состоятельный. А Баллы вдовец, да вдобавок у него ребенок.
Хромой писарь поддакнул волостному:
– Арчин-хан, если бы ты не был беспомощным, го сумел бы заставить Баллы забыть о том, что он вдовец.
Бабахан вспылил:
– Беспомощными называют таких слюнтяев, как ты! Во всяком случае у тебя советов я спрашивать не буду.
Но писарю было не до Бабахана. Крикнув: «Двадцать одно!» – он торопливо сбросил свои карты в общую кучу и потянул к себе деньги из банка. Ташлы-толмач обрушился на него:
– Ты, сын свиньи, бросил, не показав! У тебя, наверное, перебор! – и схватил его за руку.
Игроки повскакивали с мест, с отчаянной руганью бросились друг на друга. Началась свалка... Артык смотрел на все это и сам себе удивлялся. Только что он готов был броситься с кулаками на волостного и старшину, когда узнал, как его обману-ли. Теперь же, почувствовав, что посягают на самое дорогое для него, он остался совершенно спокоен и даже холоден. Ни одна шальная, горячая мысль не шевельнулась в его голове. Только бешено забилось сердце и кулаки сжались, как два тяжелых камня. «Посмотрим, как это вам удастся!» – с ненавистью подумал он и неожиданно спросил самого себя: «А зачем я нахожусь в этом гадком месте?»
Не заботясь о том, заметят его или нет, Артык встал и быстро вышел из чайханы.
Звездная ночь показалась ему прохладной и светлой.
Глава пятнадцатая
У Халназара было четыре сына и дочь. Старший сын, Аннаберды, угрюмый, нелюдимый человек, держался обособленно ото всех, и трудно было понять – умен он или глуп. Обратятся к нему с какой-нибудь просьбой – отвернется, ничего не ответит и поступит, как ему вздумается. Когда ему привезли в кибитку невесту, никто не заметил, чтобы он обрадовался, – он даже ни разу не улыбнулся. И невеста тогда заплакала: «Горе мне! Стала я женой глухонемого!» Но потом привыкла. Аннаберды показался ей даже лучше многих других мужей: он был безответен, от него она никогда не слышала ругани, и скоро она стала полной хозяйкой в доме, управляла и распоряжалась всем. Это она, стараясь заполучить себе помощницу, женила своего двенадцатилетнего сына на зрелой девушке.
Люди говорили, что у Халназара самый видный из сыновей – второй, Баллы. Но в последнее время как раз положение этого сына и заботило бая больше всего.
Сам Халназар, может быть, и не очень спешил бы с женитьбой сына, но Садап-бай каждый день напоминала ему об этом. Она с тяжелым сердцем смотрела на опустевшую кибитку Баллы, на его четырехлетнюю дочку, оставшуюся сиротой. Старшая невестка была занята своей семьей, жена третьего сына, Бекмамеда, еще не знала радости материнства и не умела найти дорогу к сердцу ребенка. А как успеть Садап-бай одной повсюду? Поэтому днем и ночью она думала об одном: как бы поскорее женить Баллы.
Женить сына на вдове Садап-бай не хотела. Недаром говорят, что при таком браке в кибитке живут четверо: муж не забудет первой жены, жена будет помнить первого мужа. Конечно, думала Садап-бай, лучше всего сватать девушку. Но кого? Взять из бедной семьи какую-нибудь сироту, которая ничего не видела, кроме шалаша или жалкой кибитки, не умеет ни сесть, ни встать, ни принять гостей, – такая невестка не доставит большой радости, разведет грязь, опозорит Садап-бай. Ой, нет, такой лучше не надо! Послушаться советов людей и ехать сватать невесту из богатой семьи в незнакомый аул? Но как заранее знать, что выбор будет удачен? Невестка может оказаться лысой или глухой, глупой или сварливой. Только теперь старшая жена Халназар-бая начинала понимать, какой утратой для нее была смерть первой жены Баллы.
Садап-бай расспрашивала родных, знакомых, проезжих, прохожих, жителей дальних аулов. Каждый из ее собеседников указывал какую-нибудь девушку или вдову, каждый расхваливал достоинства той, которую называл. Но трудно было расположить сердце Садап. Заговаривали о сироте – она не хотела слушать, называли вдову – она брезгливо отворачивалась. Достаточно было упомянуть о каком-нибудь маленьком недостатке девушки, как она отмахивалась обеими руками: «Ой, нет, не надо, упаси бог!»
Нашлись люди, которые посоветовали сватать за Баллы дочь Мереда Макула. Этот совет пришелся по душе Садап-бай. Айна нравилась ей и раньше, а когда сам Баллы дал понять, что только об этой девушке он и думает, она стала нравиться ей еще больше. Халназар одобрял этот выбор. Но отдадут ли Айну за вдовца? Садап-бай долго размышляла и чисто женским чутьем нашла правильный путь: «Мама не родная мать Айне. Что ей до того, что Айна выйдет за вдовца, что ей придется нянчить чужого ребенка? Породниться с семьей бая ей будет лестно и выгодно. Правда, Мама пустая, взбалмошная женщина. Но это даже и лучше. Если Меред будет упорствовать, Мама не даст ему покоя». И Садап решила действовать через мачеху. Она сама побывала в кибитке Мереда и в разговоре с Мамой старалась польстить ее самолюбию. Начало было положено, а разговор о главном можно было поручить кому-либо из женщин, более опытных в этих делах. Надо было только выбрать день, когда Мереда не будет дома.
Третий сын Халназара Бекмамед, большую часть времени находился в степи, присматривал за стадом баранов и совершенно не вмешивался в другие дела. Его молодая жена, только недавно вернувшаяся к мужу из послесвадебного пребывания в родительском доме, еще не свыклась с новым положением, ходила в халназаровском ряду кибиток как чужая, ничего не делая и ничем не интересуясь.
Самый младший, семнадцатилетний сын, с прошлого года учился в медресе. Раньше звали его просто Ораз, а со времени поступления в медресе стали звать молла Ораз. Был он с детства слаб здоровьем, тщедушен на вид, и Халназар, решив, что из него не будет хозяина, уже с двенадцатилетнего возраста начал обучать его грамоте, наняв для этого муллу из племен!! эрсари.
Жил Ораз в келье при медресе вдвоем с товарищем. У каждого была своя постель, своя полка для личных вещей и один общий очаг, общая пища, один кувшинчик для омовения, бухарский самовар и немного посуды. Все делали они сообща; если один брался за самовар и наливал воду, другой шел за углем. В темной келье оба вслух зубрили тексты корана, будто плакали. Не пропускали ни одной из пяти ежедневных молитв. После утренней молитвы шли в мечеть к учителю – ахуну, чтобы ответить ему приготовленные уроки. Но вечерами они не отказывали себе в развлечениях. В медресе у ахуна училось немало разных людей, среди них были совсем взрослые и даже муллы, достаточно пожившие в свое удовольствие. Они собирались с молодыми ребятами, вели беседы на приятные темы, ели плов, затевали разные игры.
Когда молла Ораз приезжал домой, Садап-бай смотрела на него с удивлением. Лицо его было бледно, как у покойника, безбородые, еще юные щеки казались вялыми, в гонких губах не было ни кровинки, глаза смотрели тускло. По тому, как он, потупив глаза, играл шнурками халата, можно было подумать, что он чего-то стыдится. Его подавленный вид, привычка держать голову опущенной, сторониться людей, входить и выходить боком – все это наводило Садап-бай на разные мысли. Поэтому она не раз упрашивала Халназара:
– Аю, отец, тебе говорю. Довольно и того учения, которое прошел Ораз-джан. Он уже черное-белое различает, может записать прибыль-убыток. Давай возьмем его из медресе. Уж очень он там страдает.
Но Халназару поведение Ораза очень нравилось. Он видел, что сын его кроток, скромен, стыдлив, во всем следует шариату, и думал: «Может быть, и Ораз со временем станет ахуном в медресе, будет пользоваться почетом и уважением». Он жаждал стяжать себе славу не только богатством, но и положением сына. У него было намерение послать Ораза года через два в Бухару, к источнику высшей мусульманской учености. Поэтому он возражал жене:
– Пусть учится, будет человеком.
– Аю, отец, он не похож ни на кого из нашей семьи. Он становится каким-то ходжой.
– Если твой сын станет потомком пророка – что может быть лучше?
– Я не хочу, чтобы он стал ходжой-попрошайкой.
– А, брось! Ученый человек никогда попрошайкой не будет. Наоборот, все само придет к нему.
Однако в этом году Халназар не послал Ораза в медресе, считая, что он будет нужен для ведения счетных дел при сборе урожая. Теперь он засадил его за счета.
То, что Ораз читал коран по всем правилам, был кроток и тих, нравилось и Мамедвели-ходже. В доме бая он всегда хвалил тихого и застенчивого Ораза. Но вспоминая свою беспутную молодость в медресе марыйского ишана Субхан-Назара, он думал: «Плохо, очень плохо, что Халназар держит Ораза в медресе. Сыну бая ведь не придется жить от подаяний прихожан мечети. А в медресе могут совсем испортить юношу». Однако этих опасений он не высказывал никому.
Дочь Халназара, Ак-Набат, была еще совсем девочкой с густыми пушистыми волосами и не принимала никакого участия в семейных делах.
Халназару доставляло радость видеть свой дом богатым, а семью многочисленной. Он охотно устраивал свадьбы и надеялся, что и впредь будет устраивать.
Солнце уже поднялось высоко и сильно припекало. Задние крылья кибиток были подняты. Собаки прятались в тень, переходя с одного места на другое.
Из кибитки Мереда доносились удары ткацкого гребня. У основы ковра средней величины сидела Айна. Мама, лежа на спине, громко храпела.
Склонив голову над рамой, Айна ткала. Толстые черные косы девушки, свешиваясь через плечи, касались бархатистой поверхности недавно начатого ковра; ее живые черные глаза бегали по нитям основы. В одной руке у нее был ножичек, в другой – нитки цветной шерсти. Быстро перебирая проворными пальцами нити основы, надавливая одну и поднимая другую, она продевала уток, навязывала узелки и ножичком подрезала нитки. Узелки шли стройным рядом, белая шерсть ложилась к белой, черная к черной, желтая к желтой, красная к красной – рисунок ковра словно растягивался. Пройдя ряд, Айна брала железный гребень на деревянной ручке, просовывала его зубья в основу и частыми сильными ударами плотно прибивала узелки законченного ряда к многоцветному полю ковра. Гребень при ударах глухо стучал, серебряные украшения, свисавшие с шапочки Айны, громко звенели, но все это не мешало спать Маме. Издаваемый ею мерный храп, вливаясь в удары гребня, и серебряный звон украшений Айны, создавал своеобразную музыку.
Сделав два ряда, Айна взяла большие ножницы и стала выравнивать ворс. Взгляд ее упал на сверкающий узор ковра, расстилавшийся под ногами. Это сразу переселило ее в мир мечтаний. Ковер Айны будет известен в ауле, – в его узоры и краски она вкладывала все, чем было полно ее сердце. Все будут любоваться им – изделием ее рук, девушки будут переснимать с него узоры. Когда-нибудь ковер этот будет лежать в глубине белой кибитки. Но кто будет хозяином этой кибитки, кто сядет на этот ковер?.. Артык, кто же другой! Он будет приезжать на быстром коне. Айна перенесет свои узоры на попону, на ковровые переметные сумы. Она разукрасит его коня. Артык, пройдя в глубину кибитки, ляжет на вытканный Айной ковер, облокотится на подушку. Айна подсядет к нему, нальет ему чаю, наколет леденцов и сахару, будет говорить ему нежные слова, смешить его и поддразнивать.
Пальцы Айны привычно бегали по нитям основы, а мысли унеслись в сладостные мечты. Внезапно они были прерваны чьим-то приветствием, вслед за которым порог кибитки переступила женщина. Ответив на приветствие, Айна тяжело вздохнула, словно ее и в самом деле разлучили с Артыком.
– Заходите, пожалуйста, – сказала она, оглядываясь на гостью.
Это была высокая худощавая женщина с седеющими волосами. Одета она была небогато: синее полушелковое платье, на голове сильно поношенная накидка, на ногах стоптанные башмаки. Звали ее Умсагюль. Вспомнив, чем она занимается, Айна с беспокойством взглянула на нее. В сердце закралась тревога.
Умсагюль, как хорошо знакомая, близко подошла к Айне:
– Давно не видели мы тебя. Ну-ка, моя голубка, давай поздороваемся! – сказала она и обеими ладонями слегка шлепнула девушку по плечам. Потом села рядом с Айной и стала рассматривать ковер.
Оба края ковра шли ровно, как по натянутой струне, поверхность была как бархат. По тонкой основе ложилась блестящая, со вкусом подобранная цветная шерсть.
– Мастерица!.. Тьфу, тьфу, да упасет тебя бог от дурного глаза и языка, голубушка! – проговорила Умсагюль, и в лицо Айны ударило зловонное дыхание.
Айна почувствовала в Умсагюль что-то отталкивающее. Не поднимая головы, не обращая на нее внимания, она продолжала нанизывать узелки.
Понаблюдав за работой, Умсагюль стала осматривать внутренность кибитки. Все в целости, все в порядке: ковры, кошмы в хорошем виде. У раскрытого остова кибитки спит Мама. Ее засаленная шапка свалилась с головы и лежит рядом, точно гнездо черепахи.
Умсагюль перещупала все мотки пряжи, прежде чем обратилась к Айне с вопросом:
– Айна-джан, что мать – давно легла?
Не отвечая, Айна подошла к мачехе, надела ей на голову шапку и стала расталкивать:
– Мама, ну, Мама, вставай же!
Мама спросонья пробормотала:
– Ммм... Да, да... – ладно, – и опять уснула. – Мама, да встань же! Гостья пришла!
Мама почесала грудь:
– А-а... гостья... гос.. – и открыла было глаза, но тут же опять закрыла.
Айна, стыдясь Умсагюль и сердясь на мачеху, стала изо всех сил тормошить тучное тело. Мама зашевелила толстыми губами.
Умсагюль во все глаза смотрела на Маму. Она по-своему оценивала эту женщину и думала: «О, если тебя удастся согнуть, так потом ничем не выпрямишь». В том, что ей удастся уговорить Маму, Умсагюль нисколько не сомневалась.
– Мама, да проснись же! – с отчаянием сказала Айна, поднимая мачеху за плечи.
Мама, жмурясь от света, вытянула руки, открыла рот и зевнула. Если б Айна не поддержала ее, она опять повалилась бы на спину. Мясистыми пальцами она протерла глаза, подняла опухшие веки и часто заморгала. Умсагюль, словно приехавшая издалека, подошла к ней, подобострастно проговорила «салам-алейкум» и шлепнула ее ладонями по плечам. Мама, не узнавая ее, равнодушно пробормотала ответное приветствие и, закрыв рот рукой, опять зевнула. Потом пристально посмотрела на гостью красными глазами:
– Ах, Умсагюль, это ты!
– Я, зашла вот...
– Хорошо сделала.
– Зашла, а ты спишь, оказывается, нарушила твой сладкий сон?
– Нет, Умсагюль, я не спала. С утра что-то голова разболелась, ну я и прилегла. Немного вздремнула как будто...
Айна, слушая мачеху, улыбнулась, а Умсагюль подумала: «Ну, если ты так дремлешь, то как же ты спишь – упаси боже!»
Мама широко раскрыла рот и зевнула еще раз. Умсагюль, посмотрев своими хитрыми, еще не потерявшими блеска глазами на Маму и на Айну, спросила обо всем сразу:
– Благополучны ли вы, здоровы ли дети, скот?
– Слава богу, – ответила Мама и спросила: – Что же это тебя, девонька, нигде не видно?
– Э, Мама, столько дел и забот. Мы со своей бедностью не вылезаем из хлопот.
Мама слышала о веселом нраве Умсагюль, знала, что та считает себя еще молодой женщиной, и потому назвала ее «девонькой», как свою сверстницу. Но, увидев ее седые волосы, морщины на лице и мозоли на руках, решила обращаться к ней как к пожилой женщине.
– Умсаполь-эдже, ты что-то старишься, – сказала она.
– Ай, что она говорит! – всплеснула руками Умсагюль. – Пусть стареющие стареют, а я считаю себя ровесницей Айны.
Сердито скосив глаза на нее, Айна подумала: «Бабушке моей ты ровесница».
Мама вспомнила, что Умсагюль со всеми держится по-разному: с девушками – девушкой, с молодыми женщинами – молодушкой, с мужчинами – по-мужски, и всегда шутлива и весела.
Между тем Умсагюль, хоть и заметила сердитый взгляд Айны и вполне поняла его, с невозмутимым спокойствием продолжала:
– Айна-джан, ты не удивляйся моим словам. Я кому собеседница, тому и ровесница... Вчера вот я целый день проболтала с Халназар-баем...
Айна еще раз взглянула на Умсагюль. Были в ее взгляде и вопрос, и тревога, и ненависть. Но Умсагюль не придала этому взгляду никакого значения. Ей самой такой неожиданный переход показался слишком неуклюжим. Мама тоже сочла его странным. Она пристально посмотрела на Умсагюль, стараясь по глазам узнать ее намерения. Но в хитрых глазах Умсагюль она ничего не смогла прочесть и призадумалась.
Недавно она сама почти целый день проболтала с женой Халназара. После этого по аулу пошли разговоры, что Халназары думают сватать Айну. Меред, не собирая родственников, не спрашивая ни у кого совета, сразу же ответил на это: «Пропавшее пусть ищут в другом месте». Его слова не могли не дойти до Халназара, – недаром он вызывал к себе Умсагюль. В сватовстве эта женщина не имела себе равных. И тот же Меред, когда остался вдовцом, прибегал к ее помощи. Сопоставив все это, Мама поняла, наконец, что к ней пришла сваха.
Умсагюль решила переменить разговор. Пригладив руками седые волосы, она заговорила с Мамой:
– Оказывается, Айна совсем взрослая девушка.
– Да она только выглядит так, а лет ей немного,– отозвалась Мама.
– Глядела я ее ковер, – продолжала Умсагюль.– Уж такая мастерица – упаси ее бог от дурного глаза! – В ее руках распускаются розы.
Мама не любила, когда при ней хвалили кого-нибудь. Но, подумав, что в ауле заговорят, какой искусницей вырастила она Айну, сказала с гордостью:
– Моя дочка!
– Я и говорю, – тотчас же подхватила Умсагюль,– сразу видно, из какой семьи девушка.
– Умсагюль-эдже, ты не поверишь, – вздохнула Мама, – только о ней и думаю. Из-за нее даже сон на глаза нейдет.
Айна горько улыбнулась. Едва дождавшись вечерней молитвы, Мама валилась на постель, и ничто не мешало ей спать до утра. Айна ночью вставала доить верблюдицу, просыпаясь с рассветом, шла за водой и готовила чай. Встав, Мама выпивала два чайника чаю и, дождавшись, когда Меред выедет в поле, снова ложилась спать. Айна прибирала кибитку, стирала, возилась у очага, делала всю черную работу, а когда кончались домашние дела, бралась за ковер. Мама же, выспавшись, шла к южному ряду кибиток и в разговорах проводила весь день.
– Я это говорю не потому, – снова услышала Айна вкрадчивый голосок Умсагюль, – что хочу хвалить себя в глаза. Но я всем скажу: не всякая сумеет делать то, что делаешь ты.
Мама поправила взлохмаченные волосы и, выпятив грудь, самодовольно ответила:
– Умеет умеющий.
– А еще есть люди, которые, не зная тебя, называют мачехой.
Слово «мачеха» заставило вздохнуть и Айну и Маму.
Мама сказала:
– Ах, это огнем жжет мое сердце, но что ж поделаешь?
Умсагюль только затем и кольнула Маму обидным словом, чтобы польстить ей.
– Ну, видали мы и девушек с матерьми, – сказала она, перебегая глазами с мачехи на падчерицу.– Не в пример твоей Айне, многие из них ничего не умеют делать. А есть такие неряхи – гнид со своих волос не могут свести.
– Ах, тетушка Умсагюль, тебе понятны мои заботы!
– Душенька-сестрица, не хваля, тебе говорю: ты выполнила материнскую обязанность... Дай бог, чтобы Айна попала в хорошее место!
– Да, Умсагюль, об этом только и думаешь. Пока не свалишь с шеи эту заботу, ни сна тебе, ни покоя.
Умсагюль многозначительно помолчала, словно не решаясь говорить о главном. Мама хоть и не отличалась особой догадливостью, все же поняла, чего ждет от нее Умсагюль, и, сделав вид, что задыхается от жары, сказала:
– Тетушка Умсагюль, здесь так жарко. Может быть, выйдем под навес?
– И верно, душновато. Если хочешь, давай выйдем...
Под навесом была густая тень. Мама разостлала конскую попону, поверх нее положила кошму с цветными узорами и две подушки. Айна подала чай.
Тихий ветерок освежал потные тела. Расположившись за чаем, Умсагюль начала передавать разные сплетни. Потом она стала шутливо рассказывать о том, как она ходит сватать, как ее иногда принимают с почетом, а иногда с позором выпроваживают. И незаметно подошла к цели:
– Да, девонька Мама, без богатства нет счастья.








