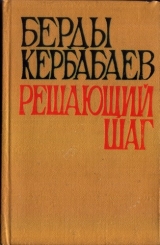
Текст книги "Решающий шаг"
Автор книги: Берды Кербабаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 55 страниц)
Глава двенадцатая
Было душно уже с утра. В сухом неподвижном воздухе стояла густая пелена пыли. Солнце вставало над землей огненным шаром.
Артык снял с гнедого торбу и стал гладить шею лошади. Гнедой потерся головой о плечо, подставил лоб. У Артыка не хватило сил посмотреть ему в , глаза. Сердце его разрывалось от боли, к горлу подкатил комок. Опустив голову, он стоял, как бы в забытьи поглаживая рукой коня. Вдруг гнедой рванул повод и громко заржал. Артык поднял голову. При мысли, что он глядит на своего гнедого в последний раз, им овладело отчаяние. Как сможет он жить без коня? Что же, опять купить какую-нибудь кобыленку и слушать насмешки? У Халназар-бая остается и Меле-куш, и прекрасный иноходец, и другие лошади, а у него отнимают единственного коня!
Тяжело вздохнув, Артык решительно направился вкибитку и тотчас вышел с молотком и гвоздями в ру-ке Подойдя к коню, он поднял ему переднюю ногу и примерил гвоздь.
– Аю, дитя мое, что ты делаешь? – испуганно крикнула Нурджахан.
Артык пристально рассматривал углубление в копыте.
– Хочу почистить копыта, мать, – ответил он бодро. Затем, крепко обняв рукою ногу коня и приложив гвоздь к копыту, поднял молоток.
Шекер, вытянув шею, шепнула что-то на ухо матери. Нурджахан бросилась к сыну:
– Ой, дитя мое! Не калечь коня своею рукой!
Не отвечая матери, Артык ударил молотком, но гвоздь вырвался из его дрожащей руки и полетел в сторону. Когда он снова хотел приподнять ногу коню, гнедой глянул на него таким горящим взглядом, что у Артыка бессильно опустилась рука и молоток упал на землю. Слезы застилали ему глаза.
– Ты хоть в моих-то руках не мучайся! – сказал он отворачиваясь.
Подошел Ашир и пытливо взглянул на друга. Таким он Артыка еще никогда не видал: веки у него как будто припухли, щеки впали, и весь он дрожал. «Такой вид бывает у больных лихорадкой», – с беспокойством подумал Ашир, и сам почувствовал, как по телу пробежала знобящая дрожь. Он отвел взгляд и вдруг увидел молоток и гвозди под ногами у гнедого.
– Артык, что ты хотел сделать? – спросил он, поднимая молоток.
Артык ничего не ответил. Он стоял потупясь, словно застыл. Но Аширу стало все ясно без слов, и он укоризненно покачал головой:
– Артык, и тебе не жаль его?
– Не было бы жаль, рука не дрогнула бы.
– Разве конь виноват?
– А я чем виноват?.. Вот пришло в голову такое... думал, вобью гвоздь в копыто, конь захромает, может тогда не возьмут... Но из этого, как видишь, ничего не вышло...
Нурджахан, всхлипнув, сказала:
– Артык, милый, не мучь себя. Бог милостив, может быть, тебе и вернут коня.
Артык увидел слезы на глазах матери, заметил, что и Шекер плачет, и ему стало не по себе. Быстро овладев собой, он сказал:
– Пусть конь пронесет беду, обрушившуюся на нас! Ты не горюй, мать. Буду жив, здоров, конь найдется. А увечить гнедого собственными руками не стану.
Аширу хотелось подбодрить друга, но у него самого открылась в душе старая, незажившая рана.
Отец Ашира, Сахат Голак, всю свою жизнь не мог выбраться из шалаша. Когда подрос Ашир, дела стали понемногу поправляться. Сахат Голак выдал замуж дочь, женил сына; продав ковер невестки и использовав небольшие сбережения Ашира, поставил, наконец, новенькую белую кибитку на четыре крыла, – обитателям шалаша она показалась ханской палатой. Они покинули тесный шалаш, и мир пред ними распахнулся вширь. Но радость была недолгой. Не прошло и года, как был объявлен сбор кибиток для армии. В приказе было сказано, что туркменская кибитка очень удобна в походной жизни, и она была вписана в число царских налогов. Для Сахата Голака потеря кибитки была почти равносильна разлуке с сыном. Он кричал: «Не отдам!», оказал сопротивление и за это три дня просидел под арестом. Кибитку разобрали и увезли, а семья осталась под открытым небом. Пятнадцать дней Сахат Голак обивал казенные пороги в городе и принес домой тридцать пять рублей – «плату» за кибитку. Добавив к этим деньгам еще пятнадцать рублей, он купил у ходжи кем-то пожертвованную ветхую, полуразвалившуюся кибитку. Связки ее остова перегнили, надломленные жерди были скреплены веревками, вся она просвечивала насквозь. Чуть поднимался ветер – ее шатало из стороны в сторону; дождевые капли сыпались в нее, как сквозь решето.
Ашир стоял, охваченный горькими думами, а Артык тем временем принялся седлать коня. Он вытер его войлочным потником, накинул легкое седло. Когда он надевал уздечку, гнедой, играя, захватил губами его рукав и сверкнул огненным глазом. Артык больше не мог выдержать: он торопливо сунул за пазуху полчурека и вскочил в седло. Гнедой, круто выгнув шею, стал перебирать ногами на месте, словно не желая идти туда, куда намеревался ехать Артык.
У Нурджахан тревожно забилось сердце. Шекер тонкими пальцами закрыла глаза. Ашир тоже почувствовал как у него заныло сердце, но старался не обнаруживать своей слабости.
– Мужайся, Артык! – сказал он ободряюще. – Не показывай своего горя людям, которые не стоят тебя!
Нурджахан проговорила хриплым голосом, вытирая глаза:
– Крепись, мой сын, поезжай и возвращайся благополучно... Я жертвую целую выпечку чуреков, только бы господь бог сохранил нам коня.
Артык поднял камчу, и гнедой пошел легкой рысью.
Впереди показалась кибитка Мереда. Артык старался не смотреть на нее. Но в этот момент Айна, заслышав топот коня, выглянула изнутри. Артык, опустив глаза, проехал мимо. Айна грустно посмотрела вслед: почему Артык не хочет взглянуть на нее, развеселить ее сердце? Может, он обижен на нее? За что?.. Что с ним случилось?..
Когда Артык подъехал к городскому приемочному пункту, солнце уже стояло в зените. На открытой поляне возле железной дороги, как на скачках, толпился народ. Люди громко переговаривались, кони ржали, били землю копытами, вставали на дыбы. Из-под копыт лошадей поднималась пыль и плотной пеленой висела в воздухе. Запыленные лица людей были нерадостны.
Направляясь сюда, Артык не отдавал себе отчета, зачем и куда он едет. Он просто ехал вперед, не узнавая знакомых, не слыша их приветствий. Подъехав к толпе, он сдержал гнедого и огляделся вокруг.
Посредине поляны стоял стол. За столом сидел толстый усатый человек в кителе защитного цвета с широкими погонами на плечах. Артык узнал в нем полковника Белановича, – он видел его однажды, когда тот приезжал к Халназару. По обеим сторонам от него сидели волостные – Ходжамурад и Хуммет. Их лица опухли от пьянства, заплывшие глаза были красны. Оба они, прикрывая рот ладонями, то и пело зевали. За ними сидели волостные с каналов Бек и Векиль. Неподалеку стояли военный ветеринарный врач и чернобородый туркмен, знаток лошадей. К столу по очереди подводили коней, врач и туркмен осматривали их, волостные назначали цену, полковник подтверждал или уменьшал ее. Принятым лошадям ставилось на бедре тавро, и их отводили в табун.
Невысокого роста рябой туркмен, хромая на левую ногу, вел рыжую прихрамывающую лошадь. Так они оба и подошли к столу. Увидав людей в узких одеждах и почуяв их особенный запах, рыжая лошадь зафыркала и попятилась назад. Но когда она остановилась, левая нога ее осталась приподнятой.
Врач с опаской обошел вокруг нее, осмотрел спину, погладил грудь. Лошадь отступила назад и опять подняла больную ногу. Врач наклонился, постучал по колену, но под копытом ничего особенного не заметил. Лошадник-туркмен тоже осмотрел голень, ступню и объявил:
– Не годится, калека.
Полковник махнул рукой:
– Брак. Китты, пошел!
Рябой не понял ни искаженного туркменского слова, ни русских слов, и только по движению руки полковника догадался, что его отпускают. Он стал поворачивать лошадь, но врач задержал его:
– Погоди-ка! – сказал он и взялся за недоуздок. Рябой посмотрел на врача с такой злобой, что, казалось, будь у него в глазах пули, он застрелил бы его. Врач велел поднять ногу лошади и, вынув перочинный нож, стал ковырять им в копыте. Кончик ножа задел за что-то твердое.
– Это что? – спросил врач.
Рябой опустил глаза. Ему хотелось ответить дерзкой грубой бранью, но он сдержался. А врач повторил свой вопрос:
– Что это?
Оба волостных вскочили с мест и набросились на рябого:
– Это 410, эй?.. Говори, негодяй! Ты что, онемел?
Опустив ногу лошади, рябой почесал за ухом и угрюмо проговорил:
– Откуда мне знать?.. Может, заноза...
Чернобородый лошадник-туркмен опять поднял ногу лошади, – волостной Хуммет проверил подозрения врача.
– Эй, сын свиньи! Это что? – закричал он, нащупав головку забитого в копыто гвоздя.
Рябой изменился в лице, задрожал, глаза у него налились кровью, губы задергались. Переступив на укороченную левую ногу, он обернулся к Хуммету и крикнул:
– Волостной-хан, это... – и грубо выругался. Волостной наотмашь ударил его по лицу, и он свалился.
– Что там такое? – гневно спросил полковник.
Пока волостной объяснял, рябой поднялся и, выхватив нож, бросился к столу. Еще секунда – и он всадил бы нож в спину Хуммету, но лошадник-туркмен успел схватить его за руку. Подоспели полицейские, скрутили рябого. Тот с ненавистью взглянул на Хуммета:
– Ты еще попомнишь это, собака-волостной! Или ты меня доконаешь, или я заставлю твою мать залиться слезами!
Рябого увели.
Высокого роста седобородый глашатай в островерхой шапке, с красным платком на шее, держа руку у рта, закричал:
– Старшина аула Гоша Бабахан-арчин!
К столу подошел смуглолицый человек в черной папахе с завитками, в шелковом красном халате, перехваченном клетчатым шелковым кушаком. Полковник, расправив обеими руками пышные усы, улыбнулся:
– А-а, арчин Бабахан! Очень хорошо.
У Бабахана тоже был такой вид, точно он целую неделю беспробудно пьянствовал. Выпучив большие черные глаза, он громко сказал:
– Пусть будет здоров господин полковник!
Начался прием коней аула Гоша.
Артык, позабыв спешиться, стоял в стороне и наблюдал. То, что произошло с рябым, привело его в ярость. Теперь он со страхом ожидал своей очереди. В голове проносились сотни различных мыслей. Он стал уже думать, что напрасно не продал коня волостному, когда тот добивался этого через Бабахана. И тут же, с ненавистью посмотрев на старшину и Ходжаму-рада, подумал: «Нет, лучше уж помучиться, чем отдать гнедого таким негодяям!» Но по мере того, как приближалась его очередь, решимость все больше оставляла его. Он уже раскаивался, что так слепо повиновался приказу и приехал. Вдруг он услышал возле себя голос глашатая:
– Если ты Артык Бабалы, веди коня!
Гнедой Артыка привлек общее внимание. Все окружили его. Даже полковник встал со своего места и подошел. Конь стоял, настороженно прижав уши, и казался смирным. Но когда врач вздумал погладить его по крупу, гнедой чуть не лягнул его. На левой ноге у коня с внутренней стороны была небольшая шишка. Лошадник-туркмен не обратил на нее никакого внимания, но врачу она не понравилась. Через переводчика он обратился к Артыку:
– А ну-ка подними ногу коню!
Когда Артык исполнил приказание, врач протянул палец к голени коня и спросил:
– Это что?
Артыку не хотелось отвечать. Но после повторного вопроса он угрюмо ответил:
– Если не знает сам доктор, откуда мне знать?
Врач пристально посмотрел на Артыка:
– Сознайся, – бил по ноге палкой или привязывал камень?
– Ну, если бил, – так узнай!
Не решаясь высказать что-либо определенное о шишке на голени, врач вопросительно посмотрел на туркмена-лошадника. Тот хотел объяснить, что это пустяковый нарост на кости, но в это время услышал сзади предупреждающее покашливание и оглянулся: волостной Ходжамурад подмигивал ему, щурил глаз. «Должно быть, волостной хочет освободить этого коня», – подумал он и ничего не сказал врачу. Когда же полковник, сняв пенсне, самолично осмотрел шишку на голени и спросил, что это такое, лошадник ощупал голень и, украдкой взглянув еще раз на волостного, сказал:
– По-моему, порок.
Эти слова обрадовали Артыка: он решил, что его гнедого могут отпустить. Сделав два шага вперед, он обратился к полковнику:
– Баяр-ага, твои доктора, оказывается, знают свое дело. Мой конь – калека. Он иногда по нескольку дней хромает. Бывает и так: скачет во весь опор и вдруг сразу остается на трех ногах. Если возьмете его, не поверив мне, – причините вред царскому солдату. Вдруг конь захромает в опасном месте и выдаст отважного джигита в руки врага...
Артыку казалось, что он сказал вовремя и уместно. Действительно, после того как эти слова были переведены, полковник махнул рукой и сказал:
– Иди!
– Спасибо, баяр-ага! – радостно проговорил Артык и стал поворачивать коня.
Но не успел он сделать и шагу, как волостной Ходжамурад заговорил с полковником по-русски:
– Господин полковник, если конь не годится для царского солдата, он пригодится для вашего слуги. Прошу вас оставить его.
И тотчас же, как удар грома, прозвучало в ушах Артыка:
– Стой! Подойди сюда!
Артык оглянулся. Полковник сгибал и разгибал указательный палец, и Артык понял, что этим знаком баяр манит его к себе. Все сразу померкло в его глазах. Только что он видел, как мчится галопом на гнедом мимо кибитки Айны; как бежит ему навстречу Шекер и виснет на шее; как мать, обрадованная возвращением его на коне, по-праздничному осыпает его лепешками. Вместо того он увидел перед собой тучную фигуру полковника, бегающие глаза волостного, хитрое лицо старшины. Радость потухла в глазах Артыка, плечи опустились. Тяжелым, медленным шагом подошел он к столу. Полковник что-то сказал на непонятном Артыку языке. Толмач перевел:
– Джигит-молодец, твой конь принимается.
Чернобородый лошадник взял гнедого под уздцы, и Артык выпустил повод из рук.
Волостной Ходжамурад еще раз обошел вокруг коня. Взглянув на Артыка, он решил показать себя благодетелем:
– Ты счастливо отделался, парень. Врач сказал, что ногу коню ты попортил умышленно, а баяр поверил ему. Ты видел, как поступают с теми, кто наносит увечья коню? Будь благодарен своему арчину: он защитил тебя, а я поддержал. Я сказал, что шишка на ноге коня – слепой отросток кости...
Приветливые слова Ходжамурада успокоили Артыка. Думая, что волостной действительно хочет ему добра, он с надеждой обратился к нему:
– Спасибо, волостной-хан! Спасибо за доброе слово. Отпусти моего коня, это в твоей власти.
Волостной возмутился:
– Вот, ей-богу! Делай после этого людям добро. Что ж, мне из-за твоего паршивого коня садиться в тюрьму?
Старшина Бабахан с упреком сказал:
– Ты, мой милый, не понимаешь, из какой беды тебя выручили. Если бы не волостной, тебя постигла бы такая же участь, как рябого.
Артык понял, что его обманывают. Вне себя от гнева он сжал кулаки и, в упор посмотрев на Бабаха-на, возмущенно воскликнул:
– Лучше бы мне получить от вас оплеуху и попасть в тюрьму, чем лишиться коня. Во сто раз лучше, чем то, что вы сделали со мной!
Полковник, услышав гневный голос Артыка, удивленно спросил:
– Что там еще? Джигит-молодец недоволен?
Волостной объяснил:
– Старшина сказал ему, что он умышленно попортил ногу коню. Парень не виноват, поэтому и рассердился.
– Хорошо! Якши!
Всем принятым лошадям ставили тут же тавро, но гнедого как поврежденного пропустили. Однако подавленный горем Артык даже не заметил этого. Когда гнедого расседлали и повели, волостной еще раз окинул его взглядом. Конь высоко держал голову; его круто подобранная шея выгибалась дугой, шерсть лоснилась и отливала золотом. Волостной о чем-то поговорил с полковником и, улыбаясь в усы, обратился к Артыку.
– Вот что, джигит-молодец. Баяр ага оценил твоего коня в сорок рублей. Волостные согласны с этой ценой. Мы не станем мучить тебя бумажками. Вместо квитанции старшина сам привезет тебе деньги.
Артык взвалил на плечи седло, бросил ненавидящий взгляд в сторону приемщиков и пошел прочь, шатаясь, как пьяный.
Глава тринадцатая
На окраине города, у самой железной дороги, стоял небольшой беленький домик, обнесенный с трех сторон глинобитной стеной, а с четвертой – деревянным заборчиком. Двор был невелик. Один угол его занимал сарай с кормушкой для коровы, в другом лежал сложенный штабелем сухой кизяк. Перед открытой терраской росло несколько деревьев, под ними стоял потемневший от времени круглый стол на одной ноге. За столом сидело двое мужчин; полная светловолосая женщина хлопотала по хозяйству.
Один из мужчин был хозяин дома – Иван Тимофеевич Чернышов. Это был крепкий широкоплечий человек лет сорока. Темные, почти черные волосы его были зачесаны назад без пробора, длинные темно-русые усы свешивались кончиками к подбородку, из-под густых нависших бровей поблескивали живые карие глаза. Левой рукой, лишенной двух пальцев, Иван Тимофеевич держал между коленями темную бутылку, а правой ввинчивал в пробку штопор, не переставая оживленно разговаривать с гостем, маленьким, щуплым человеком с русой бородкой, редкими рыжеватыми волосами и впалыми щеками. Голос у гостя был слабый, синие глаза смотрели тоскливо. Временами он начинал кашлять, хватаясь рукой за впалую грудь. Когда хозяйка поставила на край стола медную кастрюлю и открыла крышку, гость придвинулся поближе к тарелке и сказал:
– Анна Петровна, сегодня я ваш нахлебник!
– Полно вам, Василий Дмитрии, – радушно отозвалась хозяйка. – Какой вы нахлебник? Бываете так редко... Кушайте на здоровье!
Она налила в тарелку борщ и поставила перед гостем.
Иван Тимофеевич наполнил два стакана вином и один протянул Василию Дмитриевичу. Тот вопросительно посмотрел на хозяина:
– А Анне Петровне?
Иван Тимофеевич взглянул на жену, на вино в бутылке и потянулся к чашке:
– Хватит и ей.
– Мне не надо, – сказала Анна Петровна. – Я ведь не пью, Василий Дмитриевич.
Но Иван Тимофеевич вылил остаток вина в чашку и поставил перед женой:
– Выпей, Анна. Теперь у нас не часто бывает такой обед.
Чокнулись. Мужчины залпом опорожнили свои стаканы, Анна Петровна только пригубила чашку. Иван Тимофеевич положил в рот кусочек черного хлеба, хлебнул борща и заговорил с гостем:
– Знаешь, Василий, вчера у меня была получка. Говорю жене: «Давай-ка, Анна, сготовь завтра получше обед да бутылочку вина купи по случаю праздника». А она все о своем: «Ты бы лучше, говорит, не о праздничных обедах думал, а о том, как бы сколотить деньги на коровенку!» С тех пор, как прошлой зимой продали корову, у нее только и разговору об этом. «Ну что ж, говорю, скопи, если можешь. Я же тебе отдаю всю получку. По кабакам не хожу, а уж когда получка...»
– Ну уж и получка, – с неудовольствием проговорила Анна Петровна. – Твоей получки скоро и на хлеб не хватит. На рынке вон как все подорожало.
Чернышев вытер усы и снисходительно улыбнулся:
– Что ж мне теперь – спекулянтскую лавочку на базаре открыть? Или идти к туркменским баям овец пасти?
– Я этого не говорю, но ты можешь зарабатывать больше. Тебя на хлопковый завод звали?
– Это к армянину-хозяину? Василий вон знает эту бестию. Попади ему только в лапы, – всю кровь высосет. Нет, уж лучше я на паровозе останусь.
– Тогда прибавки проси. Небось не отпустят, накинут десятку-другую. Не больно-то много здоровых мужчин осталось. А ты – машинист.
Чернышов громко расхохотался:
– Вот ты и поговори с ней! Начнет с коровы, кончит обязательно тем, что я мало зарабатываю.
– Корова себя всегда прокормит, да и тебе останется, – возразила Анна Петровна. – Вот если добьешься прибавки, обязательно буду копить на корову.
– Чудачка ты, Анна, – уже серьезно заговорил Чернышов. – Говоришь, накинут десятку. Мне на кинут, другому накинут, а на что же баре-господа да спекулянты будут жить в свое удовольствие? А теперь и война вдобавок. Кто будет содержать миллионные армии? Это ведь наш брат, рабочий, крестьянин, отдает все свои силы и кровь на эту проклятую войну. Ты вот сколько лет живешь со мной, а таких простых вещей не понимаешь. Накинут! Петлю они накинут на шею нашему брату, да и затянут потуже.
– Да и накинут что к заработку, так невелика корысть, – вмешался в разговор Василий Дмитриевич, уже покончивший с борщом и жевавший хлеб и перышко зеленого лука. – Накинут десятку, Анна Петровна, а цены поднимутся на две. Деньги теперь печатают вовсю, бумаги хватает. А бумага – она бумага и есть. Деньги дешевы, хлеб дорог.
Анна Петровна, собирая тарелки, хотела что-то сказать, но в этот момент у ворот раздались шаги.
– А вот и еще гость! – улыбнувшись, сказала она, когда распахнулась калитка.
Иван Тимофеевич обернулся:
– А, Артык! – и поднялся навстречу. – Добро пожаловать!
Артык подошел, сбросил с плеча седло и поздоровался. Лицо у него было измученное, глаза печальные, и весь он выглядел разбитым, расслабленным. Иван Тимофеевич сразу понял, что у Артыка, обычно веселого и живого, какое-то несчастье. Он усадил Артыка рядом с собой, взглянул на седло и спросил по-туркменски:
– Что, Артык, конь не пошел? Или продал?
Иван Тимофеевич любил коня Артыка. Когда Артык, приезжая, ставил гнедого у ворот, Чернышов вы-ходил с ломтиком хлеба, иногда с кусочком сахару, и гнедой ласкался, наклонял голову с белым пятном.
Артык вздохнул и ответил не сразу. Он взглянул на то место у ворот, где обычно привязывал гнедого, и еле выдавил из себя:
– Нет у меня больше коня. Забрали.
Анна Петровна, хоть и не очень хорошо понимала по-туркменски, всплеснула руками:
– Украли? – переспросила она.
– Нет, не украли, а взяли силой, – ответил ей по-русски Василий Дмитриевич. – Это называется – реквизиция.
– Все поборы да сборы, – когда это кончится? – покачала головой Анна Петровна и, взяв со стола пустые тарелки, пошла к очагу.
Чернышев знал, чем стали военные поборы и реквизиции для дейхан: туркмены не отбывали воинской повинности, зато налоги на крестьян в Туркмении были еще выше, чем в России. Понимал он и то, как тяжела была для Артыка потеря единственного коня, и не знал, чем утешить парня. Обычные слова сочувствия только обидели бы молодого, горячего туркмена, видимо сильно расстроенного всем пережитым.
Когда Анна Петровна вернулась к столу с котлетами, Василий Дмитриевич, стараясь по-своему облегчить тяжелое состояние Артыка, говорил по-туркменски:
– Гость, ты смирись! Ты молод, здоров, тебе пока еще ничего не страшно. А огонь войны чего не захватит, чего не сожрет? Ты спроси у меня! Мой старший брат погиб на войне с японцами в Порт-Артуре. Другого брата после войны и революции пятого года бросили в тюрьму, а потом сослали в Сибирь. Там он и умер, схватив чахотку. Еще один брат, моложе меня, ушел на войну с немцами и убит под Варшавой. А самый младший брат тоже больше года, как ушел на фронт, и полгода уже нет от его никаких вестей. Одна мать перенесла столько жертв. Вот что такое война! А за что льется русская кровь, ради чего? Ради счастья родины? Как бы не так! За родину и я бы своей жизни не пожалел... – он отвернулся и долго кашлял, хватаясь руками за впалую грудь. Лицо у него посинело, руки тряслись.
Приступ кашля прошел, но Василий Дмитриевич уже не мог говорить. Тяжело дыша, он вынул из кармана коробочку с махоркой и дрожащими пальцами стал свертывать цигарку. Он даже не заметил, что Анна Петровна уже поставила перед ним тарелку с котлетой.
Артык, не сводя глаз, смотрел на Василия Дмитриевича, на его встрепанные рыжеватые волосы и бледное, худое лицо, на кургузую парусиновую куртку с обтрепанными рукавами и на растоптанные до дыр брезентовые туфли. Несчастья, выпавшие на долю одной семьи, поразили его. Действительно, это не потеря папахи или кибитки. Артык забыл о коне. Ему было жаль этого несчастного, обездоленного человека, хотелось спросить его: «У тебя есть еще брат?» – но так он и не спросил и только смотрел, с какой жадностью тщедушный человек глотает табачный дым.
– Артык, что же ты? – раздался над его ухом голос Анны Петровны. – Есть, есть надо! – она показала на тарелку с двумя маленькими котлетками и желтоватым от соуса рисом. – Да и вы бросайте курить, Василий Дмитрич, – обратилась она к другому гостю. – Хватит уж вам растравлять грудь табачищем-то!
– Нет, Анна Петровна, вы этого не понимаете, – отозвался Василий Дмитриевич. – Покуришь, – оно как будто и легче на душе становится.
Впрочем, он тут же обкуренными пальцами загасил цигарку и принялся за еду. Вслед за ним взялся за вилку и Артык. Он почувствовал сильный голод. Захотелось взять руками комки рубленого мяса и отправить в рот один за другим. Но русские не понимают этого удобного способа еды. Приходилось ковырять котлетку трезубой вилкой, осторожно нести небольшие комочки ко рту, а когда они сваливались с вилки, подхватывать их левой рукой и класть обратно в тарелку. Анна Петровна сжалилась, наконец, над Артыком и дала ему ложку.
А Василий Дмитриевич опять заговорил:
– Жив я или умер – семье не лучше и не хуже. Какое жалованье у будочника? Не хватает даже на хлеб. А семья большая. Не во что одеть ребятишек. Они у меня худые, как неоперившиеся галчата. Только и живу надеждой, что снова, как в пятом году... – Он неожиданно оборвал свою речь и обратился к Артыку: – Так что ты не особенно горюй, парень. У тебя если и возьмут лошадь, даже если отнимут кибитку, голова цела останется. У тебя все живы и здоровы. А если...
Он не договорил и махнул рукой, но Артык понял недосказанное: «Если война будет продолжаться, то и тебе несдобровать».
Видя, с каким вниманием Артык слушает Василия Дмитриевича, заговорил и Чернышов, хотя ему трудновато было говорить по-туркменски:
– Вот будешь знаком теперь, Артык, и с Василием Дмитриевичем. Фамилия его – Карташов, похожа на мою. Мы с ним давние друзья. Он работает путевым обходчиком на железной дороге. Его будка – первая от города. Когда я проезжаю мимо на паровозе, он машет мне своим зеленым флажком, а я ему картузом. Он человек открытого сердца. Если будет по пути, заходи к нему. Хоть он и беден, но для гостя всегда богат.
Василий Дмитриевич горько улыбнулся. Коркой хлеба он добирал со дна тарелки капельки масла, похожие на птичий глаз. Анна Петровна видела, что гость не наелся, но, кроме чая, угощать больше было нечем.
– Иван, – сказал Карташов, отдавая тарелку, – раз уж ты решил нас знакомить, так расскажи, кто этот гость из аула.
– Это Артык Бабалы из аула Гоша, – сказал Иван Тимофеевич по-туркменски и продолжал по-русски: – Ты познакомься с ним поближе, Василий. Это интересный парень, ради дружбы и за правду, как он ее понимает, пойдет на все. Я знаю Артыка уже четыре года. Как-то, помню, вез он на своей кобыленке солому, а я купил ее для коровы. Вот тогда мы и познакомились. Теперь, когда он приезжает на базар, обязательно заходит. Он знает, что я обижусь, если не зайдет. Мы стали друзьями. Иногда я подолгу беседую с ним, рассказываю газетные новости...
– Сводки о положении на фронтах? – перебил Василий Дмитриевич – Стоит забивать голову парню этой чепухой. Врут ведь отчаянно. Ты бы лучше пояснил ему насчет собственного положения и отношения к войне.
– Говорим и об этом. Он уже начинает кое в чем разбираться. Скажи, Артык, – спросил Иван Тимофеевич по-туркменски, – Халназар-бай тоже отдал лучших своих коней на войну?
– Нет, – ответил Артык. – Мелекуш и рыжий иноходец благополучно стоят у его дома.
– Почему?
– Потому что он бай, – не задумываясь, ответил Артык и добавил: – Потому что такие негодяи, как наш арчин-хан и волостной-хан, едят его хлеб.
– Вот видишь! – воскликнул удовлетворенный ответом Иван Тимофеевич. – Значит, Артык, – опять заговорил он по-туркменски, – тебе еще придется повоевать.
– Иван, ты говорил, война скоро кончится, – не понял Артык.
– Я говорю о другом – о борьбе против царя и баев.
Артык опять не понял его и спросил:
– Как это – против белого царя?
– Да, – ответил Иван Тимофеевич. – Кто доволен царем? Ты? Я? Или вот мой друг Василий?
– Халназар-бай им доволен!
– Верно, Артык. Вот про это я и говорю. Один богатый, сто бедных. Один за царя, сто против него. За царя – баяры и баи, против него – весь народ. Конечно, баяры и баи не идут на войну. И воюет бедняк, и кровь проливает бедняк. А на что война бедняку?
Артык не нашелся, что ответить, ответил за него сам Иван Тимофеевич:
– Солдат теперь хорошо понимает, за что ему воевать. Настало время, когда он одной пулей должен сразить и внешнего врага и внутреннего.
– Тогда я сяду на коня, – сказал Артык и невольно вздохнул: – Жаль вот, коня нет...
С вокзала донеслись частые удары колокола, извещая о выходе с соседней станции поезда. Василий Дмитриевич вскочил на ноги и стал прощаться:
– Анна Петровна, спасибо за обед! Иван Тимофеич... – Карташов запнулся. Ему хотелось пригласить к себе, но он знал, что угостить друзей будет нечем.
Анне Петровне стало жалко его.
– Кнам заходите почаще, – сказала она. – Да посидели бы еще. Сейчас самовар будет готов.
– Куда торопиться, Василий? – стал уговаривать его и Чернышов. – Сиди, чайку попьем.
– Нет, не могу, – решительно отказался Василий Дмитриевич. – Мой сменщик работает только до восьми. Если опоздаю, плохо мне будет... Ладно, будьте здоровы! Артык, будешь в наших местах, заходи! – Нахлобучив на голову сплющенную, с широкими окантованными полями фуражку и торопливо распрощавшись, он мелкими шажками побежал к воротам.
Чернышов сел на свое место и о чем-то задумался. Артык молчал.
Анна Петровна поставила на стол желтый кипящий самовар. Он был сильно помят, стоял на трех своих ножках и одной деревяжке, но это не мешало ему петь и выбрасывать пар под самое небо.
– Да, война... – задумчиво продолжал Иван Тимофеевич прерванный разговор. – Сколько убитых и искалеченных, сколько вдов и сирот! А ради чего несет народ столько жертв? Я участвовал в русско-японской войне. Тогда мы не знали, за что воюем. Было одно – слушай офицерскую команду да повторяй, когда спросят: «За веру, царя и отечество». Не согласен – помалкивай. Конечно, для солдата приказ офицера – закон. Но часто приказы начальства казались нам глупыми. Гоняли нас без толку с места на место. Не столько дрались, сколько отступали. В одном бою близко от меня разорвалась японская шимоза. Одним осколком два пальца на руке оторвало, другим, как ножом, по животу полоснуло. Попал в лазарет. Отлежался немного, раны зажили – домой отпустили. До войны я работал кочегаром на паровозе. Вернулся работать на железную дорогу. Вот тут-то и началось! Народ поднялся и против войны и против царя. Нашлись умные люди, которые все объяснили. Узнал я тогда всю правду, словно прозрел, снова взял в руки оружие и пошел с рабочим народом воевать за лучшую долю.
– Против баяр и баев? – спросил Артык.
– Да, и против царя.
– И царь вас победил?
– В тот раз победил, – вздохнув, ответил Иван Тимофеевич. – Много еще было темных людей и в войсках и среди вашего брата – дейхан. Царские генералы пулей и нагайкой усмиряли народ. Много тогда погибло хороших людей, много гибнет и сейчас. Одних расстреляли, других бросили в тюрьмы, третьих послали умирать в снега Сибири или вот сюда, в пески Туркестана. Видал вон, что стало с Карташовым? У него слабая, больная грудь, а его послали дышать пылью пустыни. Сначала его поселили в песках Уч-Аджи, там он работал чабаном у ваших баев. Потом ему разрешили поселиться с Душаке, но тут для него немногим лучше. Тает человек на глазах.








