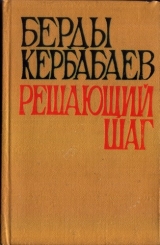
Текст книги "Решающий шаг"
Автор книги: Берды Кербабаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 55 страниц)
Глава восьмая
Солнце коснулось подбородком земли и, краснея, опускалось все ниже, похожее на пшеничный чурек с отломленным краем. Ветер стих, неподвижный воздух был раскален. Над аулом висела пыль, поднятая стадом. Коровы, шагавшие к своим загонам, вопросительно мычали, и телята на привязи радостно отвечали им. Громко ржали кобылицы, возвращаясь с поля со своими жеребятами. С северной стороны, громогласно возвещая о себе, к аулу двигалось стадо верблюдов. На западной окраине аула, задрав хвосты и издавая трубный рев, бегали друг за другом ослы. Слышался посвист погонщиков, резкие окрики хозяев, поворачивавших скотину к своим загонам.
Густой дым от очагов постепенно сливался с темнеющим вечерним небом. У всех кибиток горели костры, на таганах стояли чугунные котлы и закопченные кувшины. Женщины суетились возле очагов. Со стороны мечети уже слышался призыв к вечерней молитве.
Нурджахан, поставив на таган котел с водой, присела на кошме у порога кибитки. Ее тринадцатилетняя дочь Шекер подбросила в костер сухого хвороста и побежала привязать теленка.
Совсем близко раздалось ржание гнедого. Нурджахан оглянулась и увидела подъехавшего Артыка. Соскочив с коня, Артык снял вьюк травы, притороченный сзади к седлу, серп и лопату. Потом расседлал коня и поставил седло у входа в кибитку.
– Как здоровье, сынок? – спросила Нурджахан, не отрываясь от работы.
– Я здоров, мама, спасибо, – ответил Артык.
Он повесил папаху, уздечку и камчу на суковатый столбик; сняв халат и кушак, бросил их под подушку и некоторое время наблюдал за работой матери.
Нурджахан быстро и ловко резала лапшу на деревянном кружке.
Артык опустился на кошму и оперся локтем на подушку. Шекер принесла ему чай.
– Спасибо, сестренка. Скоро привезу тебе дыньку. Есть уже с кулак величиной.
Шекер и недозрелым дыням была бы рада, но больше всего ее радовала возможность поговорить с братом. Она присела возле него, и между ними начался обычный шутливый разговор.
Когда Артык во второй раз наполнил пиалу зеленым чаем, Нурджахан спросила:
– Ну, как там посевы, сынок?
– Посевы, мать, хороши, лучше и желать не надо. Пшеница теперь напилась воды вдоволь. Ячмень поднимается густо, хлопок показывает ушки. Не сегодня-завтра и кунжут выбьется из-под земли.
Нурджахан запустила лапшу в котел и, стряхнув с кружка муку, стала рассказывать сыну новости.
– Знаешь, сынок, – начала она, – сегодня был у нас Халназар-бай и его люди. Прямо как побирушки какие-то. Даже неловко, когда такие почтенные люди обращаются к тебе с этим...
– У них только и дела, что поборы да сборы, – безразлично заметил Артык. Но тотчас у него шевельнулось подозрение. Он пытливо взглянул на Шекер и с тревогой спросил: – Ну, и что ты сказала им, мать?
– Не брани, сынок, я не могла противиться...
Артык подумал: «У баев совести нет. Может, Халназар приходил сватать Шекер за своего вдового сына?..» И, не докончив своей мысли, спросил: – Мать, я ничего не понимаю,– что ты хочешь сказать?
– Я, сынок... отдала твою папаху.
Артык облегченно вздохнул:
– Папаха понадобилась! Что ж, чем бы долги ни платить, все равно платить.
– Нет, сынок, говорят, папахи нужны для царских джигитов. Говорят, что там, где идет война, очень холодно. У бедных джигитов пообморожены уши.
– Ну и хорошо сделала, что отдала,– сказал Артык.– От этой беды все равно не уйдешь.
В это время гнедой громко заржал. Артык поднялся и, отойдя от кибитки, посмотрел на дорогу. В сгустившихся сумерках уже ничего нельзя было разглядеть. Он вернулся на свое место и стал ужинать, но плохо слушал, что говорила мать. Гнедой, напомнив о себе, как всегда изменил течение мыслей.
Когда Артык смотрел на своего коня, он не считал себя бедным. Он обзавелся им после смерти отца. До этого у него была низкорослая кобыленка с бельмом на глазу и редким хвостом, всегда отвернутым в сторону. Артык стеснялся показываться на ней. При встрече резвые кони неистово ржали, а товарищи насмехались:
– Артык, да убери ты свою кобылу, что ты беспокоишь коней!
– Артык, пришей хвост своей поганой кобыле!
Эти злые шутки больно задевали Артыка, и он решил во что бы то ни стало избавиться от кобылы и обзавестись настоящим конем. Он отдал кобылу и в придачу к ней последний материнский ковер, бычка, старинное дедовское ружье, свой шелковый красный халат, на который когда-то с трудом скопил деньги, и, пообещав еще шестьдесят батманов пшеницы после молотьбы, приобрел великолепного гнедого жеребца.
Теперь уже никто не смеялся над Артыком и при встрече ему уступали дорогу. Конь стал в жизни Артыка самым большим событием, его радостью, утешением, и Артык любил своего гнедого: сам не ел, а его кормил, в корм подмешивал яйца. Оттого и лоснилась золотистая шерсть на коне, оттого он и был так резв и игрив.
Одна мечта Артыка сбылась, но появилась другая: Айна... Мысли о ней не покидали его. Она являлась ему во сне. И в те дни, когда ему не удавалось ее увидеть, он не находил себе места. Но и когда встречал ее и перебрасывался двумя-тремя словами, сердце билось еще тревожнее. Вот и сейчас, думая об Айне, о своей встрече с ней, он не чувствовал вкуса пищи и часто совсем невпопад отвечал матери.
Нурджахан, видя задумчивость сына, не тревожилась. Она понимала, что Артык созрел для переживаний мужчины, и угадывала его мысли, однако не решалась давать ему советы. Из года в год она ждала хорошего урожая, ждала облегчения, но жить становилось все труднее. Сердцем матери она чувствовала, что Артык любит дочь Мереда и что та расположена к нему. Ей и самой хотелось бы назвать Айну своей невесткой. Однако она не верила, что сможет начать сватовство, даже если будет в силах выплатить калым,– она была беднее Мереда. Единственная надежда была на то, что скоро подрастет Шекер и ее калым позволит справить свадьбу Артыка. А может быть, думала она, лучше и ее отдать в одну семью – за брата девушки, которую Артык возьмет себе в жены.
После вечерней молитвы Нуруджахан легла, но ей не спалось. Облокотившись на подушку, она долго лежала так, думая о своей жизни.
Никогда Нурджахан не знала довольства и счастья. Когда ей было двенадцать лет, ослепла мать, и все домашние работы легли на ее плечи. От тяжелой тыквы, в которой она носила воду, болели ее неокрепшие плечи. Ей нелегко было в холод и в зной печь чуреки, нагнувшись над раскаленным тамдыром, еще труднее было стирать заношенную одежду. На шестнадцатом году ее выдали замуж за чабана.
Со временем Нурджахан полюбила Бабалы, отца Артыка, и тот привязался к ней. После женитьбы Бабалы еще в течение многих лет пас отары байских овец. Однажды, в дни новруза, с запада надвинулись черные тучи и заволокли все небо. К вечеру разразился ливень, а ночью подул леденящий северный ветер. Дождь лил трое суток. Даже войлочная крыша и стены кибитки насквозь промокли. Тревожась за Бабалы, Нурджахан потеряла покой. «Во всем мире, – подумала она,—не осталось сухой былинки. Он не сможет разжечь огонь, не сможет согреться и высушить одежду. Может быть, он погиб?..»
Как только погода улучшилась, баи поехали в степь. Их беспокоила судьба отар. На третий день чужой всадник привез и сбросил у порога кибитки бездыханное тело Бабалы. Он нашел пастуха в солончаках, на краю песков.
Вспомнив прошлое и пережитое, Нурджахан вдруг почувствовала тревогу за будущее. «О боже, – взмолилась она, – все в твоей воле! Помоги мне и детям моим! Пусть они не знают того, что выпало мне на долю...»
Из-за кибитки показался человек в одной рубахе и тюбетейке.
– Час вечерний хорош! – сказал он останавливаясь.
– Хорош тот, кто пришел! – ответил Артык, приподнявшись на локте. – Ашир, проходи садись.
Ашир растянулся на кошме возле Артыка. Друзья заговорили о посевах, потом о податях, о сборе папах. На звук голосов вышел из своего шалаша Гандым, сосед Артыка.
Ашир расковырял пальцами землю, выплюнул в ямку изжеванный табак и недовольно проговорил:
– Так затянулась эта война, и чем она кончится? К Молла Дурды пришла газета. Там написано, что гер-маны напали на Варшов – город белого царя...
– Курбан ездил в город, – сказал Гандым. – Говорят, русские взяли Арзрум, город турецкого султана.
Ашир махнул рукой:
– Э, мало ли что говорят!
– Погоди, Ашир, – вмешался Артык. – Ты Ивана знаешь?
– Какого Ивана?
– Ивана Чернышова.
– А-а, твоего друга? Знаю.
– Так вот, бывая в городе, я захожу к нему.
– Ну, и что?
– Он тоже говорил, что германам, австриякам и туркам русских не победить.
– А ты верь ему!
– Почему же не верить?
– Овца овце хвост не откусит. Если даже белый царь терпит на войне неудачу, Иван тебе про это не скажет.
– Верно, – поддержал Ашира Гандым.
– Ашир, ты болтаешь что нужно и что не нужно, – хмуро проговорил Артык. —Кто такой Иван – знаешь?
– Он русский.
Артык рассердился:
– Он рабочий, у него ничего своего нет, даже коня! По-моему, лучше русский вроде Ивана, чем туркмен вроде нашего Халназара. В десять раз!..
Гандыму не понравились слова Артыка.
– Кхы! – откашлялся он и заговорил простуженным сиплым голосом: – Артык, ты хватил через край. Халназар – он как-никак свой, мусульманин, да и одного с тобой рода. В трудное время как-никак подсобит, не даст умереть...
– Гандым, что ты мелешь! – вдруг перебил Ашир.
– Облака и те ближе нам, чем такие люди, как Халназар-бай. Подсобит! Он тебя в затылок подтолкнет, если увидит, что зашатался. Помнишь, что он выкинул в позапрошлом году? Содрал за своего дохлого верблюда семьдесят батманов пшеницы, а когда нужда заставила нас продать его, дал только тридцать батманов, да еще с какими назиданиями! А в нынешнем году того же верблюда продал Аманназару за семьдесят пять батманов. Да жадней нашего Халназара нет!
– Вот это правильные слова, – подхватил Артык.
– А знаешь, что говорит Иван? Он говорит: «Что русский дейханин, что дейханин-туркмен – большой разницы нет, они сыновья одной матери, только отцы у них разные. И рабочий им – брат. Всех их до нитки обирают баи, баяры да царская казна. Ты, Артык, думаешь, – говорит он, – что только вашим дейханам тяжело приходится, только вас задавили налогами да поборами? Нет, говорит, русским дейханам еще труднее приходится. У вас, говорит, на войну забирают только коней да налогами, поборами разными разоряют, а русские дей-хане да рабочие и кровь свою проливают, жизни свои отдают». Для всех, видать, война – горе.
– Кому как, – возразил Ашир. – У Халназара добра не убавится, если б даже забрали Мелекуша, – одного отдаст, десять наживет. А дейханину потерять последнего коня – смерть. Гандым который год не может вылезти из своего шалаша, а у него тянут последнюю папаху с головы.
– И об этом я говорил Ивану, – продолжал Артык. – «Почему так?» – спросил я его. «А потому, говорит, что царь и баяры своих и ваших баев поддерживают, а нас с тобой и за людей не считают. Мы для них вроде рабочей скотины, мы трудимся, а они на наш труд живут, вкусно едят и сладко пьют. Захотят – бросят нам какие-нибудь крохи, не захотят, – не бросят... Вот я, говорит, машинист, неплохой джигит на своем железном коне. Днем и ночью, в стужу и в зной вожу поезда, а много у меня остается от заработка?..»
– Верно говорит твой Иван, – с задумчивым видом сказал Ашир. – У этого «джигита» одежда так ветха, что брось ее в огонь – не загорится... Да, так как же с войной? Когда она закончится, и кто победит? Ничего Иван не говорил об том? Артык ответил:
– Иван сказал так: «Войну ведет царь, баяры и генералы. Купцы и баи тоже стоят за войну: им она выгодна. А народу война не нужна. Солдаты – это те же дейхане, те же рабочие, взятые на войну по приказу царя. Зачем им воевать? Дейханские хозяйства разорены, рабочие семьи голодают. Если царь и баяры не захотят кончить войну, весь народ поднимется против них, как во время войны с японами. Но тогда будет конец не только войне, тогда и самому белому царю останется жить недолго», – сказал Иван, а он знает, что говорит. После войны с японами он сам... – Артык хотел еще что-то сказать, но вдруг замолчал.
– Вон он какой, Иван, оказывается! – удивленно проговорил Ашир. – Такие слова западают в голову...
Гандым все время, пока рассказывал Артык, молчал и внимательно слушал. Но тут его словно прорвало.
– Клянусь аллахом! – воскликнул он. – Эти слова бьют прямо в сердце. Между небом и землей у меня всего-навсего был один верблюд, – я радовался его реву. Только об одном думал: придет весна, отведу его в Мары, продам, и, может быть, поставлю себе кибитку. Да разве дадут до весны дожить!.. Теперь и дрова таскаю на своем горбу, и по-прежнему сидим в черном шалаше, давимся дымом.
– Ну так кто же тебе ближе, – спросил Артык, – Иван или Халназар-бай?
– Я не знаю Ивана, – ответил Гандым, – но в словах его – гнев моего сердца.
Долго еще изливал Гандым свои жалобы, не обращая внимания на то, слушают его или нет. Горестное сожаление о буро-красном верблюде давило его, только что начавшая заживать рана вновь заныла.
Гандым был старшим из четырех братьев. Всех их словно преследовала судьба. Один был подпаском; в зимние холода он обморозил руки и ноги, сильно простудился и заболел какой-то трясучей болезнью. Другого брата конь Меле-бая сбросил с седла, нога его застряла в стремени, и конь долго волочил по земле его мертвое тело. Третий брат пошел на заработки и пропал без вести. После всего этого сам Гандым несколько тронулся в уме, стал припадочным. Временами он терял рассудок, говорил бессмыслицу, дико и страшно смеялся.
Когда приезжали в аул за зерном караванщики-йомуды, Гандым купил у них двухгодовалого верблюжонка и вместе с женой и дочкой стал выхаживать его. Весной зеленая трава, зимой ветвистая колючка всегда лежали в кормушке верблюжонка. Рано утром и поздно вечером его кормили отрубями, скатанными в комочки, похожие на клубки шерсти. Верблюжонок рос, шерсть на нем стала буро-красной и вилась, как каракуль, на спине образовался горб. Скоро красный верблюд стал пригоден для работы: он таскал Гандыму хворост, пахал его землю, при перекочевке на другое место мог поднять весь его скарб, жену и ребенка. Слушая рев верблюда, Гандым чувствовал себя в своем шалаше защищенным от всех невзгод, будто в крепости. Но пушки войны разрушили эту крепость: старшина увел верблюда. Если после гибели брата Гандым плакал, то теперь он рыдал. Единственная утеха в жизни – верблюд, и тот был отнят. А у Халнязар-бая целый караван верблюдов, гремя колокольцами, возил людей и товары, зарабатывая деньги хозяину. Это видел Гандым, но сделать ничего не мог.
Вновь переживая всю боль, которую он ощущал, когда, шатаясь от горя, вел на приемочный пункт своего кормильца, Гандым вскочил на ноги, но тут же опомнился и снова сел.
– Иван правильно говорит! – хриплым голосом выкрикнул он.– Я досыта натерпелся и от белого царя и от арчина!
Артык и Ашир, позабыв о Гандыме, уже вели тихую задушевную беседу, поглядывая на крупные звезды. От неожиданности оба вздрогнули и рассмеялись.
Артык пошутил:
– Ну, дядюшка Гандым, если уж и ты против белого царя,– он обязательно свалится с трона.
– Обязательно,– невнятно пробормотал Ашир, пожевывая табак.
Но Гандым не слышал их. Горячая кровь билась в его жилах, и он, уже забыв, на кого сердится, с ненавистью глядел на весь мир. Поднявшаяся луна, заливая мягким светом вселенную, плыла по небесному морю. Легкий ветерок, кружась у кибитки, доносил запахи дыма и кизяка. Протяжно лаяли собаки в ауле, с дороги долетали обрывки разговора проезжих. Слышалась тоскливая, как плач, песня женщины, баюкающей ребенка.
Вдруг гнедой тревожно заржал. Артык и Ашир умолкли. Даже Нурджахан подняла голову и прислушалась. Гнедой продолжал ржать. Серый пес, лежавший у входа в кибитку, вскочил и с лаем бросился на дорогу. Показалась тень всадника, свернувшего с дороги. Выбежав навстречу, пес остервенело кидался на коня, не подпуская его к кибитке. Артык прикрикнул, но пес не унимался. Всадник вертелся кругом, размахивая плеткой. Тогда Артык встал и отогнал пса.
Всадник подъехал ближе и остановился. От коня шел пар. Обменялись приветствиями. Приехавший вытянул конец кушака и вытер им слезящиеся глаза. Артык, узнав, наконец, есаула арчинства, сказал:
– А, Кара, это ты? Слезай с коня, будешь гостем!
Кара, повертевшись в седле, похлопал плеткой по сапогам и тихо проговорил:
– Я не слезу и не сяду.
У Артыка от предчувствия чего-то недоброго пробежали по телу мурашки. Он хотел сказать: «Ну, если не хочешь слезать, так говори, с чем приехал?» – но язык не повиновался. Спросил за него Ашир:
– Ну, есаул, если не хочешь быть гостем, скажи, откуда и куда держишь путь?
Есаул опять постегал плеткой по сапогу и ответил уклончиво:
– Да мы что? Дни и ночи в разъездах. Все конь да камча... И то не поспеваем...
У Гандыма еще не прошел гнев, и он обрушил его на есаула:
– А моего верблюда куда девали... Теперь, если не сдерете шкуру с меня самого, то взять вам с меня нечего!
Есаул и без того не решался сказать, зачем приехал, а услышав гневный выкрик Гандыма, совсем растерялся и сказал глухим голосом:
– Дядя Гандым, я ведь только слуга. Что прикажет арчин, то и делаю, что велит, то и передаю народу.
Но Гандым уже не владел собой. Он и сам не заметил, как вскочил на ноги, зажал шапку под мышкой и закричал:
– Мало того, что вы обобрали меня кругом, вы и шапку с головы сорвали! Чего еще хочет от меня твой арчин? А ну, говори! Остался у меня только этот шалаш, так его и курица унесет на спине. Плюю я на твоего арчина, так и скажи ему!
Есаул молчал некоторое время, а потом сказал подавленным голосом:
– Ты, дядюшка Гандым, думаешь, я рад всему этому?
– А не рад, так какого шайтана ты льешь отраву в уши людей?
– У меня больные глаза, не могу ни пахать, ни сеять... Служу есаулом только потому, что не хочу, чтобы мои дети ходили с протянутой рукой.
Артыку хотелось заступиться за есаула. «Чем виноват Кара?» – думалось ему. Но какая-то тревога удерживала его. В это время порывистый ветер поднял пыль и бросил в лица стоявшим у кибитки. Не обращая на это внимания, Гандым провел ладонью по лицу и двинулся на есаула:
– Арчин ли, эмин ли, но верблюда вы проглотили?.. Подавиться бы вам, живоглотам!
Есаул уже и без того не решался сказать, с чем он приехал, а Гандым все кружил около него, заходя то с одной, то с другой стороны. Казалось, он готов был побить есаула. Артык знал, что у Кары целая орава детей ходит голышом, что он еле перебивается на свой пай воды, который получает вместо жалованья. Он считал ненужными наскоки Гандыма и все же молчал, страшась той вести, которую им, очевидно, предстояло услышать. Неизвестность и ожидание томили его. «Пусть лучше прорвется нарыв, раз он должен прорваться», – думал он, и в то же время ему хотелось, чтобы Гандым подольше отвлекал есаула своими выкриками. Волнение Артыка передалось и Аширу. Он только внешне сохранял хладнокровие. Нурджахан про себя твердила: «Минуй беда, пронесись череда!», суеверно плевала через плечо и тяжело вздыхала: «Дай бог, чтобы все обошлось благополучно!». Ашир, наконец, решился спросить есаула:
– Что ж, Кара, уже поздно. Если хочешь что сказать – говори!
Волнение Гандыма передалось и есаулу. Он видел и страх Артыка и тревогу Нурджахан. Он раньше всех пережил ту беду, которую привез. Потому-то он и опоздал, что не в силах был приехать с дурной вестью днем, засветло. Опустив голову, он сидел в седле неподвижно, словно застыв. Его короткохвостая серая лошадь переступала с ноги на ноги и грызла удила. Столб пыли, перекинувшись через лошадь, туманом заволок небо. Ветер усиливался. А есаул все медлил. Бессознательно он потянул повод. Конь попятился на шаг. В голове есаула мелькнула мысль – повернуть лошадь, прискакать к старшине и сказать: «Вот твоя бумага, я тебе больше не слуга!» Но перед глазами встали восемь голодных и оборванных ребятишек, всякий раз выскакивающих ему навстречу с криком: «Отец, отец приехал!» И он, словно решившись ринуться в омут, вдруг поднял голову и сказал:
– Артык, не завтра, а послезавтра ты должен отвести коня в город! – И, ударив лошадь нагайкой, помчался.
Сказанное есаулом ошеломило всех, никто не проронил ни слова. Только громко заржал гнедой да серый пес, спохватившись, кинулся догонять всадника.
Но есаул уже исчез в облаке пыли, поднявшемся над дорогой.
Глава девятая
Ровные, как высокие барханы, выстроились в ряд четыре кибитки Халназар-бая. Напротив средних кибиток стоял дом с террасой. По одну Сторону дома, в загоне, стоял рыжий иноходец, по другую вертелся на привязи вокруг своего кола Мелекуш. Позади кибиток виднелся загон для верблюдов, окруженный маленьким рвом и глинобитной стеной, в нем – небольшой стог оставшейся с зимы верблюжьей колючки. Дальше тянулись стойла ослов, коров и быков.
Были последние дни мая. В чистом небе сияло весеннее, не жаркое еще солнце.
Возле стойла Мелекуша, положив голову на лапы, лежал разомлевший на солнце большеротый пес.
Из дома, переваливаясь с ноги на ногу и завязывая на ходу штаны, вышел Халназар и направился к стойлу Мелекуша. В стойле было чисто, хоть вставай на колени и молитву твори. Но у ног коня валялся свежий помет. Халназар повернулся к кибиткам и крикнул:
– Э-э-й, кто там!
Из крайней черной кибитки выскочил молодой парень и подбежал к хозяину:
– Пред тобою, ага!
Сдерживая бешенство, Халназар неподвижным взглядом уставился на слугу. Это был невысокий парень в синих заплатанных штанах и грубой обтрепанной домотканой рубахе, затвердевшей от пота и стоявшей на нем колом. Чокай его были все в дырах и заплатах. Ничего этого Халназар не видел. Он видел перед собой только носатое широкое лицо с выпуклым лбом, ровно подстриженную, а спереди выщипанную рыжеватую бородку, короткие русые усы, голубоватые глаза, испуганно смотревшие на него из-под светлых длинных ресниц. Прежде чем заговорил Халназар, слуга боязливо промолвил:
– Бай-ага, что прикажешь?
Указав рукой на лошадиный помет, Халназар гневно сказал:
– Змеиного яду прикажу!.. Ты что – не видишь этого? Ослеп?
Парень стрелой кинулся к лопате, подхватил и убрал кучку помета и, страшась байского гнева, принялся подчищать землю в стойле, хотя подчищать больше было нечего. Мелекуш подошел к Халназару, облизывая губы. Тот погладил морду коня и, не оборачиваясь, крикнул:
– Мавы!
Мавы тотчас вытянулся в ожидании приказаний:
– Я здесь, бай-ага!
– Принеси молока.
Мавы принес огромную деревянную чашку верблюжьего молока. Мелекуш понюхал белую жидкость и, помотав головой, отвернулся. Потом, не обращая внимания на посвистывание Мавы, стал почесывать ногу копытом. В это время к стойлу Мелекуша подошла маленькая девочка, дочь Гандыма. Приподнявшись на цыпочках и вытянув худую шейку, она, моргая глазенками, смотрела на молоко, жевала губками и глотала слюну.
Мавы, чтобы подзадорить чесавшегося коня, опустил чашку пониже, на белом молоке заиграли солнечные лучи. Девочка расширенными, жадными глазами тянулась к молоку, словно видела перед собой сияние, осветившее ночь. Ей так хотелось этого молока... Незаметно для себя она очутилась между Халназаром и чашкой.
Халназар, удивленный тем, что Мелекуш. не пьет молоко, с беспокойством думал: «Нет ли какой болезни у коня?..» Вдруг он увидел девочку. Схватив ее за плечо своими толстыми волосатыми пальцами, он толкнул ее в сторону:
– Сгинь, чтоб тебя земля проглотила! Девочка упала, ткнувшись лицом в землю, в рот ей попал песок. Застонав от боли, она поднялась на ноги, отерла лицо рукавом и сплюнула: клейкая слюна была окрашена кровью. Испугавшись, она снова сплюнула и вытерла губы ладонью, – ладонь стала розовой. Тогда она, нахмурив тонкие брови, с ненавистью посмотрела на Халназара, на Мелекуша. Плечо, которое сдавил своими волосатыми пальцами бай, ныло. На черных, как бусины, глазах девочки показались слезы. «Ах, чтоб конь съел твою голову! Чтоб в твоей кибитке плескалась кровь!» – про себя осыпала она проклятиями бая и побежала к своему шалашу, сверкая маленькими пятками. Когда Халназар, покряхтывая, ушел в дом, Мавы вернулся к черной кибитке, сел в тени и опустил голову на ладони.
Мавы был из племени эрсари, родился и вырос на берегах Амударьи Вместе со старшим братом он зарабатывал на жизнь тем, что водил по реке байские барки с товарами. Иногда в этой тяжелой работа помогали ветер и парус, но чаше всего приходилось надевать лямку и тащить барку на бечеве по песчаному руслу реки. После того, как старший брат был убит, став жертвой алчности бая-хозяина, захотевшего прикарманить заработок своего бурлака, Мавы, опасаясь за свою жизнь, покинул родные места. Прошло уже четыре года с тех пор, как он поступил в работники к Халназару. За все это время он ни гроша не получил за свой труд. Когда Мавы напоминал о плате, Халназар-бай говорил: «Ты лучше помалкивай, цену тебе я сам знаю». Зато бай был щедр на обидные прозвища и ругательства. А сыновья его иначе как «сын свиньи» и не называли Мавы.
Из двадцати обитателей халназаровских кибиток только одно существо глядела на Мавы с жалостью: это была Мехинли, вторая жена Халназара. Мавы давно сбежал бы куда глаза глядят, если б не сладостные мечты о Мехинли – она была путами на его ногах.
Сидя в тени, он весь ушел в горькие думы. Неожиданно из-за кибитки вышла женщина и тихо окликнула его:
– Мавы!
Мавы поднял глаза и увидел, что возле него стоит, наклонившись, Мехинли. При виде ее улыбающегося лица он посветлел, голубоватые глаза его заблестели радостью. Мехинли спросила:
– О чем это ты задумался?
Чтобы проверить Мехинли, Мавы ответил:
– О чем мне думать? Что есть у меня?
Мехинли, не поняв намека, сказала простосердечно:
– Тогда скажи, о ком думал.
Но Мавы хотелось, чтобы Мехинли открылась первой, и он с притворной грустью проговорил:
– А кто у меня есть, чтобы думать о ком-то?
Мехинли вдруг застыдилась, закрыла рукою рот. По ее слегка вздрагивающим пальцам Мавы понял, что она волнуется. Улыбнувшись, он посмотрел ей прямо в глаза, она же, не в силах молчать, призналась:
– Я у тебя... – и закрыла лицо рукавом.
Горячая кровь закипела в жилах у Мавы, сердце забилось. Ему хотелось обнять Мехинли, но руки к этому не привыкли, язык не помнил ласковых слов. Помолчав немного, он спросил:
– Какое же я имею право думать о тебе?
– Если будешь таким нерешительным, потеряешь и право думать, – ответила Мехинли.
Эти слова прозвучали для Мавы сладкой музыкой. Оказывается, сама Мехинли считает, что он имеет на нее какое-то право! Но тут же, вспомнив о своем положении в доме Халназара, понял, что крылья у него подрезаны, и сказал:
– Если не поднесешь пищу ко рту безрукого, разве не останется он голодным?
– Да ты совсем ребенок! – засмеялась Мехинли и, чтобы приободрить Мавы, добавила: – Ребенок не заплачет – грудь не получит.
Мавы смутился.
– Ты... у тебя... – начал было он, но взглянул на Мехинли и умолк.
Мехинли опустила голову.
– А кто есть у меня?
Мавы хотелось ответить: «У тебя есть муж, есть твой Халназар». Но он вспомнил, что в доме бая с ней обращаются хуже, чем с собакой, и ответил вопросом:
– А у меня кто есть?
Они смотрели друг на друга, разговаривая глазами. Глаза женщины спрашивали: «Кто тебе еще нужен, когда у тебя есть Мехинли?» А глаза Мавы отвечали: «Ты моя, и я твой!»
Все же Мавы не мог отделаться от сомнений. Лицо его стало снова грустным, когда он подумал: «А Халназар?» Мехинли это поняла. Чтобы приободрить Мавы, она протянула руку и хотела погладить по грязной тюбетейке, как вдруг раздался голос бая:
– Мавы, э-э-эй!
– Пред тобою, ага! – вскакивая на ноги, крикнул Мавы и со всех ног пустился к дому.
Словно выпустив птицу из рук, Мехинли растерянно посмотрела ему вслед. Потом вдруг плотно прикрыла рот яшмаком и в страхе огляделась вокруг. Не увидев поблизости никого из мужчин, она села на место Мавы и задумалась.
Мехинли еще в младенческом возрасте осталась круглой сиротой, росла в семье дяди и с детских лет несла на себе всю тяжесть домашней работы. Когда она еще не заплетала косичек и волосы ее развевались, подобно усикам маиса, ее звали Майса. В голодный год дядя отдал ее Халназару за чувал пшеницы и два чувала ячменя. После того, как она попала в лапы бая, ее имя «Майса» было забыто. Так как она была из крепости Мехин, ее стали звать мехинкой – Мехинли, а это звучало, как «рабыня». Теперь только Мавы иногда звал ее нежным именем «Майса», и она, когда слышала это имя, с болью думала о загубленной молодости: «Ах, отчего я не попала к Мавы! Может быть, тогда я и осталась бы Майсой, расцвела бы, заколосилась и принесла зерна?!»
Когда Халназар впервые увидел мехинку, она не понравилась ему. Однако калым был настолько ничтожен, что он взял ее: «Авось пригодится для черной работы». Но когда Мехинли немного отъелась, щеки ее посвежели и округлились, как сочный плод, Халназар пришел к ней и вдоволь натешил свое жирное, волосатое тело,– так красная курочка попадает в капкан, так грязный шакал терзает ее. Однако старшая жена Халназара скоро прекратила его прогулки к мехинке. «Чего тебе не хватает? – говорила она. – У тебя есть сын, у тебя есть дочь. Как тебе не противно пачкать о нее свою чистую кость! Лучше б ты благодарил бога за то, что он тебе дал, и радовался своему богатству». Эти наставления старшей жены дошли до Халназара. Мехинка все чаще стала попадаться ему на глаза в старой, грязной одежде. Со временем она перестала казаться ему и женщиной. Теперь он обращался с Мехинли, как с рабыней, зло выкатывал глаза при разговоре, обзывал бранными словами. Бывало, что и ременная плеть ходила по спине молодой жены, выполнявшей в доме всю черную работу.
При воспоминаниях о всех обидах и унижениях, которым она подвергалась в доме Халназар-бая слезы туманом застилали глаза Мехинли. Она считалась женою бая, а положение ее в байском доме было не лучше, чем у Мавы.








