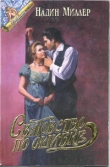Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 49 страниц)
Теперь, когда шло мое судебное разбирательство, он регулярно выступал с политическими комментариями по одному из телевизионных каналов по Флориде. Мы беседовали в гостиной у Раухов – передо мной сидел человек с особой усталой, тонкой улыбкой, которая бывает у тех, кого изрыгнула власть и они знают, что уже не вернутся туда.
Когда судья Маклафлин посмотрел на меня со своих высот и спросил, не желаю ли я выступить перед объявлением приговора, на добром лице этого провинциала со Среднего Запада промелькнуло некоторое смущение. Мне нечего было добавить к происходящему, и меня приговорили к штрафу в пятьсот долларов и месяцу тюрьмы условно. Через несколько месяцев Апелляционный суд закрыл это дело, сопроводив небольшим комментарием, касавшимся сугубо процедурных моментов. Спайрос Скурас не преминул прислать по этому поводу в высшей степени исполненную воодушевления телеграмму. Маклафлин отбыл, едва успели огласить приговор, извинившись перед Раухом, что должен присутствовать на похоронах. Мы с Джо собрали свои бумажки – мои с какими-то случайными набросками, несколько его бумаг – и без спешки вышли на широкие ступени здания суда навстречу яркому вашингтонскому солнцу, как вдруг он схватил меня за руку. «Слушай! Ты ведь не можешь вот так покинуть здание суда, когда тебя обвинили в преступлении! Надо, чтобы кто-то за тебя поручился!»
И он бросился по пустому мраморному коридору в поисках поручителя, который бы внес за меня залог, и чиновника, который должен был освободить меня. Но оказалось, мы живем в кафкианской стране: было начало шестого, и в здании федерального суда в это время не сыщешь ни одного клерка. Что делать? Если уйти просто так, это могло навлечь на нас новое обвинение, что мы избегаем правосудия. По счастью, попался случайный клерк, который шел домой. Он согласился вернуться в офис и выдать нужные марки и документы.
Двадцать пять лет спустя, в начале восьмидесятых, я получил письмо от профессора литературы из университета со Среднего Запада, который писал, что доводится племянником ныне покойному судье Маклафлину, который своими человеческими качествами и интеллектом оказал серьезное и благотворное влияние на его становление. Интересно, что было бы, если бы я поделился своими впечатлениями о его дядюшке, который признался ему, что был весьма удручен своим участием в том судебном разбирательстве и сожалел об этом? Что я действительно думал о нем во время суда?
Я написал профессору, что не испытываю к судье никаких претензий, ибо он оказался всего лишь мелким винтиком в механизме. В конце концов в те времена мне не предложила помощь ни одна из независимых общественных организаций, точно так же, как за два года до этого, когда меня отстранили от работы над сценарием о преступности среди несовершеннолетних, только «Уорлд телеграм» сочла возможным, чтобы я завершил работу, но с условием, что мое имя не будет упоминаться в титрах. Это вопиющее беззаконие не вызвало никакого отклика ни у общественности, ни в литературных кругах, ни в общественных организациях, которые отстаивали свободу, ни у возрождавшихся левых, ни у правозащитников-троцкистов, все силы бросивших в те времена на борьбу с советским тоталитаризмом и убийственным обращением с советскими писателями. Это привело к тому, что, несмотря на просоветские симпатии в прошлом, я позже избежал верноподданнических заявлений и громких антисоветских протестов, как и раньше, опасаясь слепого антикоммунизма, способного легко перерасти у нас в стране в примитивный фашизм и втянуть в войну за нашими границами. Короче говоря, я не смог жить, закрыв глаза на то, что происходило у нас дома, и в течение долгих лет мне не прощали этого во влиятельных литературных кругах, где такие вещи значат не меньше, чем сама литература, а то и больше.
Слушания по моему делу и суд не принесли в профессиональном плане никаких новых переживаний. «Салемские ведьмы» были написаны пять лет назад, и из всей процедуры я не вынес ничего нового. Хотя с точки зрения большой перспективы это меня кое-чему научило: десять лет спустя, задолго до того, как подобные проблемы попали в круг интересов западных интеллектуалов, я, отчасти просто в силу экзотики, принял предложение стать президентом международного ПЕН-клуба, организации поэтов, эссеистов, прозаиков, которая в те времена была на последнем издыхании. Ее лондонское руководство во главе с Дэвидом Карвером прибыло ко мне в Париж, когда я находился там, в отчаянии пытаясь подыскать какого-нибудь работающего писателя, который смог бы оживить ПЕН, став его президентом. Думаю, ни один из творчески работающих литераторов, у кого не успевает отдыхать машинка, не пожелал бы себе такой работы, но, промучившись несколько недель, я счел невозможным отказаться, ибо мой опыт дал слишком ясное представление о том, каким гонениям могли подвергаться писатели в Восточной Европе и в других невежественных, непросвещенных местах, где их едва ли кто мог услышать, а еще меньше помочь, стоило государству принудить всех к молчанию. В середине шестидесятых я понял, что, возможно, могу ускорить наступление тех времен, когда растоптанный «холодной войной» человеческий принцип, временно загнанный в подполье, сможет наконец утвердиться. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности породила во мне желание сделать так, чтобы ее существование оказалось в дальнейшем невозможно в моей стране, а когда-нибудь, пусть и не очень скоро, во всем мире.
Окна дома, который мы сняли в восточной части Лонг-Айленда, выходили на зеленые луга. Трудно было поверить, что поблизости океан. Наши соседи – художница с мужем – вели замкнутый образ жизни, охраняя тем самым и наш покой. Войдя в более размеренный ритм, мы смогли вздохнуть посвободней. Мэрилин решила научиться готовить, начав с домашней лапши: развешанное по спинкам стульев тесто она подсушивала феном. Усевшись на солнышке, любила делать мне стрижку, подравнивая волосы. Мы тихо гуляли по пустынному пляжу Амагансетт, иногда беседуя с рыбаками, которые чинили сети, разматывая их с помощью лебедок, установленных на проржавевших грузовиках. Местные жители, по прозвищу «бонакерс», тепло и уважительно относились к ней, хотя их удивляло, что она бегает по пляжу и подбирает выброшенную ими из сетей мелкую рыбешку – «малька», – чтобы выпустить обратно в воду. В эти мгновения в ней была какая-то трогательная, хотя и слегка застылая сосредоточенность, что-то нездоровое, напоминавшее о ее страхе смерти. Как-то днем, перебросав в океан около двух десятков рыбешек, она начала задыхаться, и я с трудом уговорил ее бросить это занятие и пойти домой, чтобы не свалиться где-нибудь по дороге.
Через несколько недель наблюдавший ее врач подтвердил, что она ждет ребенка. Однако опасался внематочной беременности. Из разговора с ним я понял, что шансы равны, угроза не менее реальна, чем надежда на благополучный исход. Она же отказывалась прислушаться к его предостережениям. Ребенок был для нее венцом с тысячей бриллиантов. Я, как мог, старался разделить ее радость, не теряя чувства реального, на случай, если нас постигнет несчастье. Надежда иметь ребенка окончательно сблизила нас. В Мэрилин наконец появилась особая доверительность, внутренний покой, чего я раньше в ней не замечал. Она почувствовала себя полноправной хозяйкой, а не забитым существом, в страхе прячущимся от случайных гостей, чьим добрым намерениям не очень-то доверяла. Казалось, она свыклась с тем, что живет под надежной защитой, а я старался примириться с мыслью, что в сорок с лишним лет вновь становлюсь отцом. На моих глазах она осваивалась с новой ролью, и это убедило меня, что если ребенок и добавит хлопот, он укрепит в ней надежду на наше будущее. А значит, укрепит ее и во мне.
Отсрочка оказалась недолгой. Диагноз подтвердил внематочную беременность, которую необходимо было срочно прервать. На Мэрилин не было лица, когда она, беспомощная, лежала после операции на койке. Я не мог вынести этих страданий, ощущая ее рану как свою. Вернувшись вечером из больницы, я понял, у меня есть уникальная возможность сказать ей, что она значит для меня, такая уязвимая и беззащитная. Однако ничего не приходило на ум, а слов утешения было явно недостаточно.
Днем в больницу заехал фотограф Сэм Шоу. Мы пошли побродить вдоль Ист-Ривер и, присев на скамейку, заговорили о ней. Я мало знал Сэма. Этот сдержанный человек не искал в дружбе с Мэрилин выгод и восхищался тем, как она самоотверженно, без союзников и тылов, прокладывает себе дорогу в жизни. Я что-то сказал о ее необыкновенной силе духа и сумасшедшем благородстве, которого она сама в себе не осознает. И сможет понять, только если сыграет самое себя и увидит со стороны. Психоанализ со всей его описательностью не мог заменить дела – единственного, во что она верила, когда вся ее жизнь состояла из одних взлетов и падений.
Сэм вспомнил мой рассказ «Неприкаянные», недавно прочитанный им в «Эсквайре». «Вот был бы фильм! – сказал он. – Там такая женская роль, она бы сразу всем нос утерла».
Из Амагансетта мы добирались на «скорой помощи» более трех часов – казалось, конца дороге не будет. Ехали молча. Не было никаких надежд, что со следующей беременностью это не повторится. Как будто прошлое решило погубить ее, вновь протянув костлявую руку. Слова не помогали. Она лежала такая грустная, не передать, и наблюдала, как осторожно ползущую «скорую» обгоняли машины. Я почувствовал необходимость что-то сделать для нее.
И через несколько дней засел за сценарий, впервые после свадьбы начав работать между завтраком и обедом. Мастерская, где можно было сосредоточиться, находилась неподалеку. К нам в гости приехала мама, но между нею и Мэрилин пробежала черная кошка. Она раньше времени засобиралась домой, обеспокоенная и, как мне почудилось, напуганная. Оказалось, Мэрилин увидела в ней какую-то недоброжелательность – наверное, не так истолковав мамино грустное настроение, – но это было уже не важно. Она не просто рассердилась, ей почудилась угроза. Пытаясь успокоить ее, я подумал, что в чем-то она, возможно, права. Больной человек должен был суеверно избегать мамы – она хотела видеть Мэрилин только здоровой и красивой. Я не обратил на это внимания, но Мэрилин докопалась и не смогла преодолеть этот барьер. У нее было безошибочное чутье на опасность, и в случае угрозы, не имея тылов, она предпочитала сразиться открыто. Однако мама была пожилая женщина, и у Мэрилин не было возможности сексуально обезоружить противника.
Через несколько дней все вспоминалось со смехом. Мы ездили на отдаленные пляжи. Странно, она так никогда и не научилась плавать. Единственно, когда она была неуклюжа, это в воде. Неловкие попытки кончались, как правило, смехом. Крепкое тело блестело на солнце, когда она, подобно боттичеллиевской Венере, выходила из воды, и порою у нее был такой же омытый соленой морской водой взгляд.
Журнал «Лайф» пригласил Мэрилин присутствовать на торжественной церемонии по случаю повышения сотрудников в должности. Прислали вертолет, чтобы доставить ее в штаб-квартиру редакции в Нью-Йорке. Вернувшись через несколько часов, она спустилась на газон перед окном моей мастерской. Я вышел, и мы долго махали пилоту и кому-то еще, пока вертолет не набрал высоту. Она была в легком желтом платье с юбкой донизу и туфлях на высоком каблуке. В руке у нее были две розы. От макияжа лицо на солнце было неестественно бледным. Вертолет исчез, а мы все не могли взглянуть друг на друга, словно остолбенели. Разве в Америке была какая-нибудь другая женщина, за которой вот так бы гоняли из Нью-Йорка туда-обратно вертолет ради двух фотографий? Что-то ненормальное было в том, как все в ней нуждались. Она обладала поистине магической властью! Это событие, как большая железная рука, порвало плоть наших отношений. И в то же время это был ее триумф, свидетельство того, какое место она занимала в общественной жизни. Мы шли по лужайке к безмолвному дому, а она все не могла прийти в себя, нуждаясь в одиночестве и покое, чтобы из тела ушла вибрация вертолета. Известность давно стала для меня рабочим моментом, таким, каким, по существу, и является, однако в ее популярности было что-то скрытно-параноидальное, и это выражалось в бесконечных взлетах и падениях. Она была женщиной, но не могла вести семейную жизнь, играя на публике отведенную ей роль. То, что ей приходилось воспринимать себя в двух ипостасях – собственными глазами и глазами зрителей, – видимо, усиливало неизбежность нервного расстройства.
Она читала сценарий по частям, с удовольствием смеясь над репликами ковбоев, но сомневалась насчет Розалин. Мне же пришлось с головой уйти в технические вопросы, не менее важные, чем эмоции, ведь я готовил для нее подарок. Однако ей предстояло играть, и это придавало всему иной, сугубо профессиональный оттенок. В мою задачу входило наиболее полно воссоздать ее образ, тогда как за ней оставалось право отказаться от роли – я не собирался закабалять ее, заставляя поступать против воли. И все-таки ее сдержанное отношение обижало.
Заканчивая работу над первым вариантом сценария, я подумал, что хорошо было бы пригласить для постановки Джона Хьюстона. Он когда-то первым заметил Мэрилин на съемках «Асфальтовых джунглей», и она помнила его суровую доброту. Работа с Хьюстоном была одним из ее немногих голливудских воспоминаний, окрашенных в теплые тона. Это вселяло надежду, что съемки могут быть в радость, как моя работа в театре. И тогда Мэрилин не будут мучить приступы параноидального психоза, постоянно сопровождавшие, как я понял, ее работу в кино. Отпечатав сценарий, я тут же отправил его в Ирландию. Мы ждали ответа, все отчетливее понимая, что без Хьюстона Мэрилин не сыграть. Когда она сказала об этом вслух, я усомнился, сможет ли она сыграть эту роль вообще…
Я связал с нею жизнь и все ждал, когда она поймет это. Другого выхода у нас не было. Беда заключалась в том, что она не знала постоянства в человеческих отношениях, и, пока мы были мужем и женой, в ней надо было постоянно взращивать это чувство. Она интуитивно ощущала, что, если бы это не были «Неприкаянные», я бы никогда не сел за киносценарий, больше года посвятив тому, чтобы способствовать ее становлению как серьезной актрисы, но в то же время в быту бывал с нею замкнут и невесел. Она обижалась, а я просто очень устал и временами не успевал следить за сменой ее настроения. От той трещины, которую дало в Англии ее идеализированное отношение ко мне, казалось, не осталось и следа, но если единственное, что оставалось, было мириться с действительностью, то, значит, за ненадобностью стоило отказаться от идеала вообще. Это давалось ей нелегко, ибо, как ни странно, именно в обожествлении она черпала свои силы. Надежды таяли: в конечном итоге большинство браков – это союз во имя того, чтобы рассеять мрак и прийти к свету.
Истоки уходят в глубь веков – старые корни питают причудливые соцветия. Я с радостью взял на себя роль избавителя, которую она давно примеряла ко всем, однако не справился. Точно так же она вошла в мою жизнь олицетворением всепрощающей чувственной любви, в преддверии которой я жил совершенно самоотреченно. В щели между сном и явью свершали вечную работу черви вины, той самой вины, которую каждый из нас переживал как собственную глупость и наивность. А может быть, хуже – как ответственность за несбывшиеся надежды другого. Но я верил, что нас может спасти бескорыстная преданность делу, и старался что-то предпринять. Я никогда не воспринимал киносценарии как серьезный труд и без конца отвергал различные предложения. Это говорило о том, что моя жертва была нешуточной, но любая преданность требует жертв. «Неприкаянным» нужен был крепкий корабль, ибо с самого начала они были перегружены надеждами. Другого выхода я не знал, поскольку Мэрилин была необходима мне так же, как и душевное равновесие. Она все еще затмевала для меня солнце.
Хьюстон ответил из Ирландии согласием. Надо было подбирать состав, а мне захотелось еще раз пройтись по тексту. Мы договорились с Хьюстоном встретиться через несколько месяцев, к тому же у Мэрилин оставался долг – два фильма для «XX век Фокс». Студия требовала сняться хотя бы в одном, прежде чем начнет самостоятельную работу в «Неприкаянных». Меня устраивала отсрочка. Потом подвернулся еще один фильм, теперь уже не на «XX век Фокс»: Билли Уалдер снимал «Некоторые любят погорячее» и пригласил Мэрилин на заглавную роль. Я не спешил, так как хотел подобрать первоклассных исполнителей, что оказалось не просто. К тому же ничто не мешало начать писать новую пьесу.
Хьюстон брал на себя постановку фильма, тогда как продюсером должен был стать человек, который сумел бы завоевать безоговорочное доверие Мэрилин. Фрэнка Тейлора я знал еще с довоенных времен, когда он работал в издательстве с Мэри. Потом он ушел к Рейналу и Хичкоку, быстро обеспечив новой фирме сотрудничество с первоклассными авторами, и был редактором моей книги «Ситуация нормальная» об армейской жизни по материалам сценария для фильма об Эрни Пайле и моего романа «Фокус». Я знал, что последние два года он подвизается продюсером на «XX век Фокс», но его одолевали несбыточные планы – то он хотел поставить фильм о Гогене по сценарию Джеймса Эйджи, то «Ночь нежна» по Фицджеральду. Мрачноватый, умный человек огромного роста, Тейлор представлял собой необыкновенную смесь агрессивного антрепренера и aficionado от литературы. Мое предложение, конечно, вызвало у него бурный восторг, и, придя к нам в гости, он быстро развеял хроническую неуверенность Мэрилин, каждый раз возникавшую при знакомстве с новым человеком. Я полностью доверял ему, и она вскоре прониклась тем же чувством.
Коварный орел Лью Вассерман, глава Эм-си-эй, поддержал мою идею относительно первоклассных актеров и предложил Кларка Гейбла, Монтгомери Клифта, Эли Уоллока и Тельму Риттер. Здороваясь, Вассерман держал руку строго горизонтально, ладонью к плоскому животу, он отлично справлялся с обязанностями агента и с рвением бросился мне помогать.
Первая трудность возникла с Гейблом, который, несмотря на интерес, не понял сценария. Столкнувшись с ним в Голливуде нос к носу несколько месяцев спустя, я понял, что никто так не сыграет Гея Лэнгленда – он был рожден для этой роли. Однако Гейбл никак не мог понять, о чем фильм, хотя несколько раз перечитывал сценарий.
«Похоже, вестерн, но что-то не так, а?» – У него был высокий голос, он говорил в нос. В вопросе чувствовалась профессиональная заинтересованность. Некая загадочность придавала его легендарно самоуверенному лицу обаятельную беззаботность.
Я никогда не умел толково рассказывать о своих произведениях, особенно актерам, которым нужны простые ответы, а я, работая, парю в облаках. Причем, если начать мудрствовать, можно обречь фильм на кассовый неуспех. «Это вестерн на восточный манер», – неуверенно произнес я. Он усмехнулся, не скрывая любопытства, что приободрило меня. «Разговор о том, что жизнь бессмысленна, а еще, может, о том, что мы есть то, что мы есть». Надо признаться, я никогда не раскладывал эту историю по полочкам, но его заинтересованный взгляд подстегнул меня. «Западный человек в западном мире всегда жил в системе сбалансированных моральных ценностей, где у зла был свой опознавательный знак – черная шляпа. И в конце концов зло обязательно должно было быть побеждено. В моем фильме тот же самый мир, но он перенесен из девятнадцатого века в современность, когда у хороших парней тоже возникают проблемы. Если вы хотите, чтобы я об этом говорил долго, мы заберемся в такие дебри, что я сам не смогу разобраться, о чем написал».
Он еще раз перечитал сценарий и на следующий день ответил согласием. Думаю, мне удалось задеть в его душе струны, которые он только позже открыл в себе. Не единожды женатый, этот красавец мужчина недавно опять женился, хотя ему было под шестьдесят, стал молодым отцом и самозабвенно относился к новым обязанностям. Те, кто хорошо знал его, говорили, что он стал серьезней и глубже.
С Монти Клифом произошла иная история. Во время очередного загула он врезался ночью на машине в какой-то столб и рассек лицо (кто-то из его самозваных защитников обвинил меня в том, что, пригласив его на роль Перса, у которого были шрамы от родео, я воспользовался его увечьем, хотя рассказ и сценарий были написаны задолго до аварии). Страховые компании на время съемок отказывались заключать с Монти договора, однако мое поручительство и ходатайство Хьюстона с Вассерманом, видевших в этой роли только его, возымели действие. Безо всяких щекотливых разговоров я предложил ему сниматься, и он охотно согласился. Для него было большой радостью работать с Хьюстоном, Мэрилин и со мной, поэтому с его стороны нельзя было ожидать подвоха. И он действительно оказался на высоте: текст выучил до начала съемок и ни разу не опоздал, несмотря на долгие простои на последнем этапе работы.
Человек садится за пишущую машинку, вставляет чистый лист бумаги и печатает слова-образы. Потом, оглянувшись, видит четыре-пять сотен человек, грузовики, товарные поезда, самолеты, лошадей, гостиницы, дороги, машины, огни – словом, все, что он самым непостижимым и невероятным образом вызвал из пустоты небытия. Странно, но он почти не властен над ними – все это движется по своим собственным законам, не подозревая, что своим воплощением обязано ему.
Бывали дни, когда посреди всего этого нагромождения я грустно улыбался, вспоминая, с чего все началось, – историю нескольких одиноких, никому не нужных людей, заброшенных в огромном пространстве жизни. Теперь, куда ни взгляни, всюду кто-нибудь жевал бутерброд.
С тем, что работу камеры отличает бесстрастный буквализм, имя которому «почти», я столкнулся в первый же день съемок, когда мы работали на одной из улочек Рино. Для меня они были переживанием, камера превращала их в объект – бытовые сценки, которые я помнил со времен четырехлетней давности, когда обитал в Неваде, обретали самодовлеющую театральность, как только попадали в объектив. Отчасти чтобы избежать этого, Хьюстон решил снимать не цветной, а черно-белый фильм, однако я все равно видел разницу. У камеры своя логика – сквозь ее линзы даже сады Эдема предстают краше, чем они есть.
Исполненный наивных иллюзий, я продолжал сличать то, что снимали, с тем, как я это видел. Глазу необходим общий фон, даже когда волевым усилием внимание фокусируется на конкретном предмете, ибо это взаимодействие придает восприятию напряженность. Камера же обычно подчеркивает передний план, а в крупном плане исключает задний: акцентируя «самость» человека или предмета, она сверхконцентрирует его, вырывая из контекста бытия, который постоянно присутствует в человеческом взгляде. Иллюзия фона воссоздается в кино монтажом или монтированием.
Первая сцена – Мэрилин на мосту через речку Траки в Рино: сюда после развода приходят женщины кинуть в воду обручальное кольцо в знак завоеванной ими свободы. Ее утешает болтливая глупая хозяйка в исполнении Тельмы Риттер. Глядя на Мэрилин, я видел, что она играет не просто разочарованную в неудачном замужестве героиню, но переживает свой брак, свои проблемы. Закончился второй дубль, и я подошел похвалить ее. Она иронично посмотрела на меня, словно я лгал. Причем умела сделать это так, что человек начинал сомневаться в собственных намерениях. В этом, однако, была своя доля правды – не только в героине, но и в ней самой чувствовалось нервное напряжение. Я постарался убедить себя, что это обычное возбуждение: у нас есть будущее и фильм докажет это, не случайно в финале Розалин обретает веру в человека и в то, что будет жить.
Хьюстон остался доволен первой сценой и, поздравив всех с успехом, отказался, вопреки просьбе Мэрилин, от третьего дубля. Он недвусмысленно дал понять, что его слов «вполне прилично» достаточно, чтобы решить вопрос, чем посеял первые зерна вражды между ними. Вновь забрезжила угроза конфликта, однако теперь я был солидарен с Мэрилин, ибо при всей незатейливости и простоте сцена вышла безжизненной. Я даже подумал, не старается ли Мэрилин, играя на пределе, придать ей слишком глубокий смысл. Хьюстон, похоже, понял, что с каждым дублем сцена будет становиться тяжелее, и, вместо того чтобы отступить, двинулся вперед. Она обиделась, решив, что он не дал ей выразить себя так, как она хотела.
Хьюстон без лишних разговоров установил свои правила: дело актера – играть, режиссера – выстраивать кадр и давать общие замечания. В его обязанности не входили подробный разбор рисунка, конкретная разработка образа, настрой на игру. Он не собирался быть Ли или кем-нибудь в этом роде. Он оставался Хьюстоном, она – Мэрилин, и не было никаких оснований что-либо менять. Съемки второго кадра, сделанные в тот же день, казалось, полностью подтвердили его правоту: в сцене знакомства в баре Мэрилин раскрепощенно играла с Гейблом и Уоллоком легкомысленную героиню, нисколько не озабоченную своей судьбой. И я было поверил, что эта профессиональная, точная, красивая Мэрилин, приняв мой дар, вдохнет жизнь в слова сценария.
Где-то поблизости от нее постоянно находилась Паула, одетая, несмотря на жару, в холщовое черное платье: согласно ее пониманию законов физики, в черном было прохладней, чем в белом. Съемочная группа звала ее «Черный баронет» или просто «Баронет». В перерывах они удалялись вместе с Мэрилин в ее автоприцеп, но стоило к ним подойти мне или Хьюстону, как разговор тут же прерывался. Я понимал, что актеру, как и писателю, во время работы надо сосредоточиться, определить внутренние границы образа, его возможности. То, что она отказывалась видеть меня и других, говорило о напряженном поиске. В эти моменты она мало походила на себя: оживленная и радостная на экране, в жизни становилась безразличной и замыкалась в себе. Я хорошо знал это состояние по своей работе.
Поговаривали, что Хьюстон жесток с актерами и сценаристами, но я не очень доверял сомнительным домыслам. Как большинство переживших известность людей, я знал, что существует великое множество искренне претендовавших на знакомство со мной – с кем-то я учился в одном классе, кто-то помогал мне писать пьесы, с кем-то я переспал, кому-то помог, кого-то обидел, этого убедил, того не заметил – и так без конца. Оказалось, что значительная часть человечества, ослепленная своей близостью к великим мира сего, пребывает в волшебной иллюзии: люди вступают с ними в сложные взаимоотношения, переживают конфликты, любовные драмы с душещипательными расставаниями и радостными встречами. Те, кто популярен, напоминают воздушные шары, плывущие по поднебесью, – кто-то завидует их тихой свободе, кто-то стреляет в них, как во врагов. В деловых ситуациях я привык воспринимать людей такими, каковы они есть, и ничего не требовать, кроме добросовестного исполнения своих обязанностей. Хьюстон, на мой взгляд, был идеальной кандидатурой для режиссера на этот фильм и на такой актерский состав. Он быстро научился игнорировать присутствие Паулы, которую мог утонченно поддеть идиотским замечанием. Так, он похвалил ее стойкую приверженность черному цвету в такую жару и серьезно выслушал ответ, подчеркнув тем самым его нелепость. Паула не сразу все поняла, но, когда до нее дошло, разразился один из многочисленных скандалов, которыми был усеян наш путь. С Мэрилин Хьюстон с самого начала обращался как с профессиональной актрисой, а не пациенткой, нуждавшейся в снисхождении. Казалось, это придало ей силы, а мне вернуло надежду, с которой я садился за сценарий: фильм подарит возможность жить и работать вместе. Что бы ни говорили о Хьюстоне, тот человек, которого я знал, всю жизнь боролся с разного рода «измами», полагаясь на природное здравомыслие и отвагу. Он предоставил Мэрилин возможность бросить вызов самой себе и преодолеть трудности прекрасным исполнением роли, для которой у нее были все данные.
Хьюстон, наверное, знал, что на съемках у Билли Уалдера в фильме «Некоторые любят погорячее» Мэрилин удалось обойтись без нервных срывов, так как она с головой ушла в комическую роль. Он считал, она выбрала мученический путь в жизни. Но спокойно относился к любому темпераменту – подсознание было не по его части, и он не делал из него руководства к действию. Актер должен играть, а как он этого добивается, касается только его, а не режиссера. Это было похоже на глоток свежего воздуха – Хьюстон рассчитывал на мужество Мэрилин, и она оправдала его ожидания, по крайней мере в первые дни. Но затем ею вновь овладело внутреннее беспокойство, однако на этот раз в этом не были виноваты ни Хьюстон, ни актеры.
Я понял, что хотел видеть ее в амплуа, которое она иронично именовала «счастливая девушка, которую любят мужчины», а обнаружил нечто совершенно иное – несчастное, мятущееся существо, не способное преодолеть отчаяние. К началу съемок «Неприкаянных» стало очевидно, что если внутреннее состояние Мэрилин поддавалось разгадке, то этим ключом я не владел.
Когда она снималась в «Давай займемся любовью» и «Некоторые любят погорячее», я оставил последнюю надежду писать и решил полностью посвятить себя ей, чтобы разубедить в одиночестве – в этом мне виделось начало всех ее бед. Чтобы спасти Мэрилин от полной катастрофы, я дошел до того, что частично переписал сценарий «Давай займемся любовью», хотя текст не стоил бумаги, на которой был напечатан. Вопреки ожиданиям это не сблизило нас. То, что я безоглядно жертвовал временем, воспринималось как должное. Я не только не мог излечить ее от снедавшего чувства отчаяния, но никакими известными мне способами не удавалось хотя бы приостановить этот разрушительный процесс.
Само собой получилось, что со съемками «Неприкаянных» я связывал изменения к лучшему и уповал на Розалин, первую серьезную роль Мэрилин, исполненную чувства собственного достоинства, не чуждого ей. Обе женщины бились над одними и теми же проблемами, но героиня фильма находила выход. Я тешил себя надеждой, что ее опыт поможет Мэрилин обрести внутреннее спокойствие. Было бы хорошо, если бы я сам мог способствовать этому, что было мало вероятно, ибо мы пережили одно из тех великих крушений своих чаяний, которые редко выпадают на долю супружеских пар.
И все-таки вопреки всему я знал, что в каждом из нас есть шанс для другого, шанс, который нельзя упустить. Возможно, это нелепо, но я не мог свести отношения с Мэрилин к чему-то одному. Она тоже этого избегала. В узком смысле мы были незаменимы друг для друга; так бывает, когда, спасая от увядания свои чувства, мы идеализируем любимый предмет или человека. Вопреки, а может быть, благодаря этим трудностям Мэрилин была воинствующей идеалисткой. Мы познакомились в те времена, когда Америка вступила в очередную консервативную фазу своего развития. Общественное самосознание угасло. И это сыграло не последнюю роль в том разочаровании, с которым Мэрилин относилась к своей стране, к себе и к своей работе. Зритель не знал, какие силы властвовали над его жизнью. А фильмы, пьесы, книги отнюдь не стремились просветить его. Говоря о всеобщем равнодушии, Мэрилин напоминала Робеспьера в преддверии грозного и праведного часа своего выхода. Куда ни взглянешь, всюду «трепотня», говорила она; все выжидают за отсутствием мощных, хотя и призрачных порывов к свободе. Она нуждалась в герое – в такие моменты все материальное, включая ее самое, теряло для нее всякий смысл.