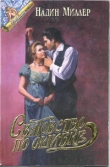Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 49 страниц)
– Она может это сделать прямо из Аргентины?
– Расстояние не играет никакой роли, она находится там, где захочет.
– Я думаю, вам стоит обратиться к врачу.
– Я обращался, они ничего не знают.
– Почему вы пришли ко мне?
– Но ведь вы написали «Салемских ведьм».
Я был потрясен.
– А что, разве в «Салемских ведьмах»…
– А как же девочки, которых мучают ведьмы?
– Вот оно что. Понятно. Но я ведь не верю, что они говорили правду.
– Конечно, правду.
По спине поползли мурашки – я, как мог, попытался разубедить несчастного парня.
– Когда я посмотрел вашу пьесу в Буэнос-Айресе, то сразу понял, что вы в этом разбираетесь.
Так или иначе, но он не оставлял меня в покое на протяжении лета, пока не попал в клинику, ибо психиатрия оказалась бессильна перед его галлюцинациями. И открыл мне в пьесе новое измерение, доказав, что там существует то, о чем я не подозревал.
Будучи на распутье, я отринул сомнения и принял приглашение из Ардена поставить в Делавэре в летнем театре «Всех моих сыновей». Криса и Джо Келлеров должны были играть Кевин Маккарти и Лари Гейтс, моя сестра Джоан Коупленд (ставшая талантливой актрисой и сыгравшая немало ролей на Бродвее, в том числе в «Детективной истории» и «Дневнике Анны Франк») была занята в роли Энн. Я чувствовал себя не в своей тарелке, переживая провал «Салемских ведьм» глубже, чем ожидал, и было боязно, что подведу актеров, которые вверили мне свою судьбу. До этого я не понимал, насколько уязвимы, беззащитны актеры на сцене, как просто их подчинить своей воле и стать в их глазах всем.
В целом я занимался не своим делом, вовсе не желая быть режиссером и внушать уверенность, которой сам не обладал. Идея казаться кому-то авторитетом внушала ужас. Кажется, я преступил ту черту, когда одиночество можно с кем-нибудь разделить. В этом не было недовольства жизнью, то было признание простейших истин. Из головы не выходила ибсеновская фраза: «Тот сильнее, кто более одинок».
Звонок Мартина Ритта, одного из самых молодых представителей «Групп-театр», с которым мы не были знакомы, подарил радужную надежду выйти из одиночества. Он был занят в поздней, как оказалось, последней пьесе Одетса «Цветущий персик», которая должна была идти еще с месяц-другой, но продюсер Роберт Уайтхед согласился, чтобы по воскресеньям актеры показывали что-нибудь свое. Ритта интересовало, нет ли у меня какой-нибудь одноактной пьесы, которую они могли бы сыграть.
Воодушевленный тем, что пишу для студийной группы, а не Бродвея, я за две недели набросал «Воспоминание о двух понедельниках» – элегию о годах работы на складе автозапчастей. К этому взывала реальность, которую, в отличие от летевшей вперед на всех парусах поглупевшей Америки, я понимал по-иному. В более спокойные времена это обернулось бы благословенным эскапизмом, которого я избежал, обратившись к таким непопулярным темам, как Депрессия и борьба за выживание.
Жизнерадостному крепышу Ритту, удачливому игроку в покер и на бегах, новая одноактовка понравилась. Однако он предложил написать еще одну пьесу, которая бы предваряла ее, разыгрывалась перед занавесом. И тогда получился бы целый вечер. Я радовался, что смогу поставить настоящую пьесу, и раздавая роли, наслаждался, что не надо думать о коммерческом успехе – это омрачило бы радость работы. К тому же на Бродвее никогда не ставили одноактовок, которые вообще в Америке можно было увидеть не часто. Это придавало запал работе. Тем более что по воскресеньям в театр ходят не бизнесмены, а истинные ценители. Если в ставке на aficionados [16]16
Любители ( исп.).
[Закрыть]и крылось некое противоречие моим демократическим убеждениям, то оно искупалось радостью, которую давала работа над пьесой.
Несколько дней я расхаживал взад-вперед в раздумье, как бы сочинить что-нибудь настоящее, интересное, пока не вспомнил о своей давней «итальянской» трагедии – одноактной пьесе с единой сюжетной канвой и драматической развязкой в финале. В силу того что ситуация, в которой она создавалась, была далеко не ординарной, «Вид с моста», к которому я не мог подступиться годами, был закончен за десять дней. Читая пьесу, Мартин удовлетворенно рассмеялся: пьеса, которая писалась как вводная перед началом спектакля, стала гвоздем программы.
Но жизнь внесла свои коррективы: «Цветущий персик» увял быстрее, чем ожидалось, и связанные с ним планы провалились. Однако идея поставить две одноактовки с одним составом неожиданно нашла на Бродвее поддержку, и мне нелегко было решить, чему отдать предпочтение: то ли первоначальному замыслу, то ли энтузиазму, с которым Кермит Блумгарден брался за дело. Я интуитивно побаивался Бродвея, чувствуя, что это не «его» пьеса, но честолюбие одержало верх. В пользу этого решения говорила возможность привлечь к бродвейскому спектаклю прекрасных актеров, что было проблематичнее с менее престижной постановкой в любом другом театре города. Система внебродвейских театров в 1955 году еще не сложилась.
И все-таки с подбором актеров судьба взяла свое: «Вид с моста» был замешен на портовых волноломах и моей поездке в Калабрию и на Сицилию, а кончилось тем, что в спектакле оказались заняты актеры, чьи предки были выходцами из Англии, белое протестантское меньшинство. Среди них только Джек Уорден владел жаргоном и понимал, что к чему. Все эти упущения надо списать на мой счет, ибо в мою жизнь самым решительным образом вошла Мэрилин Монро, и мне было не до актеров. Внутреннюю смуту по поводу распавшегося брака я пытался преодолеть восторгом перед Мэрилин. И решил, что хорошие актеры, несмотря на внешний типаж, смогут все преодолеть. Оказалось, нет. Вана Хефлина, сына дантиста из Оклахомы, настолько пугала перспектива сыграть итальянского грузчика, что он попросил меня сводить его в Ред-Хук и познакомить с такими людьми. Он изучал их речь, как иностранный язык, и, к сожалению, именно так она звучала у него со сцены. Хефлин был настолько озабочен акцентом и манерой поведения, что к финалу почти совсем забывал про роль.
В спектакле был также занят Дж. Кэррол Нэш, актер, десятилетиями снимавшийся в Голливуде в острохарактерных ролях национальных героев. И сколько Ритт ни бился, чтобы придать его персонажам реальные черты, но так и не смог отказаться от своего амплуа. Играя Гасса, толстого, как бочка, кладовщика из магазина автозапчастей в «Воспоминании о двух понедельниках», Нэш вложил в башмаки восьмифунтовые грузила и смешно ходил, по-обезьяньи переваливаясь с ноги на ногу. Однако в роли юриста, от лица которого идет повествование в «Виде с моста», он так и не смог найти уловку, за которую бы спрятался, и, как жонглер, балансировал от строки к строке, то и дело не в состоянии справиться с булавами. В одном месте он назвал некогда знаменитого гангстера Фрэнки Йейла, грозу мрачных закоулков Ред-Хука, именем известного эстрадного шансонье Френки Лейна и был так доволен собой, что скомкал весь остаток длинного монолога.
В том, что тридцать лет спустя «Вид с моста» обрел на мировых подмостках известность, не было заслуги первой постановки, в которой пьеса выглядела как заурядная история мести. И в этом некого было винить, кроме самого себя, что делало ситуацию еще более тяжелой. Поглощенный отношениями с Мэрилин, я парил в эмпиреях, в то же время опасаясь скатиться куда-то в чуждую мне жизнь. Мне будто отказала воля, и я следовал в фарватере устремлений Блумгардена, который хотел сделать из пьесы настоящее бродвейское шоу. Однако эта простая, незатейливая и страшная в своей неотвратимости история была написана в ином ключе. Мартин Ритт, добившийся успеха как режиссер фильмов «Городская окраина», «Долгое жаркое лето», «Скорлупа», впервые работал на театре и вместо того, чтобы отстаивать собственное видение, старался во всем следовать тексту. Короче, спектакль оказался лишен изюминки, того личностного начала, которое магическим образом слепляет воедино разрозненные находки.
Когда я смотрел его, меня не покидало ощущение, что это что-то очень далекое от меня, как будто я зашел в театр как простой зритель. Даже в такой элегической пьесе, как «Воспоминание о двух понедельниках», чувствовалась скорее установка на эффект, а не стремление воссоздать панораму того времени. Меньше чем через два года Питер Брук осуществил в Лондоне новую постановку пьесы «Вид с моста», которую я переработал и превратил в двухактовку. Мне запомнились его слова, сказанные перед премьерой в «Комеди-театр» в ответ на мой вопрос, как воспримут пьесу англичане. Он сказал: «Неумолимость хода событий может разозлить их. Англичане не любят Ибсена и греческую трагедию, все то, что свидетельствует о наличии неотвратимой логики жизни, о том, что все взаимосвязано и вытекает одно из другого. Если бы они отнеслись к этому всерьез, им надо было бы срочно покидать страну, ибо, как известно, у нее нет будущего. Живя здесь, мы полагаемся только на счастливый случай, а „Вид с моста“ совсем о другом».
Действительно, мой интерес к пьесе был связан с процессом развертывания неумолимой логики жизни. Ибо вокруг я ощущал лишь праздное блуждание ума и духа, древо жизни стало похоже на ползучую виноградную лозу. «Конец идеологии», который шумно приветствовался частью влиятельных в прошлом марксистов, приложивших к этому руку, представлялся процессом, в котором растворилась отдельная человеческая судьба. В итоге люди оказывались предоставлены своему одиночеству, каждый сам за себя и для себя, что сделало жизнь еще более грустной, хотя кто-то и нашел в этом возможность отстоять себя и начать делать деньги. Движение битников, давшее наименование и образ еще не изреченному в нашем бытии и неоформленному, тому, что только зарождалось в Америке, не вызывало у меня симпатии. Вопрос, как жить и как отдыхать, не сводился к одной проблеме, особенно если у вас росли дети и не покидало странное беспокойство, что к американскому духу примешалась какая-то насмешка над жизнью, что-то низменное, что можно было преодолеть только с помощью искусства. Прошло время, прежде чем я понял, что битники выслеживали того же зверя, только охоту на него вели совсем по-другому.
«Вид с моста» оказался принят лучше, чем, как я понимаю теперь, мне показалось в то время. Но я еще не встречал художника, который бы не думал, что критика в сговоре против него. Возможно, впечатления были навеяны тягостными переживаниями перед премьерой – она была на носу, а я все еще был не доволен пьесой. И никак не мог обрести точку опоры, ибо внутри все находилось в состоянии хаоса, что по-своему отозвалось в разладе между строго классической формой и обостренно чувственным содержанием пьесы, в основе которого лежал инцест с неизбежным предательством. Я не мог понять, чего хочу, – конечно, не развала семьи, однако представить, что Мэрилин надо навсегда вычеркнуть и забыть, было невыносимо. Казалось, жизнь борется сама с собой, прошлое горело у меня под ногами. И вдобавок я снова попал под обстрел.
Первый шквал обрушился в 1953 году. Бельгийско-американская Ассоциация бизнесменов прислала телеграмму с приглашением на премьеру «Салемских ведьм» в Брюсселе, гарантируя оплату расходов. Это была первая европейская постановка «Салемских ведьм», и мне очень хотелось, чтобы пьеса доказала свою жизнеспособность. Ответив согласием, я обнаружил, что срок действия моего паспорта истек. И по дороге на репетицию «Чайки» на Вторую авеню, что на другом конце города, мы с Монти Клифтом заехали в центр, на Уолл-стрит, в паспортное бюро. Я попросил оформить все побыстрее – был понедельник, а в Брюссель надо было вылетать в пятницу, чтобы в субботу успеть на премьеру.
Прошло два дня – никакого ответа. Я позвонил своему юристу Джону Уортону. Он связался с коллегой в Вашингтоне Джорджем Рохом-младшим, и тому наконец в четверг удалось узнать, что, с точки зрения заведующей паспортным отделом Государственного департамента миссис Рут Шипли, моя поездка за границу «не отвечает национальным интересам» и поэтому она не собиралась продлевать документ. Это напомнило мне королеву из «Алисы в Стране чудес» – попробуй я обжаловать ее слова, дело затянулось бы на недели, месяцы, а то и годы. Я дал телеграмму в Национальный Бельгийский театр, что не приеду, поскольку не получил паспорт в срок. Ясно, что у миссис Шипли было на меня досье, где множество документов свидетельствовало о моих левых взглядах – от петиций, которые я подписывал, до списка собраний, на которых бывал, а также материалы о скандальном разрыве с Казаном, получившем широкую огласку в прессе.
Однако брюссельские газеты успели сообщить о моем приезде, и по окончании спектакля публика бурно требовала автора на сцену. Шквал не утихал, пока из первых рядов не поднялся человек и не стал благодарить за теплый прием. Зрители, естественно, сердечно приветствовали его, приняв за автора пьесы. Это был американский посол, приехавший, по-видимому, на спектакль из уважения к спонсорам – проамериканской деловой Ассоциации. Недоразумение выплыло наружу, и газеты развернули кампанию против американской политики, используя факт моего вынужденного отсутствия на премьере как подтверждение антимаккартистской направленности пьесы. История имела свое продолжение, ибо двадцать пять лет спустя, в конце семидесятых, я оказался в американском посольстве в Бельгии на приеме, устроенном в мою честь. В 1953 году надо было быть сумасшедшим, чтобы представить, что меня будут встречать здесь овациями.
Репетиции «Вида с моста» шли полным ходом, когда меня постиг еще один удар. Даже по тем временам трудно было смириться со столь непредвиденными поворотами судьбы. Мы с Мэрилин жили высоко в башне отеля «Уолдорф» у нее в номере, а внизу на улице продавали пестревшие ее сногшибательными фотографиями «Дейли ньюс», «Уорлд-телеграм», «Джорнел америкэн», в которых она фигурировала столько раз в неделю, сколько журналистам удавалось ее подловить, а рядом – возмущенные призывы к мэру Вагнеру и городскому муниципалитету выгнать меня из страны за нелояльное поведение.
Между тем я увлеченно работал над фильмом о преступности среди подростков – два месяца собирал на улицах Бруклина материал и теперь был готов сесть за стол. Еще весной мы обговорили с Блумгарденом и Риттом основной состав «Вида с моста», но репетиции отложили до осени, так что у меня оставалась уйма времени. Какой-то начинающий режиссер предложил написать сценарий по следам недавней вспышки вражды между нью-йоркскими бандами подростков, и теперь мне предстояло разобраться во внутренних причинах происшедшего. Он заключил с муниципальными властями договор об отчислении им пяти процентов от будущего проката фильма за помощь, на которую рассчитывал в ходе съемок, – речь шла о допуске в полицейские участки. Условия договора были вполне приемлемыми. Особым подспорьем оказалось сотрудничество с недавно созданной организацией «Мобилизация молодежи», которая внедряла своих членов, молодых ребят с улицы, в банды, надеясь таким образом вернуть подростков в лоно цивилизации. Мне доводилось отказываться от более соблазнительных предложений в кино, но тут меня заинтересовала тема, и я получил гонорар – несколько тысяч долларов – с перспективой иметь проценты от проката фильма, если он будет иметь успех.
Проведя несколько месяцев среди мальчишек, я был полон идей, некоторые из которых, помимо прочего, участливо поддерживала Организация по обеспечению благосостояния католиков, чье давнее внимание к проблемам молодежи из необеспеченных кварталов города давало ей приоритет в определении первоочередных задач по борьбе с явлением подросткового бандитизма. Однако проекту не суждено было осуществиться: в Нью-Йорк нагрянула инспектор сенатской Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности миссис Скотти с целью предупредить городскую администрацию, что любые контакты со мной чреваты неприятностями и меня постигнет заслуженная кара. При этом она едва не совершила роковую ошибку, решив начать с председателя «Мобилизации молодежи», чье имя и положение не вызывало у нее сомнений в его политических пристрастиях. Однако Джеймс Маккарти, достойный выпускник ирландского Нотр-Дама, питал отвращение к антидемократической деятельности своего однофамильца и, будучи непосредственным свидетелем того, каких трудов мне стоило собрать материал, поддерживал мое начинание.
На заседании специальной сессии поименно созванного Совета «Мобилизации молодежи», который никогда не собирался в таком полном составе, мне устроили проверку на политическую лояльность. В Совет входили начальники отделов муниципалитета, включая водоснабжение и канализацию, не имевшие ни малейшего представления о работе на социальном поприще. Их собрали, чтобы, задав мне ряд вопросов, они решили, достоин я писать сценарий или нет. В огромном зале заседаний муниципалитета, где это происходило, мне, человеку достаточно оптимистичному и даже способному донкихотствовать, показалось, будто многие были смущены тем, что вынуждены принимать решение по вопросу, в котором ничего не смыслят. В этот момент какая-то неопрятная женщина истеричного вида в теннисных тапочках закричала, размахивая толстой папкой, дюйма четыре толщиной, набитой, по ее словам, документами, обвинявшими меня в государственной измене, – воистину бесценным вкладом миссис Скотти в копилку мировой цивилизации, – что Артур Миллер – это тот, кто убивал их сыновей в Корее. Я позволил себе заметить: вопрос о сценарии касается моей квалификации, и я не намерен обсуждать здесь свои политические взгляды, чтобы получить право заниматься тем, что мне отпущено от природы. Решение принималось тайным голосованием, и мне не хватило поддержки одного человека. Удачный и весьма обнадеживающий исход в тот момент истории. Таковы были времена.
Ощущение надвигающейся катастрофы было как бы разлито в воздухе и преследовало нас в «Уолдорфе». Мэрилин уехала из Голливуда, устроила своего рода демарш, требуя изменить условия контракта с «XX век Фокс», чтобы создать совместно со своим компаньоном Милтоном Грином кинокомпанию «Мэрилин Монро продакшнз». Она хотела получить возможность снимать свои собственные фильмы. И очень верила в проект, обещавший достойные роли и стабильное положение. Этого ей не могли простить тогдашние кинокритики, считавшие, что такая пустышка и непрофессионал не может требовать творческой свободы, ставя условия солидной и уважаемой компании «XX век Фокс».
Она тем временем начала ходить на занятия в студию к Ли Страсбергу, где сидела, не открывая рта, так он заворожил ее своим авторитетом, да и вообще актерская жизнь в Нью-Йорке отличалась от голливудской, где профессионализму предпочитали щекотливый интерес к размерам чужих носов и грудей. Я практически не был знаком со Страсбергом, если не считать случайного рукопожатия и кивка головы, которыми мы однажды обменялись, да широко циркулировавших слухов о его неистовом темпераменте, чем он прославился в «Групп-театр», однажды в раздражении сбросив актера со сцены. Среди уважаемых мною актеров были такие, как моя сестра Джоан, которые боготворили его, хотя один из корифеев, Монти Клифт, называл его шарлатаном. Вначале, когда мы с Мэрилин познакомились, я считал, что ее отношения со Страсбергом меня не касаются, списывая благоговейный трепет, с которым она произносила его имя, на потребность обрести веру, выкарабкавшись из болота голливудского цинизма. Идеализация чревата потерей иллюзий, но без идеала нельзя прожить. Я тогда не понимал, что вопреки всем моим человеческим слабостям меня тоже идеализировали.
Она же была для меня живительным источником света, вся загадка, влекущая тайна, то уличный подкидыш, то остро чувствующее, поэтичное существо, сохранившее такую непосредственность, о которой можно только мечтать, переступив порог юности. Порою казалось, все мужчины для нее – мальчики, дети, которых обуревает желание, и она может его удовлетворить, а ее взрослое «я» наблюдает со стороны за происходящим. Мужчины были ее насущной и в то же время святой заботой. Она могла увлеченно рассказывать, как на какой-нибудь вечеринке двое пытались затащить ее в кровать, но, по ее словам, она избежала этой участи. Сюжет, весьма банальный сам по себе, был малоинтересен, но поражала ее необычная способность смотреть на себя со стороны. При этом она не осуждала и не проклинала своих обидчиков. Быть рядом с ней означало быть своего рода «избранным», как будто тебя осенял божественный свет иной жизни, где подозрительность никак нельзя было считать здравым смыслом. Она вообще им не обладала, но чем-то высшим, святым, каким-то особенным всепроницанием, втайне осознавая: люди – сама нужда и боль. Менее всего она хотела быть судией, мечтая завоевать у ослепленных ее красотой и поэтому глухих к ее человечности мужчин признание своей сентиментальной и жестокой профессии. Она была королевой и бродягой, то молилась на свое тело, то впадала в отчаяние от обладания им. «Но ведь столько красивых девушек!» – восклицала она в ответ на чью-то восхищенную немоту, как будто ее красота была непреодолимым препятствием серьезного отношения к ней самой. Все это было неподвластно суду разума – меня затянул водоворот, где ни опоры, ни передышки. В результате она стала моей единственной реальностью. Я мало что знал о ее прошлом, но оно и так было понятно. Мне даже казалось, что я чувствую ее боль острее, чем она сама. Ибо меня не примиряла с жизнью тихая гордость за то, что я пережил.
Это было какое-то необыкновенное лето, так оно и запомнилось. Утро начиналось с того, что мы с Мартином и Блумгарденом обсуждали постановку и просматривали актеров на имевшиеся вакансии. Или же я отправлялся к Борису и Лизе Аронсон, которые жили на Сентрал-Парк-Уэст, где мы погружались в бесконечные варианты декораций к обеим пьесам. При этом моя душа жила половинчато, наслаждаясь и испытывая угрызения, в голове все перемешалось и был полный сумбур от пьянящей красоты бытия. Днем я отправлялся в Бруклин, где в перегретой буксе в Бей-Ридже Винченцо Риччо обучал меня искусству выжить в этом самом бандитском из городских районов. Летние ночи как нельзя лучше подходили для всяких драк, и бессмыслица происходящего делала мои скромные притязания на упорядоченную жизнь более осязаемыми.
Та часть Бей-Риджа, где обитал Риччо, оказалась трущобами. Здесь жили в основном белые иммигранты, ирландцы, итальянцы, семьи выходцев из Германии и Норвегии. С улицы дома выглядели сносно. Неподалеку располагалось большое негритянское гетто Бедфорд-Стейвисант, но конфликтов на расовой почве не возникало. Более того, ребята-негры, когда дома наблюдалось временное затишье, могли отправиться на метро на другой конец города, чтобы ввязаться в какую-нибудь драку между белыми бандами. Негритянские группировки враждовали между собой не меньше и по тем же самым причинам. Казалось, своей непримиримостью вражда была отчасти обязана полной бессмысленности. Высокий приличный восемнадцатилетний паренек-негр, сын врача из Бронкса, специально приезжавший в Бей-Ридж подраться, на мой вопрос, что его привело сюда, пожал плечами, бросив на меня недоуменный взгляд, в котором читалось презрение, как я мог быть настолько глуп, чтобы не понять его. Бессмысленность драк была некой формой самоутверждения, насмешкой над общепринятыми представлениями, что есть победа, а что поражение. Логика духа оборачивалась непостижимостью сознания.
Рядом с Риччо жизнь этих джунглей, скрытая за семью печатями, становилась понятнее. Я увидел, что родовые кланы, которыми руководили все те же подростки, заменяли им слабых или несостоявшихся отцов. Ребята были в том возрасте, когда душа требует рыцарских поступков, и в их головах перемешалось все, что они когда-либо об этом слышали. Но их поведению был свойствен свой пафос. У каждой банды был президент и военный министр – правительство в миниатюре, авторитет которого, особенно лидеров, опирался скорее на уважение, чем на какие-то формы принуждения. Эти американские парни ни во что не верили и ни в чем не сомневались. Они могли неожиданно сорваться и отправиться на Фултон-стрит ограбить прохожего, но в этом случае каждый действовал на свой страх и риск, не прибегая к помощи банды. Как члены единого союза они представляли нечто вроде военизированного объединения и отстаивали то, что ими понималось как честь, – то есть высокие трофеи победы.
Я понял, что, борясь с бандами, общество исходит из того, что единственным мотивом поведения человека служит нажива, в то время как банда неким весьма неординарным образом рассматривала себя как общественную подмогу. Объединяясь в банду, ребята утверждались в чувстве собственного достоинства, в то время как деньги зарабатывали в одиночку. Как с любым проявлением идеализма, трудно было понять, чего они на самом деле хотят и как можно удовлетворить их запросы.
Риччо, дитя трущоб, младший в семье, где был двадцать один ребенок, рос в бедности и хорошо понимал эти проблемы. В свои двадцать пять с небольшим он окончил колледж св. Иоанна, университет подземки и, не имея престижных дипломов или перспективы получить их, ощущал себя в некоем приниженном положении по отношению к более образованному руководству «Мобилизации молодежи», которая проводила программу «вживления» своих ребят в организованные группировки. Во время службы на флоте, где, по его словам, «заработал вставные челюсти», Риччо боксировал в легком весе и тем уважением, с которым к нему относились пацаны, во многом был обязан своим ловким увесистым кулакам. Он не затруднял себя теорией: «Они безотцовщина, поэтому я для них образец. Они ищут уязвимое место, чтобы я поддался угрозам или встал на сторону другой группировки, одновременно мечтая, чтобы я выдюжил. Это все равно что стать хорошим, когда ты не перестал быть плохим». В их отношениях действительно было какое-то постоянное напряжение: легкий налет цинизма и трогательная надежда на спасение его примером и помощью. Риччо нашел правильный тон, оставаясь общественным лицом и в то же время доверенным человеком подростков. Полиция так и не согласилась на предложение «Мобилизации молодежи» разрешить ее уличным организаторам не доносить, если они узнают о преступлении, хотя по этому щекотливому вопросу кое-кто высказывал сожаление. Полиция хотела, чтобы они работали как осведомители, что подорвало бы их авторитет в глазах подростков. Кое-кто из полицейских соглашался на то, чтобы они работали конфиденциально, но большинство отвергало это, тем самым разрушая идею программы. Это явилось одной из причин, почему она постепенно сошла на нет.
Нельзя было не заметить, что в 1955 году события начали принимать иной оборот, ибо в трущобах впервые было отмечено появление наркотиков. Мне кажется, это стало симптомом более широкого и не до конца изученного явления общей потери ориентации, связанного не только с бандитскими группировками. Как-то, во время ужина с Джимом Маккарти и главным идеологом «Мобилизации молодежи» Ричардом Клоуардом из Школы организации социальной работы при Колумбийском университете, зашел разговор, чем отличается современная молодежь от своих сверстников тридцатых годов. Мы сидели в итальянском ресторанчике на Лoyep-Ист-Сайд, недалеко от жилого массива, который славился тем, что там происходили какие-то дикие истории: то поджигали подъезды, то блокировали лифты, то били стекла, то отколупывали плитку, но на людей никто не нападал. Полиция недоумевала и вызвала Маккарти как специального представителя мэра Вагнера по решению проблем молодежи приехать и разобраться.
Высокий, располневший, жизнерадостный Маккарти, которого легко было обнаружить в толпе среди пацанов в его неизменной бейсбольной шапочке, был смешлив, но в доверчивых ирландских глазах постоянно сквозила серьезность. Слушая, он обычно кивал головой: «Верно, верно». Акты вандализма приписывал событиям, которые в последние месяцы разыгрались в жилом массиве. Здесь возник жилищный комитет, члены которого отвечали за порядок на этажах, посещали семьи неблагополучных подростков и выступали третейскими судьями при разрешении конфликтов. Все шло своим чередом, пока районное начальство не заподозрило комитет в симпатиях к Красному фронту, и его быстро распустили, запугав всех, кто в него входил. Джим считал, что как политическая организация комитет поднимал моральный дух и чувство ответственности у жильцов, среди которых было много неквалифицированных рабочих и безработных. Вкушая спагетти, мы понимали, что городская организация «Мобилизация молодежи» не могла выступить в защиту жилищного комитета, который и впрямь мог оказаться организацией левого толка, играя при этом общественно полезную роль. К тому же что можно было предложить взамен? Демократы с республиканцами едва ли стали бы заниматься организацией комитетов по месту жительства. Это было не в их духе. Одним словом, акты вандализма, как и многое другое, были жестом отчаяния, неверия в свои силы.
Такая деполитизация жизни района заставляла задуматься над глобальным вопросом: какие общественные идеалы будут владеть умами в ближайшем будущем? Пятидесятые были полны разочарования и, насколько можно было судить, не имели четких тенденций и форм. Мы все трое выросли в годы Депрессии, когда человек не мыслил себя вне общества. И появление самостийного жилищного комитета казалось возвратом к нормальной жизни в духе тридцатых годов, когда проблемы решались всем миром, то есть общими усилиями и при общей ответственности. Возможно, за комитетом действительно стояли коммунисты, но если коллективные усилия как таковые ставились вне закона, то это касалось и коллективной ответственности. Все неизбежно сводилось к тому, что каждый отвечал только за себя, телефоны в полиции разрывались от звонков, но на мольбы и просьбы там делали удивленную мину либо вовсе не реагировали.
Казалось, мы стоим у залива, который необходимо переплыть.
– Если людям запретить общественные выступления, то куда пойдет эволюция? – спросил я Клоуарда, который лучше нас с Маккарти разбирался в теории.
– Мерилом станет стиль жизни, – ответил он. Я ничего не слышал об этом.
– Что ты имеешь в виду?
– Начнется конкуренция стилей жизни. Особую роль будут играть разного рода условности, ничего не значащие различия в одежде, манере говорить, еде, машинах и так далее. Классовая борьба, по-видимому, изжила себя вместе с идеей партии. Люди все меньше заинтересованы предпринимать коллективные усилия, которые теперь нередко кажутся странными, а то и бессмысленными. Они все больше будут выражать себя в стиле и все дальше отходить от политики. Сознание будет ориентировано не на классы, а на стили.