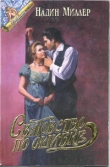Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 49 страниц)
Ли нахмурился.
– Нам надо серьезно поговорить.
– Да, я давно мечтаю об этом.
– Ситуация невыносима.
– Ты прав.
Вероятно, у него есть какая-то методика, чтобы ей помочь, и мы сегодня же приступим к работе – так мне показалось. В какой-то момент я обрадовался, что ошибался и он знает секрет, как спасти Мэрилин, душа которой в этот момент томилась в сумрачном подземелье.
– Если вы сейчас же не предпримете шагов, я сниму Паулу с картины. – Он взглянул мне прямо в глаза, как будто требуя, чтобы я поддержал его.
При чем здесь Паула? Я посмотрел на диван, где, самодовольно усмехаясь, как будто радуясь тому, что наконец попала в центр внимания, возлежала эта женщина.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь, Ли.
– Хьюстон не хочет с ней разговаривать. Разве это не оскорбительно? Я не позволю ей больше работать с вами, пока он не извинится. Я не допущу, чтобы с ней так обращались. Она художник! Работаете известнейшими кинозвездами. Нет, это вам так не пройдет!
Ошеломленный, я не мог понять, о чем речь. Может, Паула не успела рассказать ему, что Мэрилин находится in extremis [22]22
Здесь– на пределе ( лат.).
[Закрыть], что речь, возможно, идет о ее жизни, не говоря об угрозе срыва работы над фильмом. Разве иначе он мог бы предъявлять такие претензии? Говорить, что режиссер не оказывает должного почтения его супруге? А может быть, Паула настолько одержима манией величия, что не замечает болезненного состояния Мэрилин? Неужели Ли согласился приехать только затем, чтобы утвердить свой авторитет решением надуманной проблемы с женой и выйти сухим из воды, когда Мэрилин нуждается в его помощи?
Это было ужасно. Глядя на невообразимый костюм, в котором он напоминал заядлого туриста на отдыхе, я подумал, не драматизирую ли события, слишком всерьез воспринимая раздражение Мэрилин, возможно, обычное состояние актрисы во время съемок? Я не знал, что предпринять.
А он продолжал… Какая Паула несчастная и заброшенная, как беззаветно кладет жизнь, помогая выдающимся актерам, как он не хотел ввязываться, но придется «для блага Мэрилин». Его невозможно было остановить и в то же время с ним было унизительно говорить всерьез, до такой степени этот человек был ослеплен собственным величием и величием своей жены, что страдания Мэрилин доходили до него, как свет далекой звезды, которая тут же померкнет, стоит закрыть глаза, ибо эта звезда очень далеко, – и ничего более.
– Прежде чем я начну помогать, Артур, я должен решить эти вопросы.
– Ничем не могу быть полезен, это касается только Джона и Паулы.
– Да, но это твой фильм, и ты должен помочь.
– Не фильм, а сценарий. Поэтому я бессилен, Ли. Джон не привык общаться с актерами через посредников, и, я думаю, его уже не переучить. Так ты не будешь разговаривать с Мэрилин?
– Мне придется забрать Паулу с собой.
– Ну что ж, это будет, наверное, конец картины. – Не говоря о Мэрилин, если она не доведет съемки до конца. Но об этом было бессмысленно говорить. – Ты волен поступать как знаешь. Но все-таки переговори с ней, она сейчас очень нуждается в твоей поддержке, ты понял?
– Конечно, переговорю, – уступил он.
И я понял, как он живет – сделав все, что можно, ни при каких обстоятельствах не брать ответственности на себя, особенно теперь, когда Мэрилин на пределе. И это был тот единственный человек, которому она во всем доверяла. Такова была ее судьба.
Съемки практически прекратились. Какой смысл было возить несколько десятков человек через горы к соляному озеру, когда неясно, удастся ли поработать. Наступил кризис. Не знаю, что говорил ей Ли, сразу же после этого отбывший в Нью-Йорк, но это не повлияло на ее отношение к работе. Я поднялся к Пауле, боясь, как бы она по глупой рассеянности не перестала наблюдать за Мэрилин. Трудно было понять, сознает ли она, насколько слаба Мэрилин. Я никогда не был до конца уверен, слышит ли Паула, что ей говорят.
Она встретила меня, приложив палец к губам, пропустила в гостиную, прошла в спальню и позвала за собой. Мэрилин сидела на кровати. Врач осматривал внутреннюю сторону ее руки в поисках вены, чтобы вколоть амитал. У меня внутри все перевернулось. Увидев меня, она закричала, чтобы я вышел вон. Я спросил врача, знает ли он, сколько она уже приняла снотворного и других лекарств. Молодой испуганный парень бросил на меня растерянный взгляд – он хотел побыстрее сделать укол и уйти, чтобы никогда больше не возвращаться. Тут же, около кровати, в черной хламиде, с аккуратно зачесанными подколотыми волосами, напудренным носом и выражением материнской заботы на лице стояла пышущая здоровьем Паула. Мне показалось, что она едва ли испытывает чувство вины. Да, она поняла, что сделка оказалась невыгодной и ситуация вышла из-под контроля. А потому искала поддержки, требуя признания собственной самоотверженности, ибо не могла не проявлять заботу, хотя это уже потеряло смысл. Я хотел увести доктора, чтобы он не делал укол, но Мэрилин страшно закричала – мое присутствие вызвало в ней прилив ярости, – так что нечего было и думать ей как-то помочь. Я вышел и стал ждать врача в гостиной. Он удивился, что она не засыпает, хотя дозы хватило бы на большую операцию. Сидя на кровати, она, однако, продолжала болтать. Он понимал, что к нему обратились в последнюю очередь, когда никто из местных врачей уже не пошел. И тоже отказался приходить, опасаясь за ее жизнь после всего увиденного. Я вернулся в спальню. Она посмотрела на меня, опустошенная и затихающая, несколько раз повторив, как во сне: «Убирайся вон».
Паула на этот раз была очень внимательна. «Пойду схожу вниз за обедом…» Я испытал ответный прилив теплоты, наверное потому, что сам крайне нуждался в поддержке, и заметил, что в уголках ее глаз застыл страх. Раз боится, значит, в здравом уме, раз в здравом уме и все еще здесь, значит, у нее есть какие-то обязательства, кроме любви к себе. Я поблагодарил ее – так, ни за что, – она коснулась меня рукой и пошла с кем-то из актеров за обедом.
Мэрилин лежала с закрытыми глазами. Я ожидал услышать затрудненное дыхание, однако она была спокойна. Цветок из стали и то бы не выдержал такое. Я впал в отчаяние: как же я был самонадеян, думая, будто мне под силу одному сберечь ее от дурного, и перебирал в голове, кто бы мог ей помочь. Давила усталость, и не было никакой надежды, что когда-нибудь мы снова сможем общаться. Я слишком долго был рядом и ничего не приобрел, кроме чувства неизбывной ответственности за ее жизнь. Она же нуждалась в ином – взлететь на гребне бегущей волны, чтобы та с грохотом вынесла ее, загадочную морскую богиню, на берег. Презирая магию, она все-таки хотела, чтобы предметы вспыхивали от ее прикосновения, доказывая, что высокое искусство и власть что-то такое же неотъемлемое, как и ее глаза. Я вспомнил о ее лос-анджелесском враче, хотя он вряд ли бы согласился оставить практику и приехать сюда. Но отбросил эту мысль: пусть возьмет себя в руки. Почему бы ей не позаботиться о себе, если это единственный выход. Но она, похоже, уже не могла, полностью попав во власть снотворных таблеток, а до меня слишком поздно дошло, что именно из-за них я потерял ее… Круг замкнулся, я понял, что ей, наверное, уже не помочь. Я был сейчас совершенно беспомощен, мешок гвоздей, брошенных ей в лицо, немой укор в беспомощности перед собственным прошлым, с которым она не могла совладать, даже по-настоящему полюбив.
Впервые за долгое время мы были вдвоем в тишине, и мысль, что она в таком состоянии должна еще и работать, показалась мне чудовищной – мы все сошли с ума, как это могло произойти? Надо было срочно прекращать съемки. Хотя я знал, что она придет в ярость, расценив это как обвинение в том, что из-за нее провалилась картина. Не говоря уже о карьере.
Я вдруг поймал себя, что от безысходности уповаю на чудо. Она проснется, а я скажу: «Господь вернул тебе свою любовь, дорогая». И она поверит! Захотелось стать верующим, чтобы она тоже обрела веру. Все встало на свои места, мы изобрели Бога, чтобы не умереть от жизни, где самая большая реальность – это любовь. Я представил, как ее жесткий страдающий взгляд исполнится сокровенности и кротости, в этом для меня была ее суть, ее неповторимость. Все остальное, влекущее и пугающее в ней и в других, лежало по ту сторону любви.
А что было бы, фантазировал я, перестань она быть кинозвездой, – смогли бы мы жить как самые обычные люди, на равнине, далеко от высочайшего пика, где воздух сильно разрежен? Эта мысль вдруг выскочила из-под меня, как костыль, и образ Мэрилин потерял свои очертания. Что бы она делала, едва умея писать, в обыденной жизни? Увлеченный видением, я продолжал представлять, как спокойная, позабывшая об изнуряющих ее страхах Мэрилин, молодая, от рождения интеллигентная женщина, днем занимается своими делами, а вечером, умиротворенная, ложится спать. Возможно ли это? В своей безвестности она была мне намного дороже.
И тут я осознал собственный глубочайший эгоизм, ведь положение кинозвезды было главным достижением ее жизни, ее триумфом. Что бы я сказал, если бы условием женитьбы мне поставили отказ от творчества? Весь ужас был в том, что между нею и этой кинозвездой не существовало малейшего зазора. Ее убивало то, что она Мэрилин Монро. Иного ей было не дано. Она жила от фильма к фильму, и отказаться от славы для нее в буквальном смысле означало зачахнуть. Она с наслаждением возилась в саду, любила переставлять в доме мебель, покупать какую-то ерунду вроде лампы или кофейника. Все это было предуготовлением к уютной жизни, которой она не могла долго выносить, и в порыве новой роли опять устремлялась к луне. С юных лет, сначала в мечтах, а потом в жизни, она установила особые отношения со зрителем, и лишиться их для нее было все равно что отторгнуть кусок живой плоти.
Вожделея о чуде, я понял, что никакими умозрительными решениями ее не спасти. Только мгновенный шок, отрезвляющее видение собственной смерти могло бы подвигнуть ее на отчаянный шаг снова обрести веру. Похоже, понимая это, она ввергала себя в краткое наркотическое забытье, раз от разу становившееся все опаснее.
Я не располагал тайным знанием, чтобы спасти ее. Не мог взять и повести за руку, так как она отказывалась протянуть ее мне. Единственное – вера, что я ее последняя опора, и та покинула меня. Трудно было допустить, что ей вообще кто-нибудь в состоянии помочь.
Одно было непреложно – она не может закончить съемки. Но этот провал подтвердил бы наихудшие опасения, что она находится под магнетической властью жуткого прошлого и не в состоянии совладать с собой. Она спала. А я еще раз страстно посетовал, что не умею молиться и не могу сотворить для нее образ, о котором знает только любовь. Хотя и это бы не спасло.
Около года назад, когда Мэрилин снималась в Голливуде в глупейшей комедии «Давай займемся любовью», к нам заглянул Уолтер Уэнджер, предложив подумать о сценарии по повести Камю «Падение». Я перечел ее, но желания писать сценарий не возникло, и мы просто поговорили. Я слышал, что в период гражданской войны в Испании Уэнджер поставил «Блокаду» с Генри Фонда и Мадлен Кэролл, фильм, который стал одной из немногочисленных попыток Голливуда отреагировать на поражение демократии. Несмотря на завуалированную поддержку республиканцев, фильм пикетировался ура-патриотическими силами. Уэнджер производил впечатление серьезного и очень образованного человека. Однако по нему сразу было видно, что он режиссер старой голливудской закваски, и я вспомнил, что где-то читал, будто несколько лет назад он застрелил любовника своей жены.
Если опустить философский подтекст, то «Падение» – история о сложности взаимоотношений мужчины с женщинами, которую отодвигают на второй план сосредоточенные рассуждения повествователя-мужчины об этике, в частности о том, можно ли осуждать человека за ужасный поступок, когда он остался равнодушным к чужому зову о помощи. Антигерой, от лица которого ведется повествование, выступает в роли «судьи-грешника», преследуемого сознанием вины за то, что не остановил девушку, которая на его глазах бросилась вниз с моста.
Повесть была тонко выписана, но ее финал заставил предположить, что автор хотел поставить более серьезную проблему, чем чье-то равнодушие к чужому крику о помощи. Рискуя жизнью, можно было спасти девушку и обнаружить, что ее спасение вовсе не в тебе, сколь бы заботлив и внимателен ты ни был, а в ней, и только в ней самой. А что, если в худшем случае попытка спасти диктовалась тщеславием и любовью? Может ли болезненное себялюбие перечеркнуть этическое деяние? Возможно ли, исходя из самых искренних побуждений, спасти того, кто отказывается от спасения? Может быть, все дело в том, чтобы пробудить в человеке стремление к жизни? А если это невозможно, то с какого момента тот, кто спасает, обречен на неуспех? Можно ли оправдать неуспех и в каком случае? На мой взгляд, «Падение» обрывалось слишком рано – там, где начиналась самая большая боль.
В конце концов, самоубийство может выражать не только разочарование в себе, но и ненависть к другому. В Китае по традиции самоубийца вешался в дверном проеме дома своего обидчика. Это было не только сведением счетов с собой, но и своеобразной формой мщения. Согласно христианской морали, тех, кто наложил на себя руки, было запрещено хоронить на кладбище. Не потому ли, что этот человек умирал не только в ненависти к себе, но к Богу, божественному дару жизни?
Ее сон вовсе не походил на сон, но был пульсацией измученного существа, которое сражалось с демоном. Как его звали?
Она видела себя жертвой, которую все предают, как будто была пассажиром в собственной жизни. Однако, как и все, она была еще и машинистом, ибо не бывает иначе. Похоже, она догадывалась об этом, но не хотела мне признаться. Поэтому я был бесполезен и только раздражал ее. Самая страшная ирония заключалась в том, что, не приняв этот образ жизни, я предпочел избавить ее от него, только укрепив уверенность, что она жертва. Я отверг мрак, в котором она жила, не признав его власти над нею, она же восприняла это как отказ от нее самой. Только божественная благодать могла даровать ей спасение, но этого не произошло. Ей ничего не оставалось, как защищать свою невинность, в которую она не верила в глубине души. Невинность губит.
Поскольку завершение съемок было на грани срыва, Хьюстон взял быка за рога и отправил Мэрилин в Лос-Анджелес, в частную клинику к врачу-психоаналитику, который должен был отучить ее засыпать с барбитуратами. Она вернулась дней через десять, поразив меня своей героической способностью к быстрому восстановлению сил, физических и душевных; но здоровье и так бы вернулось к ней, если бы она проявила стойкость и отказалась от снотворного. Потянулись дни напряженной работы, мы снова общались. Она держалась на расстоянии, но в ее отношении ко мне по крайней мере не было открытого озлобления. Не обсуждая, мы оба знали, что практически разошлись. На мой взгляд, это сняло с нее напряжение, и я радовался этому.
Финальная сцена снималась последней. Согнав мустангов в круг, Лэнгленд останавливал машину, чтобы Розалин отвязала собаку, о которой забыли. Съемки проходили на киностудии в Лос-Анджелесе. В зеркале заднего вида была видна убегавшая в пустыню дорога, Гейбл тормозил, Мэрилин спрыгивала к собаке. По сценарию Гейбл провожал ее взглядом, в котором явственно проступала любовь, но, стоя у камеры, футах в десяти от него, я заметил, что выражение его глаз лишь слегка изменилось.
«Все! Кончили! Спасибо, Кларк, спасибо, Мэрилин!» Хьюстон был оживлен, деловит и наотрез отказывался сентиментально прощаться с прошлым. Не тратя времени, он сказал, что должен пойти поработать над фильмом с монтажером. Я спросил Гейбла, не опасается ли он, что его взгляд в последней сцене был недостаточно выразителен. Гейбл удивился. «Главное – глаза. В кино все дело в глазах. – Он очертил их в воздухе прямоугольником. – Нельзя утрировать, на экране все увеличивается в сотни раз». И оказался прав, в чем я не преминул радостно убедиться, глядя, как стремительно развивается в фильме действие этой сцены. В нужный момент его взгляд смягчился, хотя я не заметил этого тогда, когда стоял от него всего в нескольких футах.
Пришло время прощаться. Гейбл сказал, что накануне ночью видел черновой ролик «Неприкаянных». На его взгляд, это был лучший фильм в его жизни. Он по-мальчишески хохотнул, схватил меня за руку и тепло коснулся плеча, будучи не в состоянии скрыть восторг, которого я никогда не замечал у него раньше. Его уже поджидал друг, который приехал забрать Гейбла на недельку куда-то на север, порыбачить и поохотиться. Мы посмотрели в глаза друг другу чуть дольше положенного, испытав облегчение, а может быть, даже удовлетворение. Он повернулся, сел в кабину огромного «крайслера» и укатил. Через четыре дня его не стало, у него случился инфаркт.
Когда машина отъехала, я оглянулся в поисках Мэрилин и увидел коричневый лимузин, в котором, напряженно глядя перед собой и делая вид, что не замечает меня, сидела Паула. От бесконечных потерь меня охватило целительное равнодушие. Из всех, с кем в последнее время приходилось общаться, Паула стремилась сделать больше других, чтобы ситуация не стала хуже.
Садясь в машину, я открыл дверцу, и тут из здания вышла Мэрилин. У нее было настолько безмятежное, беззаботное выражение лица, что я в который раз усомнился, уж не придумал ли ее трудности. В конце концов, каждая из последних трех-четырех картин давалась ей весьма мучительно. Наверное, глупо было винить себя в том, что, работая, она все время раздражается. Не говоря о том, чтобы терять ее из-за этого. «Мужчинам всегда нравятся счастливые девушки». Как бы там ни было, мы уезжали со съемок в разных автомобилях, что было достаточно нелепо. Однако больше всего я опасался, как бы Мэрилин не постигла участь ее матери. Она наконец решила всерьез стать актрисой и завоевать это право своим мастерством, что было недопустимо и греховно. Последняя роль, возможно, стала сущей пыткой из-за того, что она пыталась утвердиться в своем женском достоинстве.
Я ехал по бульвару Сансет в непритязательной, взятой напрокат «америкэн моторс», зеленой развалюхе, самым большим достоинством которой было то, что на нее никто не обращал никакого внимания. Сбоку промелькнула вывеска ресторана, и я вспомнил, как однажды, когда Мэрилин снималась в фильме «Давай займемся любовью», мы, устав от однообразного меню в гостинице, приехали сюда поужинать. Чтобы нас никто не узнал, она надела темные очки от солнца и пестрый платок, я же, наоборот, снял очки. Мы не заказали столик заранее, и нас не пустили. У меня рука не поднялась надевать ради этого очки или просить Мэрилин снять свои. Мы посмеялись, но что-то в этой ситуации задело ее. Теперь, проезжая мимо, я вспомнил, что, очутившись на улице, сам испытал неприятный осадок, неожиданно поняв, что, того не желая, попал в тенета власти общественного признания, когда только и ждешь, что тебя повсюду будут встречать с распростертыми объятиями. С какой радостью я сейчас незаметно ехал в старой, подержанной машине.
Миновав несколько кварталов, остановился у светофора. Рядом затормозил коричневый лимузин. Обе женщины напряженно смотрели вдаль, при этом Паула, как всегда, оживленно болтала, и я понял, что меня в который раз подвело былое стремление верить в особую спаянность людей, объединенных единой целью. Я всегда испытывал боль, когда работа над моим произведением завершалась и актеры неизбежно разбредались каждый своим путем.
Долгие съемки, как фильма «Неприкаянные», сродни ежедневным прогулкам во внутреннем дворике, окруженном высокой стеной. Порою не вспомнишь, сколько времени прошло с тех пор, как начал писать сценарий, – два года, три, – как вдруг ворота распахиваются, и открывается прекрасный солнечный мир. Я с легким чувством ехал в Сан-Франциско, не зная там ни души, – превосходное ощущение, хотя оно и озадачивало. Было начало шестидесятых. В «Хангри-ай», первом политическом кабаре, которых я не видел со времен «Сообщества», кафе конца тридцатых, где царил Морт Сахель, чье едкое остроумие трудно было с чем-то сравнить, молодежная публика представляла собой сборище умытых и разобщенных интеллектуалов. Это напомнило наши собрания, где тоже собирались незнакомые люди, но нас объединяла борьба против Гитлера, эти же всего лишь пребывали в ожидании Годо. Я понимал, что подобные сентенции о целых поколениях – миф, которым каждый расцвечивает свое время, как осьминог окрашивает краской вокруг себя воду.
У власти стоял Эйзенхауэр, Кеннеди был на подходе. Странно, но я волшебным образом оказался отрешенным от жизни, впервые за несколько десятилетий не имея даже собственного дома. Колесить по Сан-Франциско было одно удовольствие, намного спокойнее, чем по Нью-Йорку, – незнакомые места в Америке всегда кажутся безопаснее, чем те, которые знаешь.
Казалось, все утрясется, но не проходило и нескольких часов, чтоб я не вспомнил, что Мэрилин находится среди чужих. Дошло до того, что, кроме меня, все стали казаться для нее посторонними, – ведь со мной она была много дольше, чем с кем-то за всю жизнь. Мною вновь овладели эгоистические чувства. Она, как и я, изо всех сил старалась давать, но не умела брать. Медленно, день за днем постигая, что она все-таки знает, как жить, я наконец позволил себе такую роскошь, как быть отвергнутым ею. Захотелось в Коннектикут – пожить и, если получится, заняться сельским хозяйством.
Потом снова накатывало мрачное настроение, когда я вдруг начинал сомневаться, что она знает, как жить. Страх рассеивался, стоило вспомнить, насколько я бесполезен для нее, и так снова и снова по двадцать раз на дню. Пора было смириться, что у нее есть своя точка опоры. Как это ни сентиментально, она все-таки являлась реальностью этого мира. Я запретил себе думать на эту тему – каждый спасается сам, никто не может спасти другого, кроме него самого. Но воспоминания были сильнее меня, сомнения не покидали, и я снова и снова проверял, не заблудился ли в частностях. Неужели ее врач не знает, какую смертельную опасность представляют для нее снотворные? Может быть, его обманывала ее внешность, когда она входила в его кабинет, кровь с молоком, с виду похожа на старшеклассницу, за несколько часов до этого побывав в лапах у смерти? Понимал ли он, что она физически невероятно вынослива? Даже ее желудок был в сговоре против нее.
На обратном пути в Лос-Анджелес я раздумывал, чт о подвигнуло первых киношников выбрать под киностудию этот безжизненный край, пустыню, которую пришлось оросить, прежде чем она зазеленела, с самого начала являясь чем-то искусственным. Я вспомнил, как Фокс предлагал отцу субсидировать свое начинание. Оно так и осталось ничем, кроме станка для печатания денег. Но люди почему-то всегда ждут от него чего-то возвышенного.
В дверь моего номера в голливудской гостинице постучали. На пороге стояла женщина лет под тридцать, аккуратно одетая, в юбке из шотландки и блузке, с виду похожая на прелестную школьницу со слабым истрепанным ртом.
– У вас не будет чернил? – Напряженный взгляд прямо в глаза – необычайно трогательная манера дать понять, что она знает, кто я, и ей известно, что теперь я один.
– Чернил?
– Я пишу.
– Нет, чернил нет. Я могу предложить шариковую ручку.
– Спасибо. Но я пишу только простой.
– A-а. Так вы писательница?
Тонкий лед. Ее щеки порозовели.
– Ну что вы, я еще только учусь. – Она слегка улыбнулась.
– Отлично. Рад предложить вам шариковую.
– Спасибо. Мне действительно надо чернил.
– Тогда ничем не могу вам помочь.
– Извините. – Она повернулась, чтобы уйти. От обиды голос стал высоким.
Я подошел к окну и с высоты восьмого этажа посмотрел вниз на бассейн. Молодая женщина плыла кролем. Она вышла из воды и стала загорать на солнце, наклонившись, чтобы отжать мокрые волосы. У нее были толстые бедра и широкий зад. Женщины, божественные измученные существа. В юности я особенно остро чувствовал, что им постоянно лгут, – почему они никогда не замечали этого?
Я поехал на пляж, но дул холодный бриз, и там почти никого не было. В ленивости Тихого, в отличие от более резвого, холодного и соленого Атлантического, сердитого и полного идей, всегда чувствуется какая-то апатия, почти одиночество.
Из воды вышла девушка с ньюфаундлендом на поводке. «Да есть миллион красивых девушек», – как-то сказала она мне, когда я любовался ею в новой синей юбке от матросского костюма. Она хотела, чтобы все было сразу, но одно исключало другое: восхищение внешностью таило неуважение к личности, в то время как она бесконечно боялась оказаться незамеченной. Я снял ботинки и шлепал по кромке теплой воды, мягко набегавшей на прибрежный песок. На завтра не было никаких планов, но что-то подталкивало, заставляя спешить и стараться не упустить время. Ради чего? Кто собирает утраченное время? Его нельзя потерять, мы просто транжирим его, выбрасываем, все зависит от человека, а я не хотел больше отказываться от самого себя, вот и все, и решил пожить так какое-то время. Надо было учиться преодолевать внутреннюю апатию, вылечиться, отдавая энергию вовне, открыться навстречу миру, перестав ориентироваться на одну цель, которой не стало.
Разве можно разобраться в себе, тем более понять другого человека? Единственное, что оставалось, – это ирония. Остывающее светило, которое садилось сейчас на моих глазах, где-то вставало раскаленным и новым.
Неужели кто-то всерьез полагал, что это место принадлежит ему? Было странно подумать, что она родилась здесь. Только поэтому я уже не мог понять ее – она верила, что этот город – реальность, а не вид е ние, появившееся невесть откуда.
В такой вечер, когда солнце садилось, «они сказали, что мы едем покататься на машине, а когда остановились, я увидела, что это приют, вцепилась в дверцу и закричала: „Я не сирота, я ведь не сирота!“ Они отрывали мои пальцы, чтобы завести в дом и оставить». Теперь она научилась смеяться над бедными неразумными людьми, которые бросили ее.
Я вернулся к машине и сел, чтобы отряхнуть с ног песок. Прохладная ночь наступает в Калифорнии быстро, как будто в теплой комнате распахнули дверцу холодильника. Первая ночь в приюте убила в ней благословенность жизни, и это чувство умерло в ней. У нее были мать и отец, но при этом не было дома; у нее были корни и своя жизнь. Теперь же то, кем она была, навсегда перестало иметь какое-либо значение. И можно было провалиться в бездну от того, что кто-то о тебе скажет, или потеряться – когда кто-то окинет цепким взглядом. И стать покладистой и пропеть песенку сиротки, очаровывающую своей правдивостью.
Может быть, ее крик означал, что она знает, у нее есть настоящий отец, и он был даже женат на ее матери? Возможно, мать сама во время одного из буйных приступов по возвращении из больницы придумала историю о том, что отец дочери был богатый красавец, отказавшийся признать ее? Терзаемая грехом, подверженная религиозному остракизму, не сама ли эта бедная женщина придумала историю о незаконном младенце, на котором лежит проклятие, обретя в этом оправдание убийству и перенеся факел из своего сердца в сны дочери? Где он продолжал полыхать, увы.
Бен Хехт первый понял, какой клад таит в себе идея ее сиротства, и занялся разработкой, но она сама так никогда и не могла четко ответить, действительно является сиротой или ее лишь на какое-то время отдавали в приют. Похоже, для нее это оставалось столь же неясно, как для ее матери, от которой она только и усвоила, что незаконный ребенок – грех, а грех делает тебя никчемной. Хехт уловил привлекательность этой идеи, ибо если ты никчемен и выглядишь как невинный ребенок, то беззащитен как объект сексуальных вожделений или, если хотите, ты – вольный дух, и никто в мире не властен потребовать отчет в твоих поступках.
Однако тут была закавыка: у нее имелся адрес, корни, своя жизнь, она не была беззащитной и не заслуживала того скрытого презрения, с которым, как всегда кажется этим несчастным, к ним относятся окружающие, с другой же стороны, она была тем, чем ее хотели видеть, – очаровательным сексуальным существом без адреса и без дома. Так кем быть? Все было бы намного проще, если бы в глубине ее души не существовало стремления прожить жизнь осознанно.
В самолете на обратном пути в Нью-Йорк после завершения съемок «Неприкаянных» я пристегивался ремнями, когда в проходе остановился, пробираясь в туалет, полный мужчина лет около семидесяти и, уставившись на меня, спросил:
– Послушайте…
– Знаю, но я – не он. Очень похож, но вы ошиблись.
– Морис Грин?
– Нет.
Теперь уже я не мог сдержать своего интереса:
– А кто такой Морис Грин?
– Как – кто такой Морис Грин! – сказал он, как будто это был Боб Хоуп. – Морис Грин из Пафкипса. Скобяные изделия Грина, не знаете, что ли?
– Ах вот оно как! Нет, вы ошиблись.
– Голову бы дал на отсечение. Простите, – сказал он и пошел дальше, ненароком сбросив с подлокотника мою руку. К счастью, я снова оказался одним из всех, быстро низринутый в национальную реку лиц, катившую свои воды сквозь горловину Америки.