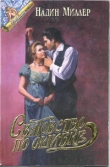Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 49 страниц)
Убийственная ирония истории создания атомной бомбы была еще свежа в памяти. Мозговой трест Манхэттенского проекта составляли немецкие ученые-беженцы, которые опасались, что оставшиеся в гитлеровской Германии коллеги, весьма толковые специалисты, успеют сделать бомбу быстрее, чем они. Америка станет заложницей Германии, и это повлияет на ход истории. Когда бомба была готова, Германия лежала в руинах и выяснилось, что Третий рейх не занимался серьезными разработками в этом направлении. Иными словами, в появлении американской атомной бомбы не было никакой необходимости.
Многие из работавших над ней были евреи-антифашисты, радикалы, а то и марксисты. После войны у них на глазах ими созданным оружием начали угрожать Советскому Союзу, к которому они когда-то питали глубокие симпатии. Своего апогея ситуация достигла с Робертом Оппенгеймером, который, будучи душой проекта, обеспечил Америке в послевоенном мире небывалую мощь и в то же время находился на подозрении у американских служб госбезопасности.
Прошло пятнадцать лет после того, как бомбу, прозванную «толстяком», взорвали. Ханс Бёте хорошо сохранился – это был крепко сбитый пятидесятипятилетний мужчина, похожий на альпиниста. Он любил долгие пешие прогулки в бриджах и башмаках на толстой подошве. Дом, где он жил, напоминал жилье отшельника: в центре почти пустой большой темной гостиной лежал маленький восточный ковер. В сером свете итакского дня на застекленной веранде виднелись одинокие стол и стул.
Раз в неделю военный самолет непременно доставлял его в Вашингтон для консультаций. В нем было непонятное обаяние и в то же время грусть, и я побоялся ранить его своими многочисленными вопросами. Казалось, мир, в котором он живет, жесток и ироничен, однако это не имело никакого отношения к изобретению в Лос-Аламосе. Как же он все это сопрягал? Я знал, на этот вопрос у него не было краткого ответа, но меня скорее интересовал круг его эмоциональных переживаний, ибо тот же самый вопрос я задавал самому себе. Моя дилемма, однако, была проще, чем у него: как побороть гнетущий привкус горечи.
Это был скромный обаятельный человек. Я знал, что он крайне активно возражал против того, чтобы бомбу сбросили на головы людей, но не смог переубедить Трумэна. Он самоотверженно работал над Манхэттенским проектом, стремясь отстоять жизнь в схватке со смертью, которую нес Гитлер. Было над чем посмеяться: будучи физиком, он попал в точку пересечения сугубо научного поиска и политических государственных страстей.
Он рассказал, что в Европе в довоенные времена, как и здесь, физики были одиночками. Разве в здравом уме кто-нибудь согласился бы заниматься наукой, которая практически не имела прикладного значения, а значит, не таила финансовых или иных перспектив? Физик был жрецом в храме науки, исследовавшим свой предмет из чистого любопытства. Круг профессионального общения был очень узок – его знали лишь занимавшиеся теми же вопросами. Я спросил, как он работал.
– Как? С утра садился за стол, брал карандаш и пытался соединить нетривиальным путем известные вещи. Иногда получалось, но редко. Так шли месяцы, если не годы. Потом вдруг споткнешься, возникнет совершенно новая мысль. А может, не возникнет. Такое ощущение, будто ходишь по острию бритвы. И все время один. Так по крайней мере было, пока не придумали бомбу, ну и все остальное.
То, что он рассказал, очень напоминало работу писателя. И тоже в те времена, пока не появилось кино и культура массовых развлечений, а правда стала «полезной». Проговорив с ним несколько часов, я понял, что для него все остается такой же тайной, как и для меня, – мы не могли преодолеть иронию, с которой относились к миру, загнав себя туда рационалистическим подходом ко всему и вся. Каждый делал то, чего не собирался. И нес всю полноту ответственности, ибо кому-то надо было ее нести.
Но если у человека не было злого умысла, почему он должен был за все отвечать?
И если у него не было злого умысла, то откуда тогда появилось зло?
Не спрятан ли где-то глубоко под монашескими идеалами некий нерв, который не может не затрепетать, если окажется рядом с Властью? Не в этом ли конечность человека, единосущность с последним из нас, самым глупым и самым подлым?
Где может находиться сердцевина зла, как не внутри нас?
Я отправился в Принстон, чтобы встретиться с Робертом Оппенгеймером. Это был изможденный, глубоко подавленный человек – казалось, он приговорен и знает об этом. Его не стало через несколько лет. Он был отлучен органами безопасности от разработок государственных проектов, несмотря на то что считался отцом атомной бомбы. Мы беседовали в его неприбранном кабинете. О том, что я беседую с ученым, напоминала неуютная обстановка, твидовый пиджак и трубка – обычно я связывал его имя с представлением о власти и войне. В отличие от спартанского жилища Бёте его дом, насколько я помню, скорее напоминал апартаменты известного певца или актера – все было заставлено сувенирами, фотографиями, подарками, статуэтками, коврами, памятными значками со всего света. Когда-то это был уютный невзыскательный дом, где все напоминало о тех блистательных годах, которые были исполнены надежды, и великие мира сего приезжали со всех концов засвидетельствовать хозяину почтение. Теперь на всем лежала печать запустения. Его умирающая жена Китти Даллит, хрупкая невысокая женщина в твидовом костюме, который висел на ее исхудавшем теле, все еще была необыкновенно хороша – на ее лицо не легла тень возраста, но едва заметная настороженность и беспокойство напоминали об изуверских процедурах Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, разбирательством в которой она заплатила за свои прошлые связи с радикалами. Несмотря на то что она была больна и напугана, можно было представить, как она была когда-то жизнерадостна. На небольшой университетской вечеринке показалось, она наблюдает за мной с испугом, и я подсел к ней заверить, что не буду терзать их очередной журнальной статьей или телевизионным интервью, изыскивая новый ракурс проблемы. В ней было что-то дерзкое – этим она напоминала необыкновенно остроумную Дороти Паркер в возрасте. Атмосфера дома была омрачена тенью воспоминаний о лучших днях.
Меня не столько интересовала его вина или влекла потребность осудить его, сколько занимала та роль, которую наука играет в жизни ученого. Оглядываясь назад, надо признаться: во мне жило какое-то романтическое стремление к абсолютному самораскрытию, которое выражалось в желании обрести истину, ослепив себя конкретностью факта. Может быть, эту раздвоенность знали склонные к идеализации ученые? Схожая проблема могла существовать на любом уровне. Я повлиял на жизнь многих людей, моих жен, детей, а также, возможно, тех, кто смотрел мои пьесы в разных уголках земного шара. Однако мои творения лишь отдаленно выражали меня, так же как сделанные физиками открытия отрицали своих творцов. Казалось, невозможно жить, в полной мере не разобравшись, что такое ответственность. Постижение этой истины оказалось весьма болезненной хирургической операцией. Я рассматривал это явление не столько с нравственной, сколько с биологической точки зрения. Обычно для меня все упиралось в поведение. Было что-то призрачное, неуловимое в том, что большинство людей, будучи двухмерными существами, соглашались на одномерное существование, обрекая одну из своих ипостасей, если не рассматривать это как привилегию, на бездейственное созерцание другой, страстно желая включиться в свое собственное существование и одновременно боясь этого.
Не подобная ли раздвоенность лежит в основе присущего нам увлечения насилием и коммерциализации секса за счет отказа от чувств и ставки на развлечение. Порой казалось, что вся страна отправилась в массовый поход за новыми ощущениями. Прошлое в такой ситуации не могло служить поводырем, и тогда на первый план выходила кинозвезда, олицетворявшая массы и вызывавшая зависть как известностью, так и высокими ставками. Ее триумф, являвшийся, по сути, отказом от себя, становился целью жизни. Одурманенное наркотиками бытие постепенно все более широко признавалось за достойное существование, являясь выражением все той же потребности воссоединить расщепленное сознание, если не в социальной реальности, то хотя бы в собственной голове, восстановив нерасторжимое единство слова и дела. Добиться этого можно было лишь изменением химического состава бессознательного, что привело бы к полному отказу от жизни и созданию некой новой реальности безо всяких ценностей.
Именно в поиске целостного осознания себя заключалась, на мой взгляд, сущность «Гамлета», «Царя Эдипа», «Отелло». Это была попытка придать жизни ощущение реальности путем преодоления отчуждения от нее: в этом основа трагедии.
Общаясь с учеными-физиками, я вступил в сумеречную, неизвестную мне доселе область, где царила жестокая тирания Иронии. Высвободив наиболее зловещие силы природы, они попали в тиски неизбежных противоречий, главное из которых то, что решения принимают не они, а политики, чьи умственные способности и мотивы едва ли предполагают серьезные мудрые решения. Великие завоевания науки сделали медицину искусством врачевания людей, но она же могла и погубить их – с какой частью этого уравнения должен был соотнести себя желающий сделать открытие физик?
Осторожность Оппенгеймера служила ему защитой, но весьма затрудняла наши доверительные беседы, хотя я допускаю, что у него были серьезные основания относиться к писателям с подозрением. И все-таки мои вопросы, по-видимому, заинтересовали его, несмотря на то что он уклончиво отвечал на них, кроме главного – не убиваем ли мы поступками, которые трудно оправдать, собственные отношения, а значит, душу. Он неторопливо перевел на меня свой взгляд, посмотрев прямо в глаза с выражением, которое свидетельствовало, что вопрос задел его за живое. Отвечая, он подчеркнуто мягко не согласился с этим. Я понял, что он действительно страдает, а не просто сожалеет о былой известности и успехе. Большего в тот момент мне было не надо.
Я уехал, убежденный, что задать вопрос – значит ответить на него. Люди вынуждены не признавать очевидное: сумрак, почти физический, сгустившийся вокруг этих правдоискателей, теперь показался мраком отрицания. Им пришлось поверить, что их всего лишь выбросил на поверхность великий поворот истории, подобно тому как мощная гравитационная сила всасывает на своем величественном пути новые звезды. И все-таки надо было признать, что их гениальность вложила разрушительную силу богов в руки невежественных и мелких людей.
Вернувшись в Роксбери, я начал страница за страницей писать белым стихом пьесу о человеке, прототипом которого был Оппенгеймер. Его герой подавал сигнал для начала рокового эксперимента по взрыву первой атомной бомбы. Писать пьесу было легко, но она выходила безжизненной, так как я не мог справиться с описанием повседневного быта персонажа. В процессе работы я пришел к мысли, что чувство вины может быть выражением ошибочно или ложно понятых отношений с человеком или событием, некой фантазией, чтобы уйти от настоящей ответственности. Вина предполагает боль без побуждения к действию и унижение от раскаяния: короче говоря, испытывая чувство вины, мы как бы освобождаемся от необходимости что-либо менять в своей жизни.
Я вдруг понял, почему «Падение» Камю не принесло удовлетворения. Взглянув в лицо страшной правде собственной виновности, человек, с точки зрения Камю, должен вообще отказаться от осуждения себе подобных, но разве можно перестать осуждать других? Как прожить жизнь, не различая добра и зла? В стремлении признать противоречия жизни животворными можно ли отказаться от чувства морального отвращения? А если мы перестанем судить о нравственном, тогда к чему взывать, попав в руки убийцы?
Пьеса об атомной бомбе могла получиться, только если бы вызывала чувство ужаса. Я не знал, сколько мне отпущено жить, но хотелось оставить после себя нечто абсолютно правдивое. Пьеса вскрывала одну из извечных дилемм науки, но не увлекла тем, что открылось. А если краска стыда не заливала меня, когда я писал, то знал, что ничего путного не получится. (Так же, наверное, как и у других.)
Я начал думать над художественной формой, которая могла бы выявить природу отрицания, своего рода массовой лжи нашего времени. Я еще не знал, что Америка готовится к войне во Вьетнаме, методично отрицая, что это война, и те, кто будет сражаться, достойны скромных солдатских почестей. Самая раскрепощенная в мире американская культура представлялась культурой отрицания: подобно тому как наркотики, расковывая сознание, разрушают мозг, новая сексуальная свобода отвергала сострадательное самоограничение, которое делает любые человеческие отношения неподвластными времени. Какой-нибудь буржуа, оценивая людей по одежке, мог не воспринимать того, кто носит джинсы или поношенные костюмы, в то время как за длинными патлами скрывалось, выступая под маской раскрепощенной чувственности, отрицание равнодушия.
Новая пьеса по форме должна была стать исповедью, так как в ее основе лежал поиск главным персонажем самого себя, преодоление невозможности идти себе навстречу. При этом она была бы не более автобиографична, чем все, что я написал. Из заброшенной десять лет назад пьесы о группе ученых, работавших на магната-фармацевта, в нее перекочевала фигура Лоррейн как олицетворение откровенной чувственности, по-кошачьи воплощавшей природные силы. Она противостояла ограниченному, умствующему герою, который искал в ней начала для обновления собственной жизни.
Через несколько недель после завершения «Неприкаянных» Мэрилин, вернувшись в Нью-Йорк, позвонила в гостиницу, где я жил до переезда в «Челси», и спросила: «Ты что, не собираешься приезжать домой?»
Я долго молчал, не зная, что ответить. Она, по-видимому, была искренне удивлена, не застав меня дома, хотя я предупредил, что больше не буду там жить. Неужели она забыла, как яростно негодовала на меня, или для нее в этом было что-то совсем другое? Она говорила все тем же мягким ласковым голосом, как будто за последние четыре года ничего не произошло. Она говорила, и все плохое улетучивалось, как на цветной фотографии, которая блекнет, когда ее надолго оставишь на солнце. Пережитое, неожиданно став реальным, показалось свято, как сама жизнь. Ее забывчивость была сродни попытке умереть задним числом. Не высказанный в «Падении» вопрос, как жить с сознанием вины, зазвучал по-иному: почему, бросаясь на помощь другому и пытаясь как-то скрасить ему действительность, тем самым только усугубляешь его поражение? «Падение» – это книга, написанная со стороны. Я же хотел написать книгу от лица участников катастрофы, ее униженных подсудимых, каковыми являемся все мы.
Страницы летели одна за одной, их вскоре стало с избытком для обычной пьесы. Я писал то в «Челси», то в Роксбери, в доме, где Мэрилин мечтала все устроить по своему вкусу. Он находился вверх по дороге, чуть выше того места, где пять лет мы прожили с Мэри и детьми. Однако прошлое не становилось менее загадочным от того, что стояло рядом. Около прежнего дома на повороте рос тополь, который медленно подгнивал, поврежденный врезавшейся в него в день нашей свадьбы машиной. Стараясь избежать шумихи в прессе, мы праздновали это событие в Уэстчестере у Кей Браун, моего литературного агента и давнего друга. Но ни она, ни ее муж Джим, ни мои родители, ни Джоан с мужем, ни Кермит с женой, ни Ростенсы, ни жизнелюбивый раввин Роберт Голдберг не могли рассеять напряжение, в котором находилась Мэрилин и которое в конце концов передалось мне, поскольку за нами в прямом смысле слова, казалось, охотился весь мир. Вечером того же дня, возвращаясь домой, мы, не доехав с четверть мили, увидели стоявший поперек дороги «шевроле», который врезался в дерево. Затормозив, я вышел и, осмотрев машину, увидел на переднем сиденье женщину, у которой, по-видимому, была сломана шея. Подъехав через несколько минут к дому, мы увидели «скорую», водитель которой выяснял у газетчиков, фоторепортеров, зевак, как проехать к месту происшествия. Жертвой оказалась несчастная Мара Щербатова, русская дворянка, заведовавшая нью-йоркским отделением «Пари-матч». Вместе с фотографом они ехали, чтобы сделать репортаж. Остановившись спросить у соседа, где наш дом, они, спутав проезжавшую машину с моей, рванулись с места и, не вписавшись в поворот, врезались в дерево. Эта смерть потрясла нас своей бессмысленностью, так же как бесцельна была сама их поездка. Дерево с тех пор медленно засыхало, пока через шесть лет не рухнуло. На его месте остался пень, и, проезжая мимо, я всегда отыскивал его в траве глазами.
Работая над рукописью, постепенно начинаешь слышать то, что говорит пьеса, которую пишешь. Со страниц гаргантюанского по размерам черновика звучала тема вины уцелевших. За несколько месяцев до этого мы с Ингой путешествовали по Рейнской земле, а потом поехали в Линц, в Австрию, на родину Гитлера, в городок, до сих пор известный своим антисемитизмом. При выезде из городка на вершине невысокой, поросшей лесом горы стоял Маутхаузен, концлагерь, который Инга решила мне показать. Пострадав от нацизма, она была из тех, кто выжил, и теперь настойчиво возвращалась в прошлое, чтобы обрести хоть какой-то покой.
Мы ехали мимо небольших ферм, но, как ни странно, ни один человек не повернул головы, чтобы посмотреть, кто это едет по пустынному шоссе в сторону заброшенного концлагеря. Я понял, что тогда, как сейчас, каждый занимался своим делом, не обращая внимания на ревущие грузовики, сновавшие туда-сюда не один год. Будучи не в состоянии ничего изменить, я все же спросил себя, что бы делал на месте этих людей, как, возможно, они сами спрашивали себя.
Построенный под средневековую крепость, лагерь был обнесен колючей проволокой на столбах и массивной каменной стеной высотой в двадцать пять футов. Не оставалось сомнений, что это место строилось на вечные времена для массового уничтожения людей в утвердившемся на тысячелетия рейхе. Ворота были наглухо затворены, но рядом виднелась небольшая деревянная дверца, в которую мы постучались, стоя в полной тишине в ожидании ответа. Ровный шум густого леса, уютно и мирно обступившего нас со всех сторон, казалось, превратил в насмешку то, что мы знали об этом месте, где все радует глаз и только человек подл.
Перед нами, попыхивая длинной, как в мультфильмах, трубкой, возник грузный австриец с пытливым взглядом в сопровождении приветливой откормленной бойкой таксы, такой же любопытной, как и ее хозяин. Было видно, что работа сторожа тяготит его и он был рад посетителям. Отдавая должное тому, что здесь были убиты тысячи, он тем не менее был достаточно оживлен и, показывая бараки с внутренними двориками, остановился, чтобы обратить наше внимание на каменную плиту с выдолбленным углублением для головы и воронкой сбоку для стекания крови, где у трупов остригали волосы и выбивали золотые зубы. Точно так же здесь обращались с живыми. Без симпатии или угрызений совести, равно как не демонстрируя холодного равнодушия, он проявлял одинаковый интерес к ужасам, которые описывал, и уважение к жертвам. С человеческой точки зрения ему не в чем было упрекнуть себя. А что оставалось делать? Разве он не должен был как-то жить? Между двумя бараками он остановился перед сложенной из камней пирамидкой – обелиском в честь русского генерала, которого обливали на морозе водой до тех пор, пока он не превратился в глыбу льда.
Покинув Маутхаузен, мы на обратном пути остановились в небольшом придорожном ресторанчике выпить кофе. За столом восседал дородный мужчина с тяжелыми руками, рабочий на вид лет под пятьдесят, с заботливой строгостью проверявший школьную тетрадь по арифметике у пристроившейся рядом девочки лет восьми-девяти. Наверное, он жил здесь тогда – прошло всего двадцать лет – и знал, чт о перевозят машины, идущие в гору. Инга все переносила мужественно, не проронила почти ни слова и, бледная, старалась перебороть свой ужас. У нее на глаза вот-вот были готовы навернуться слезы. Люди, возводившие эти бараки, и равнодушие, если можно употребить это слово, царившее вокруг, погубили ее юность и возложили бремя бессрочного долга, который ей некому было вернуть и оставалось нести в силу человечности. В этом была своя тайна, и, хотя вне Германии жизнь так же мало давала оснований для веры в животное под названием человек, она стоически сопротивлялась пессимизму. Всегда, оказывается, есть люди, к которым можно воззвать…
Не от того ли к моим чувствам примешивалось что-то, помимо скорбного сострадания к мертвым, и мне казалось, я бы обязательно что-то сделал, чтобы не очутиться в одном из этих грузовиков.
Вскоре после поездки в Линц я прочитал в «Интернэшнл гералд трибюн» краткое сообщение, что во Франкфурте состоится суд над бывшими охранниками из Освенцима. Для этого в городе специально построили новое здание суда. Я никогда не видел живых нацистов и решил, потратив несколько часов на дорогу, съездить туда.
В новом зале суда, впечатляюще отделанном мрамором теплого коричневого тона, набралось с дюжину зевак. Не успели мы сесть, как ко мне подошел журналист одного из телеграфных агентств и сказал, что надеется, я напишу о процессе, ибо никому из его коллег не удалось пробить ни одной статьи в американской, европейской или британской прессе. Прошло всего пятнадцать лет по окончании войны, а о нацизме уже предпочитали не вспоминать. Я не собирался писать на эту тему. Однако по заказу «Трибюн» сделал большую статью, которую перепечатала «Нью-Йорк гералд трибюн».
От этого дня остались обрывки воспоминаний. Напротив сидевшего на возвышении судьи и кафедры для свидетелей расположились, тоже на возвышении, позади своего адвоката, высокого, дородного мужчины по фамилии Латернсер, представителя «Дженерал моторс» в Германии, двадцать три обвиняемых – мужчин, которым перевалило за пятьдесят или за шестьдесят. Я про себя отметил, что такой адвокат был явно не по карману этим по виду необразованным и малоимущим бывшим нацистским охранникам. Ситуацию прояснил главный обвинитель Фриц Бауэр. Он узнал, что они пригрозили рассказать о бесчеловечных опытах главного фармацевта Освенцима, проводившего так называемые «медицинские эксперименты» над живыми людьми. И один из его наследников, тоже фармацевт из состоятельной немецкой семьи, предоставил им первоклассного адвоката. Теперь этот наследник сидел справа от меня – близорукий мужчина лет под пятьдесят с непроницаемым выражением лица, в дорогом твидовом костюме зеленоватого оттенка. Он напряженно вслушивался в каждое слово, и его сосредоточенность легко было понять. Ему пока не предъявляли никаких обвинений, и он, конечно, полагал, что до этого не дойдет.
Отвечая на вопросы Латернсера, решившего представить одного из подсудимых безупречным и уважаемым семьянином, тот рассказал, как наставлял своих четырех детей в отрочестве. Удовлетворенный Латернсер на мгновение отвлекся, а его подопечный тем временем продолжал: «Вот только с младшей вышла загвоздка. Поэтому я с нею не разговариваю». Это было незапланированное признание, и Латернсер попытался остановить своего подопечного. Однако преисполненный наивного негодования бывший охранник Освенцима горел желанием продемонстрировать свои верноподданнические чувства и рассказал, что порвал с дочерью, так как она решила выйти замуж за итальянца. Этот вероломный народ бросил рейх и капитулировал перед наступавшими союзниками – грязные, ненадежные людишки.
Другой охранник, прославившийся в Освенциме своим садизмом, был одним из немногих, кто после окончания войны подался не на запад, а на восток. Он представил на суд свидетельства из польских госпиталей, где указывалось, что в последние годы он работал в Варшаве и его прозвали «сестричка», ибо он отличался особым вниманием к больным. В Освенциме он специализировался на избиении людей, привязанных в позе «попугай на шесте».
В частной беседе Бауэр подтвердил то, что было и так известно: местная полиция практически ничего не делала, чтобы разыскивать свидетелей нацистских преступлений, хотя в Западной Германии на эти процессы отпускалась уйма денег. По приходе Гитлера к власти Бауэр был самым молодым судьей в Верховном суде земли Гессен. Нацисты разрешили ему работать, однако, будучи здравомыслящим человеком, он не мог выносить приговоры в согласии с «законом», который лишь немногим отличался от зафиксированных на бумаге предрассудков. Уехав в Швейцарию, он оставался там всю войну. Вернувшись на родину, он продолжал розыск нацистов, однако уже не тешил себя иллюзиями: дело было не в том, что гитлеровские идеи выветрились из головы, а в том, что люди хотели забыться и отрицали столь ужасное прошлое. Будучи совестью Германии, Бауэр теперь нередко объявлялся ее врагом – ситуация, которую можно встретить повсюду.
Мы с Ингой завтракали с Латернсером. Это был весьма искушенный в своем деле человек, которого отличали быстрые реакции и непреклонная позиция по вопросу защиты охранников. «Американцы первыми поняли, что суд не в состоянии вынести справедливого решения, если свидетели умерли или ничего не помнят». Тот факт, что его подопечные немало потрудились, изводя потенциальных свидетелей, мало занимал его: в круг его компетенции входили только их показания.
Я написал большую статью об этом процессе, больше двух полос, в «Интернэшнл гералд трибюн». С незначительными сокращениями она была перепечатана в ее нью-йоркском издании. На какое-то время материалам на эту тему дали зеленый свет. Однако что-то во всем этом было гнетущее, как надгробная плита, – пока из людской памяти все не выветрилось, трагедию надо было увековечить как предупреждение на будущее. Эта область человеческого сознания, однако, оказалась мало изученной, и большинство людей продолжали исповедовать родовые и расовые предрассудки, лелея их как нечто заветное. Что бы человек ни писал и ни читал, мысль о систематическом отравлении в газовых камерах малолетних детей вызывала такое отвращение, как будто вам холодной рукой зажимали рот. Этим отчасти объяснялось, почему немцы не хотели думать об этом. С другой стороны, из головы не выходил тупой правоверный охранник, который для облегчения своей участи решил признаться, что ненавидит итальянцев: этот человек когда-то имел власть распоряжаться тысячами жизней и убивать – убивать талантливых, а то и гениальных людей, врачей, артистов, художников, философов и просто влюбленных.
По зрелом размышлении универсальную природу нацизма можно объяснить тем, что власть и глупость сосуществуют столь тесно, что их не отличишь друг от друга, и потому они не кажутся такими опасными.
По возвращении из Германии я почувствовал, что во мне зарождается новая пьеса. Тема – парадокс отрицания, – по-видимому, в значительной степени была навеяна самой Германией. Ибо отрицаемая ею в плане идеального жестокость стала в наши дни своего рода символом проблем человечества. Наиболее полное выражение тема обрела в образе Лоррейн, персонажа неоконченной пьесы о фармацевтической компании. В ней для меня нашла отражение глубокая ирония эпохи. В своей искренности Лоррейн кажется доверчивой, но в ней сильно неосознанное животное начало, поэтому она не может побороть в себе болезненной неуверенности – некоего чудовища, которому собственное обаяние не дает ничего, кроме скрытого презрения мира. Иногда, сбитая с толку, ошарашенная, она в глубине души начинает действовать противу самое себя, видя в мире один только цинизм и воспринимая окружающих лишь в их стремлении подавить ее хрупкое ощущение себя, пока наконец в работу не вступает отрицание, полностью освобождая ее от какой-либо оценки своих собственных поступков и пресекая всякие попытки понять одолевающие ее слепые приступы мести. Она все время живет как будто в осаде и не может никому верить. Мне показалась многообещающей идея сделать смысловым центром тотальное отрицание, воплотив в опыте одной души сложный процесс, преломленный сквозь индивидуальное сознание. Мысль эта настолько захватила меня, что я был глубоко удивлен, когда Роберт Уайтхед однажды заметил, что, на его взгляд, все однозначно и безоговорочно примут Лоррейн, которую в пьесе звали Мегги, за Мэрилин. Мне казалось, пьесу воспримут как попытку соединить политику с этикой, что наиболее символично проявится в агонии Мегги, но это не окажется для пьесы единственным raison d’etre [25]25
Здесь– смыслом ( фр.).
[Закрыть]. В целом это будет произведение о том, как мы – нация и отдельные люди – разрушаем сами себя, отрицая, что именно этим и занимаемся. Если Мегги и впрямь в некотором роде явилась отражением Мэрилин, у которой, помимо этого, в характере было много всего другого, то это проявилось в агонии героини, ибо в жизни, по крайней мере в том, что касается общественного сознания, Мэрилин была отделена от всяких страданий: златовласая девушка, вечно юная богиня чувственности, не знающая ни горя, ни забот, мифическое создание, не подвластное воле и смерти, а значит, искренней симпатии. Это был, конечно, рукотворный миф, созданный ею со всем старанием и ставший, казалось, высшим завоеванием ее жизни.
Оглядываясь, я понимаю, что принуждал себя к слепоте, отказываясь видеть за вымышленным персонажем реальное лицо, но никого не хотел обвинить этой пьесой. Все дело в том, что Мегги можно было спасти, если бы она перестала обвинять себя и окружающих, поняв, что, как и все, является творцом собственной судьбы – факт, внушающий благоговение, однако требующий смирения, размышлений, а не бесконечного покаяния, которое в ее бедственном положении было связано с отрицанием очевидного. В этом смысле невинность губительна. Но тем не менее, как я вскоре уяснил, она правит и, по-видимому, будет править всегда.
Вначале у меня не было и мысли, что Мегги умрет, но я знал, что они с Квентином должны будут расстаться – сильный финал, чтобы не дать публике комфортно расположиться перед лицом всепримиряющей смерти. Но, постепенно вырисовываясь, характер все более нес на себе печать неизбежности собственной судьбы, и я не мог не почувствовать, что эта линия клонится к смерти. Все отдаляло Мегги от Мэрилин, которая, насколько я знал, снова активно снималась, приобрела дом и вела нормальную трудовую жизнь, если такое вообще возможно в кинобизнесе.
Купив однажды в нью-йоркском киоске журнал «Лайф», я открыл его и увидел ее фотографию: обнаженная, она лежала в каком-то бассейне на воде и смотрела в объектив. Текст гласил, что она потребовала, чтобы сцены с обнаженной натурой в комедии «Что-то должно случиться», где она поначалу снималась с Дином Мартином, происходили в открытую. Мне показалось, что в ней уже нет той непосредственной радости, с которой она демонстрировала свое бесподобное тело раньше, на лице застыла напряженная усмешка деланного безразличия. Трудно было подавить ощущение, что ей не надо больше этим заниматься, время, когда она могла безоговорочно полагаться на свое тело, прошло. Неужели годы работы нужны были только для того, чтобы вот так, голой плавать в бассейне? Фотография, возвещавшая о возвращении к прошлому, дохнула на меня холодом, как будто эта женщина перестала бороться за то, чтобы не быть вечной жертвой.