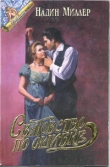Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 49 страниц)
– Он был невыносим! – неожиданно подал голос Джессел со своей подушечки около стола.
– Не то что невыносим, а просто черт знает что, сукин сын!
– Ублюдок, – подтвердил Джессел, сердито покачав головой, и бросил взгляд на нас с Казаном, как будто против этого гнусного злодея надо было срочно принимать меры. – Я тебе такого могу понарассказать, Спайрос, что у тебя…
– Да что ты знаешь! Вот я расскажу.
– Я знаю, что ты знаешь, Спайрос, но я однажды оказался в Де-Муанее, когда он…
– Не надо никаких твоих Де-Муанеев, – гневно оборвал Скурас. – Этот человек запродал Сталину мильон наших. Это был сталинский агент! Как пить дать. – И он хватанул по столу.
– Да что агент, бери круче! – взвизгнул Джессел, явно накручивая самого себя.
Потом, не меняя тона или интонации, Скурас, гордо откинув голову, объявил:
– Если бы не Франклин Рузвельт, революция в Соединенных Штатах произошла бы гораздо раньше. Он просто спас Америку.
– Верно, черт побери! – закричал Джессел, так же, не моргнув глазом, сменив тему. – Боже, – начал он развивать эту мысль в жалостливом ключе, – ведь люди голодали, умирали на улицах…
Скурас впал в восхваление Рузвельта, произнося панегирик, достойный надгробного слова; у Джессела заблестели на глазах слезы, и он, кивнув головой, добавил несколько теплых слов о безупречных качествах умершего президента, его юморе и великодушии. Потребовалось несколько недель, прежде чем я понял, что Скурас разыграл этот спектакль, дабы показать Казану, а может быть, и мне, что его могущество столь велико, что он может противоречить самому себе, ни на йоту не потеряв при этом власти над нами. Это был неповоротливый морж на берегу, с радостным ревом возвещавший солнцу о том, что он радуется жизни.
Когда я открыл дверь, чтобы впустить Скураса, то увидел старого утомленного человека. Возможно, он перед этим хватанул лишнего. Вяло пожал мне руку и скользнул взглядом по моему лицу без обычного энергичного напора, как будто не возлагал на вечер особых надежд. Этот лысый человек со впалой грудью и толстой шеей стоял, слегка отбросив тело назад, с прямой спиной и прижатым, как у боксера, подбородком. Он умел расплыться в улыбке, в то время как его глаза напряженно искали признаков враждебности. Мэрилин тут же вышла в прихожую, они обнялись, да так, что у него едва слезы не навернулись, возможно, от того, сколько ему пришлось ей отказывать. «Об’жаемая, об’жаемая», – повторял он с закрытыми глазами, уткнувшись носом в ее волосы.
Она растрогалась, просто на удивление. Я еще не знал, что пожилые люди пробуждают в ней глубокую уверенность в ее силах, которая переходит в жалость и даже любовь. Ее присутствие порой доводило пожилых мужчин до физической дрожи, и это вселяло в нее больше уверенности, чем набитый деньгами кошелек или рукоплещущий театр. Поднеся ее руку к губам, Скурас подвел Мэрилин к дивану и уселся рядом с ней. Она тут же вскочила, настояв, чтобы он выпил коньяку, который ему, несмотря на астматические протесты, пришлось пригубить. Потом она снова уселась рядом с ним, высоко подняв колени, и не сводила с него глаз, лишь верхняя губка иногда вздрагивала, как у взнузданной лошади, – гордый тик выдержки и самообладания. Он не мог не отреагировать на ее красоту, когда она сидела в бежевой сатиновой кофточке с высоким байроновским воротничком, узкой белой юбке и сверкающих белизной роскошной кожи туфельках-шпильках. Он не видел ее несколько месяцев, достаточное время, чтобы забыть то властное воздействие, которое, казалось, производила ее красота.
Пристроившись с краю, как неуклюжий цирковой медведь, он все время сползал с диванной подушки, в то же время почти с юношеской очаровательной хрипотцой рассказывая о болезнях и смертях общих голливудских знакомых, о проблемах, связанных с его собственным владением в Райе, и переменах в жизни дочери. Мэрилин была в восторге, просто счастлива, отдавшись, как она это умела, на волю чувств и почти не обращая внимания на враждебный или благожелательный смысл его речей, ибо только в чувстве таилась правда. Невероятно, но он начал уговаривать ее отказаться от своей собственной кинокомпании и вернуться в «XX век Фокс», хотя все было давно оговорено в контракте годовой давности. Но она уловила происшедшую перемену – он приехал сказать что-то такое, что ему выговорить было непросто, и это хождение вокруг да около, сколь ни казалось абсурдным, свидетельствовало об особом почтении, что заставляло ее вслушиваться и реагировать на его слова так, как будто он говорил о чем-то дельном.
– Все к ч’рту, д’рогая, я пекусь только о тебе лично. Не могу вспомнить, как нек’т’рые об’рщались с тобой в последние годы. К’нечно, я не могу г’рить за весь «XX век Фокс», я только пр’зидент, но это от чистого сердца, обещаю, ты будешь снова счастлива у нас. Я с’ер’шенно серьезно, Мэрилин, крошка, ты с’вершаешь большую ошибку, вернись к нам. Кроме нас, у тебя никого нету. Мы т’бе и папа и мама. – И все в таком духе, подобно рыбе, которая выделяет щелочь, прежде чем метать икру в кислых водах. Теперь он перешел к храму, который соорудил в Лос-Анджелесе для греческой православной церкви, – гордость всей его жизни. Можно было не принимать Спайроса, но ему нельзя было не симпатизировать, хотя бы за ту наивность, с которой он жонглировал правдой, вернее, делал ставку не на холодный расчет, а упирая на эмоции. Он всегда подразумевал то, что говорил, в тот момент, когда говорил это. Как бы ненароком взяв Мэрилин за руку, он доверительно, как говорят очень близкие люди, спросил:
– Ты влюблена, моя крошка?
От переизбытка чувств у нее, казалось, перехватило дыхание, и она согласно кивнула.
– Ты уверена?
Испытывая некое чувство вины, она посмотрела ему прямо в глаза – человеку, который знал историю ее жизни насквозь, – и еще раз кивнула.
– Да благ’словит тебя Г’сподь, моя куколка, – сказал он, возложив на нее руку с отеческим благословением. Если это брак по любви, и притом действительно брак, то он никак не мог совершиться без вмешательства свыше и пора было кончать этот балаган. Скурас, покачиваясь и что-то старательно соображая, сидел, внимательно изучая свой небольшой черный ботинок на ковре. Обернувшись ко мне, он произнес:
– Бл’гсл’ит тебя Г’сподь. Арт’р, детка, я знаю, ты хороший человек и будешь как следует заботиться об этой малышке. Она мне как дочка родная, клянусь Богом.
Удостоверившись, что все серьезно, он осознал, что над его киностудией сгустились мрачные тучи. Она должна была сняться у них в двух картинах, прежде чем они предоставят ей полную свободу, и замужество было совсем ни к чему, ибо разрушало образ сексуально доступной героини, а брак со мной в такой ситуации был вообще сплошное несчастье.
Он вздохнул:
– Арт’р, я могу надеяться, что ты не ввяжешься в эту идиотскую историю с Комиссией?
У меня не было оснований сомневаться, что он в точности передаст каждое мое слово, поэтому я пожал плечами и пробормотал нечто вроде того, что поступлю, как сочту нужным.
Он окончательно протрезвел и внимательно посмотрел на меня.
– Я хорошо знаю этих конгрессменов, Арт’р, мы с ними добрые друзья. Это неплохие ребята, они вполне могут понять. Лично я думаю, Арт’р, что они пригласят тебя на закрытое заседание без свидетелей, понимаешь? Кому надо, чтобы все это было прилюдно. Вообще, если надо, скажи.
На языке того времени это означало, что меня будут допрашивать не на открытом заседании, а при закрытых дверях, и тогда вопреки правилам мне не придется публично благодарить Комиссию, что она вернула меня в лоно Америки, – в принципе всего лишь за то, что, спасая себя, назову чьи-то имена.
– Я вообще против этой Комиссии, Спайрос. Какая тут может быть благодарность?
Перебив меня, он пробурчал что-то невнятное, я расслышал слово «Сократ», а потом он спросил:
– Ты наверняка читал его книги?
– Сократ! Сократа, Спайрос, приговорила к смерти точно такая же комиссия…
– Да, но ему хватило мужества сказать, что он думает, Арт’р.
На мгновение эта мысль ошеломила меня, пока я не понял, что он предлагает мне использовать слушание, чтобы открыто признать мои расхождения с левыми либералами. Своего рода атака с моей стороны, которая полностью передаст инициативу в руки Комиссии. В какой-то мере мне предлагалось сделать то, к чему принудили Одетса, заставив сожалеть об этом до последних дней жизни.
– Мне не нужна сенатская Комиссия, чтобы раскритиковать левых, Спайрос. Я вполне могу справиться с ними безо всяких помощников.
В глубине души я возблагодарил небеса, что работаю в театре, где не было черных списков. Будь я сценаристом, мне бы пришлось распрощаться с карьерой.
Поднявшись с дивана, он воздел указательный палец к потолку и постарался сделать вид, что сжигаем гневным осуждением, но, так как все было не впервой, его речь была лишена подлинного пафоса.
– Сталин, – завелся он, – распял греч’ский народ, Арт’р. Я знаю, о чем говорю! Греч’ская коммунистическая партия развязала гражданскую войну, пытки, убийства.
И он начал в сжатом виде излагать послевоенную политическую катастрофу Греции с ее конфликтами между правыми и левыми, во всем обвинив последних и все хорошее приписав первым. Но даже если бы я и знал в те времена о жестокости левых, это не изменило бы моего взгляда на проблему, которая в 1956 году стояла в центре событий: Комиссия попирала основные права американского народа, и с этим никак нельзя было смириться.
– Давай больше не будем на эту тему, Спайрос, я все равно не смогу это сделать. Мне несимпатичны эти ребята.
Не помню, что тогда привело меня в ярость и послужило спусковым крючком, но в его напористости было нечто, что заставило меня почувствовать, будто он загнал меня в угол. Вроде как пытался установить контроль над моей работой, а это было невыносимо. Я успел произнести одно или два предложения, как он все понял и, воздев руки вверх, пошел к своему плащу, переброшенному через спинку стула, пробормотав как это ни прозвучало невероятно: «Вот ты и есть Сократ». Он еще раз обнял Мэрилин, но теперь уже действительно печально, и я пошел проводить его до лифта. Когда двери открылись, он снова был полусонным существом, и последний взгляд, который он бросил на меня, прежде чем его глаза снова закрылись, был рассеянным, будто я случайный прохожий, повстречавшийся ему в коридоре, а он был не из тех, кто тратит эмоции впустую.
Когда я вернулся, Мэрилин потягивала виски, пребывая в некоторой неуверенности. Я почувствовал, что он растрогал ее, не столько доводами, сколько сочувствием, ибо в каком-то совершенно невероятном смысле действительно заботился о ней. Через несколько лет Скурас пригласил ее за главный столик, когда Никита Хрущев был в гостях на его киностудии, и представил ее как величайшую кинозвезду. Советский руководитель не скрывал, что очарован ею, и тоже понравился ей своей открытостью. Спайрос не преминул тогда в тысячный раз поведать эпическую историю о том, как они с братьями приехали в Америку, прихватив с собой несколько ковров, их единственный капитал. А теперь он стал президентом «XX век Фокс». Такова Америка, где у каждого есть свой шанс. На что Хрущев, поднявшись, парировал, что он, сын бедного шахтера, теперь стоит во главе всего Советского Союза. Мэрилин пришла в восторг от его ответа: Хрущев, как и она, был человеком со странностями.
Мы с мамой и Мэрилин сидели на скамеечке на станции Пен в ожидании вашингтонского поезда. Меня беспокоило, что поездка может стоить слишком дорого. Одних только официальных штрафов предстояло выплатить несколько тысяч долларов – б о льшую часть этих денег мне ссудили мои адвокаты и друзья, работавшие в конторах у Поля, Вейса, Уортона и Гаррисона. Мэрилин вела себя очень светски и независимо. Глядя на нее, я тоже старался держаться, поэтому мы оба вели себя неестественно, скрывая грусть, что часу не принадлежали друг другу с тех пор, как решили пожениться. Я вдруг возненавидел себя за то, что вверг ее в эту беду. Мама тоже изо всех сил старалась показать, что ничего не происходит, и обсуждала с Мэрилин ее наряды, отчего, я думаю, могла показаться ей бесчувственной. С пожилыми женщинами у Мэрилин складывались сложные и неустойчивые отношения: она то сентиментально боготворила, то по-черному подозревала их, улавливая недоверие к себе. К маме она относилась с нежностью, но сейчас между ними пробежала кошка и возникло какое-то глубокое темное раздражение. Однако, обернувшись с подножки вагона, чтобы помахать, я увидел их стоящими рука об руку, как неразлучная пара. Мэрилин помахала в ответ, придерживая высоко поднятый воротничок норкового пальто, чтобы защититься от зевак, готовых тут же превратиться в толпу. Ее жест напомнил о нашем стремлении уцелеть, существуя в двух непересекающихся плоскостях, – она могла быть серьезной, только когда принадлежала себе. Стоило ей попасть в фокус чьего-то внимания, она тут же начинала смеяться – этакая счастливая беззаботная блондинка.
В ожидании обеда мы пили аперитив в гостиной у Раухов в Вашингтоне, когда Оли, жена Джо, позвала его к телефону. Вернувшись, он рассмеялся задорнее, чем обычно. Гигант огромных размеров, он выглядел еще крупнее и выше из-за того, что носил галстук-бабочку. Джо Раух как адвокат, обладавший несомненными бойцовскими качествами, в свое время возглавлял организацию «Американцы в защиту демократии», своего рода либеральное лобби, куда входили такие люди, как Губерт Хэмфри и Эдлай Стивенсон. Джо – антикоммунист только потому, что страстно любит демократию. Идеология и даже философия интересуют его постольку, поскольку способствуют защите прав человека или пренебрегают ими. Он сторонник расширения американского влияния за рубежом, однако без двойственного подхода к «нашим» и просоветским диктаторам в отличие от тех, кто закрывает глаза на преступления одних и раздувает истерию по поводу других. Он непоколебимо верит в Билль о правах как гарантию демократических основ американского образа жизни. В его конторе по защите общественных интересов существует специальный отдел, где можно увидеть, сколько он потерял, пренебрегая коммерческой практикой.
Теперь он рухнул на обтянутый мебельным ситцем стул и, стараясь придать лицу серьезное выражение, сказал: «А что, если тебе завтра вообще не ходить ни в какую Комиссию?» И поведал, что только что звонил некий Фрэнсис Уолтер из Пенсильвании, член Палаты представителей, который завтра будет председательствовать в Комиссии, и предложил все отменить, если Мэрилин согласна обменяться с ним перед камерой рукопожатием.
Я рассмеялся, ибо, не знаю почему, не воспринял это всерьез. Хотя мог бы избежать многих печалей. Мы грустно покачали головами – насколько все в политике незатейливо. Прямо как в шоу-бизнесе – все не важно, была бы реклама.
Как бывает после приступа ярости, мне трудно собрать воедино впечатления от заседаний Комиссии.
Помню стоявший за спинами ее членов свернутый в трубочку американский флаг. Сидя на возвышении, они взирали на нас, меня, Джо и Ллойда Гаррисона, адвоката с патрицианским взглядом, восседавшего позади. Это не ускользнуло от председательствующего Уолтера. Флаг здесь скорее подбадривал, чем пугал, как было в Неваде. Будь это другой флаг в другой стране, по тому же самому обвинению мне могли вынести смертный приговор.
Помню, на столе лежала кипа бумаг. Обвинитель Ричард Аренс брал их одну за другой и зачитывал обращения, подписанные мною давным-давно – казалось, в другой жизни (протесты, требования освободить, воззвания к дружбе с Советами – по настоянию Джо все это в том же порядке передавалось ему). При этом он оглашал подписи, в том числе и госпожи Рузвельт. Помню, я ужаснулся, не собирается ли Аренс зачитывать все подряд, каждую бумагу сопровождая вопросом «Вы это подписывали?». Да, конечно, я все подписывал, а после того как процедура повторилась с дюжину раз, стал отвечать «да» прежде, чем он успевал прочесть документ.
Через несколько лет мне довелось узнать, что позже Аренса выгнали, ибо оказалось, что он связан с расистской организацией, где выступал в роли советника, памфлетиста и эксперта по вопросам генетической неполноценности черных. Я не удивился этому. Невысокий бритоголовый мужлан с квадратными боксерскими челюстями выглядел так, как будто жизнь по всем статьям обманула его. Говорили, что, будучи холостяком, он разводил цветы и имел прекрасный сад во внутреннем дворике у себя в Вашингтоне.
Помню охватившее меня ощущение пустоты, когда я принимал из его рук для опознания когда-то подписанные мною протесты. Помню удивление – сколь ничтожно мало я оказался способен повлиять на собственную судьбу. Я едва мог припомнить большинство тех организаций, в поддержку которых выступал, не говоря о причинах, побудивших меня к этому. Но хуже всего, что, несмотря на сочувствие Аренса к моей биографии, я не мог ни о чем говорить всерьез, даже если бы это было позволено. Когда-то я действительно страстно верил, что марксизм олицетворяет надежду человечества и торжество разума как такового, – это позволило выстоять в изнурительной борьбе с проявлением человеческой ничтожности, в том числе моей собственной. Даже если бы мне сейчас показали мою подпись на несуществующем партийном билете, я бы ответил «да», ибо тогда, как большинство людей моего поколения, в тот день и час, неистово верил, что только так можно выстоять против фашизма внутри страны и за ее пределами. В романах, пьесах о героизме участников гражданской войны в Испании, о позабытых бойцах немецкого Сопротивления – своего рода литургии по всему левому крылу тех лет – быть красным означало держать в объятиях надежду, которая на деле оказалась опасно лживой. Но тогда у нас не было никаких сомнений. Все изменилось после моей поездки в Советский Союз, а также в Восточную Европу и Китай. Как ни парадоксально, в основе марксизма лежит глубоко пассивное отношение к истории, ибо отрицается роль индивидуума и все права отдаются коллективу. Поэтому личность оказывается не защищенной перед лицом государства, как набожный верующий перед лицом Господа. В дореволюционном сознании пассивность объясняется верой в наступление Судного дня независимо от человеческой воли. После революции ее порождает Новый Закон, постулирующий растворение частного в общем.
История прихотлива: исходя из опыта общения с Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в пятидесятые годы, я в шестидесятые смог глубже понять страх и отчаяние диссидентов из социалистического лагеря.
Помню председательствовавшего Уолтера в коричневых с белым башмаках в мелкую дырочку по обеим сторонам мыска, в голубой спортивной рубашке и костюме, скорее подходившем для какой-нибудь брачной церемонии в Скрэнтоне, в Пенсильвании. Появившись среди восседавших с каменными лицами членов Комиссии, он любезно кивнул в мою сторону, не скрывая заинтересованного изумления по поводу наплыва репортеров (включая небезызвестного И. Ф. Стоуна, возможно самого работящего и талантливого из всей вашингтонской братии) и невиданного количества иностранных журналистов – их приехало более двадцати, – устроившихся за длинным столом неподалеку. Такого здесь еще не видывали. В отличие от моих пьес американская драматургия была в Европе редкой гостьей. И я возблагодарил свою правую руку за многолетний труд. Под сенью ощутимого могущества американского флага восседали члены Комиссии, в лице которых иностранные журналисты воочию могли увидеть силу, погубившую европейскую культуру. И мне захотелось, чтобы эта история не повторилась, по крайней мере здесь и сейчас.
Помню пару обескураживающих перепалок с членами Комиссии. Вскоре после войны мне довелось вместе с другими писателями отвечать на вопросы журнала «Нью мэссиз», как поступить с арестованным Эзрой Паундом. Аренс зачитал мой ответ. Он гласил, что я считаю предательством его выступление по радио и сотрудничество с Муссолини в целях деморализации американских войск, сражавшихся в Германии и в Италии, поэтому он заслуживает, чтобы с ним поступили так, как с любым, кто совершил подобное преступление.
Аренс увидел в этом заявлении противоречие с моим собственным требованием свободы слова. Тему поддержал конгрессмен от Цинциннати Гордон Шерер. В связи с вопросом о Паунде он резко спросил, обладает ли поэт-коммунист правом призывать в своих произведениях или стихах к свержению правительства вооруженным и насильственным путем.
Я признался, что оставляю за каждым право иметь свое мнение, удивившись провинциальной недалекости Шерера, не придумавшего ничего, кроме как обвинить поэзию в разжигании нездоровых страстей. Наверное, он не знал, что поэзию в Америке никто не читает, за исключением самих поэтов или студентов, когда это входит в обязательную программу. Поэтому лучше бы он сослался на такие влиятельные жанры, как кино или роман.
Когда я подтвердил, что признаю за поэтом право написать агитационную поэму, господин Шерер, всплеснув руками, повернулся к членам Комиссии, как бы поясняя: «Ну о чем еще говорить?»
Хуже было, когда такой прожженный профессионал, как Аренс, спросил, почему в этом случае я отказываю в свободе слова Паунду. Как можно поставить поэта, написавшего бунтарское стихотворение в Америке в мирное время, рядом с писателем, долгие месяцы изо дня в день вещавшим американским солдатам, подрывая их боевой дух на поле боя? Помимо теоретических рассуждений, к этому примешивались личные переживания.
Я был одним из немногих американцев, кому довелось слушать речи Эзры Паунда из Италии, входившей в блок Берлин – Рим. Сердце замирало от ужаса. Во время войны я купил у своего приятеля Ирвинга Аранова прекрасный новенький приемник «Скотт». Друг, работавший в скупке мебели при большом универсальном магазине «Эй-энд-Эс» в Бруклине, предложил приобрести его по своей цене, хотя это и было дорого. Приемник отлично работал на коротких волнах. Включив его как-то вечером дома на Уиллоу-стрит, я услышал американскую речь с отчетливым акцентом человека со Среднего Запада. Я было решил, что поймал американскую волну, пока диктор не начал рассуждать о необходимости истребления евреев. Это было так дико, а он так спокойно говорил об этом, что я воспринял все как неудачную репризу бездарного комика, однако приподнятое настроение оратора, его радостное возбуждение ужаснули и разубедили меня. Предоставленная самой себе, безответственно вещал он, Европа, привыкшая к конгломерату народов, сама разберется в своих проблемах. Война исключительно дело рук евреев, поклявшихся погубить тех, кто мешает им завоевать мир. Он благодарил Бога за то, что у Гитлера достало ума постичь тайные намерения этой нации и раз и навсегда разделаться с нею.
Наглое, самоуверенное, сытое лицо Аренса, выразившего удивление по поводу моего столь быстрого в случае в Паундом отказа от принципа свободы слова, вдруг напомнило тех, с кем я боролся всю сознательную жизнь, и кровь ударила в голову. Я сдержался, пытаясь уговорить себя, но он заметил, что перегнул палку, ибо я не принадлежу к числу тех евреев, которые покорно входят в газовую камеру. Паунд призывал к расовому геноциду и, судя по его выступлению, с радостью бы умертвил меня, еврея, если бы смог. Слушание закончилось раньше, чем было изобличено все лицемерие вопросов Аренса, но я был рад, что атмосфера разрядилась. Ибо выступал против таких, как Паунд, проповедовавших лживые идеи, и гордился своей позицией.
Уходя из зала вместе с Джо, я почувствовал, что напряжение спало. Даже в том случае, если Комиссия затеяла все исключительно ради общественного резонанса, а не серьезных побуждений защиты страны, я вопреки собственным ожиданиям проявил большую твердость духа и в то же время показал, что отошел от взглядов тридцатых – сороковых годов, когда Советы олицетворяли для меня социализм, в свою очередь неразрывно связанный с раскрепощением человека. Однако все это имело мало отношения к заседанию Комиссии, напоминавшему окрашенный в политические тона теннисный матч с жесткими правилами, требующими попадания мяча только на строго очерченные участки площадки. Для своей победы Комиссии необходимо было доказать зависимость моих действий от партии, тогда как мне надо было продемонстрировать нечто совершенно обратное, показав, что я никогда не скатывался до поступков, которые могли бы интерпретироваться как государственная измена.
Неужели для того, чтобы тебя признали истинным американцем, надо быть жесточайшим эгоистом? Толстой, будучи христианином, как-то сказал, что веру в коммунизм он предпочел бы безверию. Аренс продолжал зачитывать петиции, заявления, декларации. Казалось, я не мог прожить дня, чтобы не подписать какой-нибудь бумаги, – и вдруг открылось, сколько во мне жило надежд! А ведь не пиши мы ничего и не делай – не сидел бы я сейчас вот здесь. Однако это было еще не все. Стопка документов дюймов шесть высотой свидетельствовала не только о непримиримом отношении к действительности, но и о взятых на будущее обязательствах. Подписывая воззвания, я не мог избавиться от страха перед маячившей победой фашизма и протестовал против пустой растраты сил в такой стране, как Америка, хотя ничего толком не знал о жизни при социализме. Сейчас, в 56-м, единственное, что я хотел, – это обрести самого себя и, перестав подавлять честолюбие, чувственность, пусть даже эгоизм, в полной мере принять ответственность за свое время и бытие.
От симфонии этих переживаний с годами осталось несколько тем, одну или две из которых я мог насвистеть, но и те оказались вариациями, рожденными потрясенным сознанием. «Почему вы так трагично пишете об Америке?» Последняя фраза председателя годами крутилась у меня в голове. Однако, просмотрев стенограмму, я обнаружил, что конгрессмен Дойл всего лишь спросил: «Почему вы не хотите обратить хотя бы часть отпущенного вам таланта на борьбу… с коммунистическим подпольем?.. Почему при таких огромных возможностях вы все время обходите эту тему?»
Не оставалось сомнений, чего они добиваются, – я должен был оказать им поддержку, но вместо этого начал копаться в проблемах, выворачивая все наизнанку. Никому из них не приходило в голову, что конгрессмен в Америке не имеет права задавать такие вопросы писателю, – поэтому на лицах заседателей царила полная безмятежность. Долгие годы голос Дойла гулко отзывался в различных уголках земного шара вплоть до Советского Союза, ибо глас государственной власти, глас подавления, рабства, угнетения неотделим от организованного существования людей. Уолтер с Комиссией оказались всего лишь менее ловкими, изощренными фокусниками, чем теологи, обожествляющие государство, – они не смогли полностью скрыть секретов своего мастерства. При этом Уолтер не удержался от искушения закончить на оптимистической ноте: в завершение процедуры он улучил момент поблагодарить меня и выразить надежду, что в будущем я буду писать об Америке более оптимистично.
Из всего этого я понял только одно: мне безумно повезло, что я родился в стране, основатели которой изначально понимали, что власть – это идиот, которого надо сдерживать системой законов; они должны быть фундаментальны и просты, чтобы их можно было быстро растолковать ему и чтобы он в приступе ярости не разнес всю постройку.
Заседание близилось к концу, когда меня спросили, не встречался ли я с писателем имярек на одном из собраний писателей-коммунистов лет десять назад. Аренс наверняка знал, что я отклоню этот вопрос, дабы не изменять своему представлению о себе. У меня не хватило остроумия выяснить, какую цель преследовала Комиссия, если имя писателя уже было произнесено, а речь шла об официальном заседании зарегистрированной организации. На самом деле им хотелось продемонстрировать свою власть. Комиссия обладала ею, а я нет, и, чтобы доказать это, меня вынуждали нарушить негласное правило общения между людьми, что имя человека не будет использовано ему во вред, или же пойти на сделку с Комиссией, отринув демократический принцип, гарантирующий неприкосновенность миролюбивых ассоциаций. Меня предупредили, что я неуважителен к Комиссии, однако я посчитал замечание необоснованным и не обратился за поддержкой к Пятой поправке. Я снова попросил не задавать неправомочных вопросов, не имеющих отношения к делу. А в ответ еще раз услышал, что многим рискую, отказываясь отвечать Комиссии. Так и случилось. Не востребовав зашиты своих конституционных прав, я оказался в ситуации, когда меня в любой момент могли отправить за решетку.
К концу слушаний Мэрилин приехала поддержать меня, и они с Оли Раух прятались от вездесущих журналистов дома. Мне всегда нелегко было делить свои беды – и слабости – с женщиной. Отец никогда не приносил в дом дурных новостей – даже в те времена, когда мои глаза постоянно упирались в платок в заднем кармане папиных брюк, его стоицизм воспринимался как крепость духа. Когда я замыкался, в Мэрилин просыпался какой-то страх. Зализывая рану, я в целях обороны все больше уходил в себя, а она боялась оказаться нелюбимой женой, запертой по целым дням в чужом доме. Я видел добрый знак в том, что она нуждалась во мне, хотя это немного пугало. Впервые мне пришлось извиняться. Подобно ребенку, она, как и я, хотела раствориться в другом человеке, в его жизни, освободившись от сковывающих дух и плоть тенет. Вместо этого я предоставил ее самой себе.
Однако мы вскоре уезжали в Англию, где ее ждала новая роль в фильме с участием, пожалуй, самого уважаемого актера в мире, а меня – перспектива сотрудничества с выдающимся молодым режиссером над постановкой «Вида с моста». Сразу же по приезде я решил засесть за переработку текста и расширить пьесу, что представлялось уникальной возможностью с точки зрения проверки ее композиции. В самом начале я мыслил ее лаконичной, как текст телеграммы, с акцентом на сюжете, вызывавшем интерес неожиданными перипетиями событий. Теперь я думал несколько по-иному: хотелось, чтобы главный персонаж – человек, погрязший в недостойных поступках, – был легко узнаваем и зритель сопереживал, отождествляя себя с ним. За два года со времени написания пьесы я научился не торопиться с вынесением приговора и перестал выделять себя из толпы, причем не на словах, а на деле.
Мы провалились в тяжелый сон на незнакомой кровати в чужой стране после двенадцати часов перелета на поршневом самолете через Атлантику. В аэропорту нас поджидали журналисты, и Лоренс Оливье, чуть ли не хохоча от возбуждения, назвал эту встречу самой большой пресс-конференцией в истории Англии. Кого здесь только не было: человек четыреста репортеров со всех концов Британских островов, даже из далекой туманной Шотландии, не говоря о континенте, что подтверждали своим суровым видом два баска в беретах. Толпа была оцеплена полицейским кордоном. Вспышки софитов создавали мощные столбы света, иногда державшиеся до полуминуты, напоминая ослепительное северное сияние, – это необыкновенное зрелище привело в восторг даже самих журналистов. Память не сохранила ни их вопросов, ни наших ответов. Но это не имело никакого значения ни до, ни после того, настолько все были поражены, увидев перед собой живую Мэрилин – богиню, вышедшую из волн холодного моря. Если она улыбалась, все улыбались, хмурилась – супили брови, смеялась – взрывались восторженным хохотом. Когда она, улучив момент, заговорила (!), сразу же наступила благоговейная тишина: при звуках ее приятного напевного голоса взрослые люди размякли, как мох после дождя.