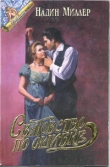Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 49 страниц)
Зная о бесконечных змеящихся очередях безработных, где каждый был готов занять твое место, бессмысленно было жаловаться на условия труда, и мы научились смиряться. Когда выпадал заказ на тормозные колодки, их надо было подогнать по заданному образцу на хрупком и твердом, как кирпич, шлифовальном круге, у которого приходилось работать без очков и без маски. Вокруг поднималось облако вонючей пыли, которая проникала даже в контору. Иногда шлифовальный круг рассыпался, и острые, как битое стекло, осколки разлетались во все стороны. Однако никто не задумывался, чем это грозило. Как-то осколок попал мне в грудь. По счастью, стояла зима, в помещении было холодно – температура не поднималась выше 60° по Фаренгейту, – поэтому поверх свитера на мне была надета штормовка, и, не обратив внимания на осколок, я приладил новый круг, чтобы закончить работу. В газетах писали о появлении на производствах новых профсоюзов, но когда я намекнул об этом Хьюи и другим, они с большой опаской отнеслись к перспективе ссоры с хозяином (в пьесе, написанной двадцать лет спустя, я назвал его господином Иглом, так как не помнил настоящего имени). Мы слишком хорошо знали, что нам, как неквалифицированным рабочим, легко найти замену. На самом деле всем – и неквалифицированным, и квалифицированным – не хватало чувства гордости за свой труд. Если бы кто-нибудь надумал создать профсоюз, мы бы решили, что недостойны стать его членами.
Поскольку господин Игл владел несколькими фирмами, он заезжал к нам раза два в неделю. Со слов Доры я знал, что он окончил Принстон и был яхтсменом, о чем нетрудно было догадаться, взглянув сквозь единственное чистое на складе стекло, отгораживающее небольшой офис у входа. На стене висела внушительных размеров гравюра с изображением парусника в открытом море. Это казалось насмешкой, когда находившийся тут же около стойки огромный, три фута длиной, термометр фирмы «Престон», название которой красовалось синими и красными буквами, в жару показывал на 90° по Фаренгейту, а у нас не было ни кондиционера, ни даже вентилятора. Никому и в голову не приходило попросить Моултера переговорить об этом с хозяином. Вместо этого мимо стола упаковок с видом на бордель, около которого находился единственный туалет, взад-вперед сновали люди, чтобы над грязно-бурой раковиной, которой пользовался и сам господин Игл, ополоснуть лицо теплой водой. Нам казалось оскорбительным, когда вежливая и очаровательная госпожа Игл, молодая особа, даже днем неизменно одетая словно для званого вечера, отправлялась на несколько часов по магазинам, оставляя нам двух огромных глупых спрингер-спаниелей, которых привязывала к массивным напольным весам. Под весами обитала колония почтенных серых мышей, насчитывающая несколько десятков особей. Привязанные к стойке собаки вели себя, как им велел инстинкт, исходя лаем и в охотничьем рвении атакуя железную платформу. При этом кобель оставлял на весах лужу, предоставляя нам решать, кто ее вытрет. Наш протест выражался в том, что мы, не сговариваясь, молчаливо ждали, пока она высохнет сама. И получали удовольствие, когда госпожа Игл вынуждена была как-то реагировать на это, отвязывая собак и выражая нам благодарность за то, что мы за ними присмотрели, поскольку городская жизнь для них казалась непривычной.
В середине шестидесятых я попытался воссоздать эту картину в одноактной пьесе «Воспоминание о двух понедельниках», которая имела успех только за границей – в Латинской Америке, Италии, Чехословакии и других небогатых странах Европы, где по-прежнему сохранялся ручной труд или хотя бы воспоминания о нем. На нью-йоркской бирже курс доллара в 1955 году резко поднялся, он стал самой твердой валютой в мире, и спектакль о рабочих здесь был ни к чему. К этому времени пять моих пьес уже шли на Бродвее, но, несмотря на успех, я чувствовал, что американское общество так называемой эйзенхауэрской эпохи не приемлет меня. Отстаивая иные приоритеты, кроме ценности денег, моя пьеса воспевала человеческую солидарность, пусть даже как воспоминание о давно ушедших днях. Однако ностальгия, мне кажется, чувство, которое связано с чем-то приятным, а не болезненным или просто имевшим место.
Как бы там ни было, но в конце лета 1934 года я навсегда покинул «Чэдик-Деламатер». Казалось, это заметила одна Дора, так же как за два года до этого она единственная отреагировала на мое появление. Даже Дэнис, мой ближайший приятель, и то едва взглянул на меня, заворачивая распредвал, когда я подошел попрощаться. Мимо с прилипшей к шамкающему рту сигарой просеменил, запрокинув голову, чтобы сквозь двусторонние линзы сподручней было разобраться с квитанцией, восьмидесятилетний Джимми Смит, когда-то занимавшийся индийской борьбой. Джонни Дроун, с тем же, как и два года назад, усиженным черными точками носом, в одном из трех своих окаменевших от грязи темно-синих галстуков, сказал, переминаясь с ноги на ногу, будто стоял на раскаленной жаровне: «Не забудь заглянуть в бухгалтерию». Там теперь работали два новеньких клерка, с которыми я так толком и не познакомился, поскольку их почти никогда не было на месте – они часами пропадали в грузовом лифте, играя в кости с какими-нибудь простофилями с улицы. Желая позлить наивного чистого Дэниса, который, правда, давно потерял свой цветущий румянец, эти двое как-то однажды уселись на его упаковочный стол и давай громко с подробностями рассказывать, как в выходной они забрали по дороге домой после танцев с собой девчонку и по очереди издевались над ней, подменяя друг друга за рулем взятого напрокат грузовика. Дэнис пришел в ярость, и я в первый и последний раз видел здесь драку, когда он послал одного из них в нокдаун. Из офиса у входа тут же прилетел Уэсли Моултер, страшным голосом вопя на Роуча, одного из двух клерков, который лупил Дэниса по животу, в то время как я пытался сдержать его, а Дора и еще двое женщин истошно вопили, грозя вызвать полицию. Потребовалось время, чтобы восстановить привычную тишину.
Как-то в середине сороковых, лет через десять после того, как я навсегда оставил это место, чтобы отправиться в Мичиган, я оказался поблизости и впервые за долгое время, не без любопытства вспомнив о своих отношениях с этими людьми, испытал сентиментальное желание нанести визит. Свернув с Бродвея, я поднялся по ступенькам, толкнул тяжелую металлическую дверь и удивился, попав в совершенно иную атмосферу. Стойка, отделанная темной клееной фанерой, что свидетельствовало о новых замашках, теперь отделяла заказчика от стеллажей с запчастями, а также от бухгалтерии, которая, должно быть, была где-то в глубине. У стойки стояли двое механиков, ожидая, пока их обслужат, и тут из внутренней двери появился полный блондин и подошел к ним. Это был Хьюи, за десять лет растолстевший и какой-то обрюзгший для своего возраста. На нем были модная рубашка и галстук, а рукава аккуратно засучены выше запястья, как это принято у приказчиков, и, хотя я не видел его башмаков, можно было с уверенностью сказать, что он больше не делает на них прорезей. Забрав упакованные запчасти, механики ушли, а я сделал шаг вперед и поприветствовал его. Он ждал заказа, а я сказал: «Как дела, Хьюи?»
Он не узнал меня, в его глазах проскользнуло недоумение. Я смутился, поскольку пришлось называть себя. Он сделал вид, что занят, и спросил: «Что вы хотите?» – будто все еще ожидал заказа. Пришлось напомнить, что я когда-то работал с ним здесь в течение двух лет. Как и Депрессия, работа в «Чэдик-Деламатер» теперь казалась сном. Он не просто не помнил меня, но, делая вид, что раздражен, не понимал, зачем я явился. Полное отсутствие интереса, желания поговорить повергли меня в состояние шока. Разговор не клеился, и через пару минут я ушел, теперь уже навсегда закрыв за собой стальную дверь. Меня опять преследовал какой-то металлический запах, который я впервые ощутил, когда пришел сюда, а теперь – когда уходил. Он напомнил о судоверфи и фабриках, вызвав прилив сил, ибо говорил об общности созидателей и строителей, но в конце концов человек все-таки всегда кончает так, как и начинает, – в одиночестве.
Выйдя из «Чэдик-Деламатер», я задумался, чего все-таки ожидал от возвращения сюда. Может быть, хотел продемонстрировать, что успел чего-то добиться и стал писателем, автором провалившейся на Бродвее пьесы и романа «Фокус», который, удивительно, но кто-то все-таки покупал. Да, но в этом было что-то еще кроме бахвальства. Я захотел остановить время, а может быть, даже украсть у него то, что оно крало у нас, но отказ – или нежелание – Хьюи что-либо вспоминать вновь вернул меня туда, где я был. Странно, что я так отчетливо помнил их, тогда как они меня дружно забыли. Неужели Хьюи не помнил, как я успокаивал его, держа за руку, когда до него неожиданно дошло, что их малыш чуть не умер ночью в холодной квартире, или как он бросился на меня с кулаками. Может быть, именно для этого, подумал я, существует литература, чтобы побороть забвение. Это нужно не только тому, кто пишет, но также всем, кто плавает на глубине, куда никогда не проникают лучи культуры.
Купив газету, я шел по Бродвею, на ходу просматривая ее. Россия исходила кровью, однако война постепенно оборачивалась против Германии. Поговаривали, что если мы вскоре нападем на Японию, то потеряем никак не меньше полумиллиона американцев. Брат воевал где-то в Европе. Однако город, казалось, жил совершенно иными заботами. Кому нужна была эта кровавая бойня? Если мой брат погибнет, что от этого изменится? Как комиссованный, я имел возможность раздумывать над такими проблемами. Мне казалось, в глубине души людей волнует вопрос о смысле происходящего. Но им не хватает воли признаться в этом. И поэтому они поддерживают официальную версию, что у нации есть единая цель, которая, придет день, все оправдает. Я хотел разговаривать именно с этими людьми и говорить то, что они сами не могли выразить, не обладая искусством речи.
В 1936 году, через восемь лет после получения первой Хопвудовской премии, я был автором четырех или пяти многоактных пьес, романа, написанного по пьесе «Человек, которому всегда везло», книги репортажей «Ситуация нормальная» о военной подготовке в армии, в которую вошли материалы, собранные для киносценария «История пехотинца Джо», а также около двух дюжин радиопьес, которые меня кормили. Я ходил по военному городу, постоянно испытывая чувство неловкости за то, что жив. И даже попытался устроиться в Комитет по военной информации – агентство пропаганды и разведки, – но со своим знанием французского на школьном уровне и отсутствием связей не представлял для них никакого интереса, и мне отказали. Выяснилось, что я ни к кому не принадлежу, за мной нет ни класса, ни влиятельной группы. Это напомнило последние годы в школе, когда по совету учителей все записывались в кружки и участвовали в разных мероприятиях, а я все старался понять, что происходит. Единственное, что я знал наверняка: писать – не значит выдумывать. Я не был Диккенсом из «Книги знаний», чья голова красовалась в окружении медальонов с персонажами, неким волшебным образом появившимися из нее. Город, который я знал, жил очень по-разному, но его несвязная речь имела большое значение для тех, о ком как о павших ежедневно писали газеты. По-видимому, неизбежно, чтобы я – молодой, крепкий мужчина, которого не взяли на войну, где умирали другие, и тем обреченный на пожизненное самоистязание, порой переходящее в патологическое чувство ответственности, – навсегда сохранил воспоминание о том, как эгоизм, мошенничество, коммерческая алчность соседствовали на домашнем фронте с солдатскими жертвами и святым делом союзников. Я был натянутой струной, готовой вот-вот оборваться, и жил, как выяснилось, в ожидании «Всех моих сыновей», пьесы, как я писал, подсказанной мне человеком, от которого я менее всего мог ожидать воодушевления, – матерью Мэри, миссис Слеттери.
Даже самое захудалое произведение не может быть сведено к какому-нибудь одному источнику, точно так же, как чисто психологически человек не может пребывать только в одном месте. Толстой утверждал, что в любой работе мы хотим прочесть душу самого художника, поэтому он должен принести себя в жертву и замереть, позируя для автопортрета. Я стремился дух сделать фактом, рассматривая его как залог всеобщей тоски по смыслу. Хотелось написать пьесу, которая была бы на сцене как упавший с неба камень – неотвратима, как факт.
В тот день, когда весной 1936 года я был назван перед участниками и гостями церемонии лауреатом Хопвудовской премии, я испытал смешанное чувство удовлетворения и смущения, молясь, чтобы все поскорее забыли о моей слабой пьесе во имя другой, которую я напишу и которая обязательно будет лучше.
Я тут же позвонил маме; она, вскрикнув от радости, бросила телефонную трубку и побежала оповещать родственников с соседями, что начинается новая жизнь, в то время как мое только что обретенное состояние утекало в кошелек телефонной компании. Я тут же прославился на всю 3-ю улицу: теперь можно было не опасаться, что придется всю жизнь гонять по двору мяч, нет ничего, что может быть приятнее такой славы. Но если говорить конкретно, то эта премия удовлетворила мое чувство мести к женщине, тетушке Бетти, вдове маминого брата Гарри, самозваной гадалке, которая читала по картам и предсказывала будущее. Мама попросила ее погадать мне на картах накануне моего отъезда в Мичиган, за два года до этого. Бетти была полногрудая красивая женщина, когда-то танцевавшая в кабаре. В связи с рождением сына, похожего на монголоида, она ударилась в религию и настороженно косилась по сторонам в ожидании привидений, одновременно обтирая бедному Карлу подбородок. Рассердившись, она могла вспылить, устроив ему взбучку и в лицо высмеяв его комканую речь, но одевала в дорогие костюмы с галстуками и гордо гуляла с ним, обучая, как лучше держать ее под ручку, дабы он походил на настоящего джентльмена.
Вечером накануне моего отъезда на Запад Бетти усадила меня за обеденный стол и разложила карты. Мама уселась поодаль, чтобы не мешать и не посылать свои флюиды вдогонку моим, опасаясь, как бы они не смешались. В гостиной отец подшучивал над Карлом:
– Значит, тебе нравится Мэй Уэст, Карл?
– Ой, я люблю его.
– За что же ты его так любишь?
– А ён красивый.
Сестра Джоан, достигшая отрочества, скорее всего была наверху, где они с ее лучшей подружкой Ритой примеряли мамины наряды. Я подозревал Риту в мелком воровстве, и, как оказалось, не напрасно. Больше всего ее интересовали мамины дешевые украшения для платья, среди которых было несколько небольших ценных безделушек с бриллиантами. Кермит был где-нибудь на свидании или писал мне в спальне одно из своих прочувствованных наставительных писем, по стилю напоминавших победные реляции дядюшки Мойши с фронта. Я же собирался их всех покинуть – Иосиф, готовившийся в один прекрасный день пересечь пустыню. Я знал, что последний вечер дома был гребнем одной из небольших волн в моей жизни.
Когда Бетти аккуратно сдала по масти последние карты в ряд и начала, разложив стопочками, уточнять их соответствие арканам, наступила напряженная тишина. Пауза. При всеобщем безмолвии она еще раз разложила карты, когда на пороге возникла невероятная чистюля тетушка Эстер – та тоже пришла попрощаться и пожелать мне удачи. Не дав ей произнести ни слова, мама зашипела: «Ш-ш-ш». Тетушка Эстер благоговейно затихла, смахивая со своей почти несуществующей груди кусочки перхоти и не отводя взгляда от рук Бетти.
Тут Бетти несколько раз скорбно покачала головой. «Учиться будет неважно. Через несколько месяцев выгонят». В глазах у мамы промелькнуло чувство ужаса. Бетти посмотрела на меня и сочувственно коснулась рукой: «Лучше побереги деньги, оставайся дома. Нет никакого смысла ехать».
Как я ни был наивен, но, глядя в ее исполненное сочувствия лицо, почему-то подумал, что это скорее связано не столько с умением гадать, сколько с завистью, хотя тут же отогнал от себя дурные мысли. В конце концов, мы все были одна семья – как она могла желать мне дурного. Беда в том, что она высказала мои самые сокровенные опасения и повергла в расстройство, огласив то, чего я сам больше всего боялся. Самоотверженно от всего отмахнувшись, мама тут же пошла молоть кофе и подала одну из своих крепко замешанных на дрожжах сдоб, превратив вечер в праздник – известие о появлении сдобы вызвало массу добрых напутствий мне на дорогу. Утром Кермит с отцом отправились проводить меня на автобусную остановку, как будто я отправлялся в глухие районы Азии. В последний момент Кермит, которому очень шли шляпы, сдернул свою с головы и нахлобучил на меня как прощальный подарок. Я проходил в ней четыре года и потерял в последние каникулы, когда добирался автостопом домой, где-то в пшеничном поле около Онионты в штате Нью-Йорк, погожим весенним днем, когда порыв ветра неожиданно сорвал ее с головы и унес, как детский воздушный шарик, а я не мог броситься вслед, так как в этот момент на пустынном шоссе по моей просьбе остановилась машина.
Получив весной 1936 года Хопвудовскую премию, я перестал бояться, что меня отчислят, но очень хотелось, чтобы это было отмечено Бетти, и тогда бы я до конца поверил в то, что произошло, ибо в тот самый вечер она всего лишь выразила мои собственные опасения. Эта победа отчасти была обещанием грядущих перемен. Стоило наличными деньгами получить Хопвудовскую премию, как сразу появилось опасение, с которым я прожил всю жизнь: смогу ли еще что-нибудь написать. В первой пьесе я изложил все, что знал о семье, а во всем другом был сведущ и того меньше. К тому же основной темой была атака на отца, предпринятая старшим сыном за то, что тот недостойно повел себя во время забастовки на заводе. Однако, унизив выдуманного отца, я получил удовлетворение, завоевав одобрение своего собственного. Отпала необходимость притворяться, что я учусь журналистике, серьезной профессии с начальником и зарплатой. Что касается Кермита, перед которым у меня было некоторое чувство вины, ибо я оставил на его попечение семью, в то время как сам, будучи младшим, отправился учиться в колледж, премия должна была дать понять, что его жертва не напрасна, хотя втайне он, наверное, удивлялся, почему она тоже не досталась ему. Но он состоял на службе у идеализированного отца, тогда как я был призван развенчать этот образ.
Премия повлекла за собой целый ряд приятных неожиданностей. Она доставила мне удовольствие услышать, как профессор Эрих Уолтер разбирал мою пьесу у себя на семинаре по эссеистике, что само по себе было достаточно невероятно, приведя ее как пример того, что он назвал емкостью языка. Этот рассеянный человек был всеобщим любимцем, несмотря на то что галстук у него нередко выглядывал откуда-то сбоку из-под воротничка рубашки, а пальто обычно соскальзывало на пол, когда он, войдя в класс, шел от двери к столу; спустя полчаса он замечал, что оно находится не там, где ему положено, и, внимательно глядя на него сквозь толстые стекла без оправы, размышлял, как оно могло соскочить с крючка. Эрих Уолтер прочитал мой нью-йоркский диалог на своем гнусавом диалекте Среднего Запада, чего мои уши никак не могли вынести. Вместо «о’кей» он произносил «о’ей», однако в его ужасном произношении было свое очарование, и, когда какая-нибудь строка вызывала смех, он отрывал взгляд от текста и победно смотрел в мою сторону на другой конец длинного стола, а его округлые щечки сияли. Незадолго до этого, в начале семестра, он, к моему удивлению, как-то пригласил меня прогуляться после занятий. Я боготворил своих преподавателей-профессоров, поэтому его внимание заставило меня, второкурсника-невежду, возомнить о себе Бог знает что еще до беседы. Он сказал, что в моих эссе чувствуется критический склад ума, а если я проучусь еще, скажем, лет десять, то из меня, возможно, получится неплохой критик. Ничего себе, десять лет! Значит, мне будет тридцать, когда я наконец стану критиком! Я мрачно кивнул, приняв это к сведению, втайне понадеявшись, что как драматург смогу состояться через год, максимум два, но уж, конечно, не через девять, как это выходило. Уолтер отослал меня к Кеннету Роу, который вел семинар по драматургии и разрешил мне посещать свои занятия. Роу вскоре стал для меня суровым судьей и наперсником. Помимо дружеского расположения, которое много значило в моей ситуации, особую роль в моем развитии сыграл его интерес к динамике построения пьесы, что обычно не входило в программу университетского курса. Его профессионализм и поддержка значили очень много, а когда он стал консультантом театральной гильдии и рецензировал новые пьесы, профессиональное признание придало вес его мастерству.
Это был тот самый Эрих Уолтер, который провел меня в свой кабинет в новом административном мини-небоскребе, чтобы помочь со статьей, когда я в начале пятидесятых годов приехал от «Холидея». Он стал деканом, был одет в хорошо сшитый костюм со спокойного цвета галстуком, который уже не торчал сбоку из-под воротничка рубашки, а послушно лежал где положено, обзавелся парой секретарш около кабинета, но все так же пришепетывал, имел те же розовые щечки и внимательно слушал собеседника, готовый к восторгам. Он сказал, что надеется, я затрону в своей статье вопрос о маккартизме, параноидальный дух которого отравлял отношения на факультете и к тому же, если учесть жесткий отбор выпускников на выпускных экзаменах корпорациями, сеял в молодых душах покорность и беспринципность. Главным для студентов, с его точки зрения, стало соответствовать корпоративной Америке, а не заниматься профессиональным совершенствованием, чтобы отличить правду от лжи. «Они теперь специалисты, как делать карьеру, какой там идеализм, в душе ничего нет, только бы ухватить кусочек послаще», да и какой смысл рассуждать о несовершенстве мира, о том, как его исправить, если это не интересует и не может заинтересовать тех, кто берет тебя на работу. Это был тот самый Уолтер, который послал меня к профессору, отвечавшему за ориентацию умов на факультете, и тот в полной наивности, без всяких задних мыслей, сообщил, что заставляет студентов докладывать о радикальных профессорах, одновременно требуя, чтобы те доносили на студентов, позволяющих себе вольные мысли. Тень безликого стукача не подчинила себе в пятидесятые годы всю университетскую жизнь полностью, однако декан был всерьез обеспокоен будущим.
Получив в 1936 году Хопвудовскую премию, вдохнувшую в меня новые силы, я мысленно противопоставил себя когорте драматургов, царивших на Бродвее, – в первую очередь Клиффорду Одетсу, Максвеллу Андерсону, С. Н. Берману, Сидни Ховарду, Сидни Кингсли, Филипу Барри, а также дюжине других, чьи имена растаяли в дымке сезонов. Но мне казалось, что никто из них, за исключением Клиффорда Одетса и в какой-то мере Андерсона, который, на мой взгляд, пытался преодолеть обветшалый бродвейский натурализм, не работали в моем ключе. В пьесах Андерсона, однако, была некая искусственная вычурность, и они вскоре перестали меня удовлетворять.
Что касается Юджина О’Нила, его пьесы, обильно сдобренные сленгом двадцатых, с их бесконечными повторами, над которыми я засыпал, и оттенком нарочито привнесенного величия казались в середине тридцатых годов безнадежно устаревшими. Каждая эпоха судит писателя по своим законам, и мне О’Нил представлялся певцом мистического богатства высшего общества, этаким типичным представителем театральной гильдии и эскапистской «культуры». Должно было пройти немало времени, прежде чем я открыл в нем нечто совершенно противоположное, поняв, что его неприятие действительности было непреклоннее и абсолютнее, чем у Одетса, который в те времена казался единственным истинным носителем революционных идей и света. Это было связано с глубокой преданностью Одетса идеям социализма и его идеализацией Советов, что было очень модно на Западе, а также с поэзией надежды и отчаяния, пронизывающей его пьесы. В тот момент, когда началось стремительное восхождение Одетса, О’Нил замолчал на десять лет, что на первый взгляд подтверждало: на смену закоснелому индивидуализму и похоронной тоске по личному спасению, которыми отличались сильно попахивающие алкоголем двадцатые, пришел эмоциональный товарищеский призыв Одетса, направленный против невыносимой действительности. Как нередко случается, мы оценивали писателя по его общественной позиции, забывая о том, что, собственно, им было создано, и попадали в ловушку противопоставления художественных достоинств произведения их критическому заряду.
Только в конце сороковых, совсем в другую эпоху, я понял, что ошибался. Несмотря на то что премьера пьесы О’Нила «Продавец льда грядет», состоявшаяся в 1956 году, в один сезон со «Всеми моими сыновьями», была крайне неудачной, он потряс меня глубиной своего неприятия буржуазной действительности, несопоставимого с настроениями Одетса. Если разобраться, то персонажи пьес Одетса не вписывались в существующую систему, поскольку были чужды ей, тогда как герои О’Нила не вписывались в нее, испытывая необоримую потребность освободиться, отринув откровенное самодовольство самой системы с благочестивыми притязаниями на духовность, когда на деле она порождала пустых, незрячих людей, сраженных неизбывным отчаянием. Если мерилом радикализма были не столько клишированные журналистские ярлыки типа «католический», «еврейский», «трагический» или «классовое сознание», сколько само их содержание, то из всех писателей наиболее последовательным противником капитализма был именно О’Нил. Одетс лишь подновил его, привнеся некоторую дозу социализма. О’Нил же не видел в этом учении никаких перспектив и в отличие от Одетса не принадлежал, по крайней мере в юности, ни к каким политическим движениям. О’Нил писал о рабочих, проститутках, других социально отверженных, даже о неграх, существующих среди белых, но он не был марксистом, и поэтому его пьесы никогда не рассматривались как критика капитализма, хотя были таковыми по сути.
Одетс в те времена тоже был не совсем тем, за кого пытался себя выдавать. Размахивая красным флагом, он еще какое-то время получал удовольствие от того, что стал широко известен как «буревестник рабочего класса», однако это была лишь поза, необходимая для обретения заветной точки опоры, которую, как впоследствии оказалось, он так и не нашел. Будучи американским романтиком настолько, насколько и пролетарским лидером, он в наибольшей степени оставался бродвейским парнем. Его можно упрекнуть в непоследовательности, но именно здесь он был энергичен, несмотря на страдания, которые это ему доставляло. Однажды его ближайший друг, режиссер Гарольд Клерман, процитировал в разговоре свое собственное высказывание: «Голливуд для Одетса – грехопадение» – и рассмеялся этой мысли. «Что тут смешного? Оно так и есть», – отреагировал Одетс, как человек, который сбросил с себя бремя моральных обязательств.
Его также легко упрекнуть в том, что он растратил себя на сценарии, которые в основном оказались не реализованы. Но какому театру он должен был хранить верность? Коммерческий театр Бродвея не ценит тех, кто предан ему: в последние годы жизни Одетс был осмеян и выброшен за борт так же, как Уильямс и О’Нил. Мне тоже пришлось пережить, хотя и менее болезненно, это горькое чувство. Я никогда особенно не доверял иллюзии успеха – ибо был воспитан так, что несостоятельность брака между коммерцией и искусством меня не удивляла. Жизнь американских драматургов до жути однообразна – признание сменяется забвением, и этого нельзя избежать, если ты позволяешь себе рисковать, а не повторяться.
В середине тридцатых годов за пьесой Клермана «В ожидании левых», которую он сам окрестил «плакатной», последовала «Проснись и пой!» Одетса. Они положили начало новому явлению: театру, бросавшему системе вызов слева. На сцену неожиданно ворвался поэт, который начал кричать, вопить, браниться в лицо добропорядочной публике, как это случается на улицах Манхэттена. Впервые на сцене Америки язык драматурга звучал ярко и оригинально, и это в условиях всеобщего засилья аполитичного, лишенного поэзии театра, где успех выпадал на долю таких однодневок, как «Обед в восемь вечера», «Дверь на сцену», «Детский час», «Окаменелый лес» и «Филадельфийская история». Пьеса «Наш городок» была тоньше других, но по языку, на фоне произведений Одетса, выглядела еще весьма робкой попыткой. Одетс казался неограненным алмазом, при том что он постоянно был раздираем моральными и социальными противоречиями, в которых так и не смог разобраться до конца жизни. Его призванием в мире поп-культуры, требующей постоянного, легкого развлечения, было искусство, а не реальная или мнимая радикальность. Далекий от политики Ф. Скотт Фицджеральд столкнулся с той же проблемой, которую Одетс воплотил в образе Джо Бонапарта из «Золотого мальчика», взяв, по словам Клермана, в качестве прообраза самого себя, человека, раздираемого противоречием между приверженностью быстротечной и сомнительной бродвейско-голливудской славе и игрой на скрипке, выражавшей жизнь души.
Вернувшись на каникулы в Нью-Йорк, я был потрясен великолепием постановок «Групп-театр». Моему неукротимому стремлению идеализировать все, что бросало вызов системе, включая условность бродвейского театра, импонировала яркая зрелищность этих спектаклей с декорациями и освещением в исполнении Бориса Аронсона и Мордекая Горелика и той особой атмосферой, которая окутывала актеров, казавшихся одновременно земными и нереальными. Я до сих пор помню прекрасные сцены в исполнении Лютера и Стеллы Адлер (детей Джейкоба, которого любил мой отец), Эдди Казана, Бобби Льюса, Сэнфорда Мейснера и других. Каждого помню, где и как он стоял на сцене пятьдесят лет назад, и в этом не столько заслуга памяти, сколько дань таланту актеров, их умению завораживать зрителя, воистину жить на сцене. Когда я их вспоминаю, время останавливается, кажется, у них на сцене никогда не было ни одного незначительного жеста. Из всего, что я видел, это можно сравнить только с «Юноной и Павлином» с Сарой Олгуд и Барри Фитцджеральдом в постановке «Эбби-театр», перед игрой которых душа смирялась, как перед непреложной истиной. Многое я помню в цвете – Горелик и Аронсон, как художники, использовали цвет прихотливо, в согласии с субъективным восприятием, а не адекватно реальности. Позже я узнал, что «Групп-театр» разъедали вражда, себялюбие, непомерные амбиции, у актеров бывали нервные срывы. Но с галерки, куда билет стоил пять центов, он казался волшебной реальностью, где царило высшее единение целей и художественных средств, как это порою бывает. Не впервые искусство оказалось выше актера.