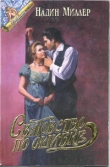Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 49 страниц)
Наша история – кладезь мудрости. Чего только я не вспомнил, слушая председательствующего, даже игру в ручной мяч на Ист-Форт-стрит в Бруклине, когда парень из колледжа впервые прошептал мне на ухо о марксизме. Но теперь, справив в Киргизии свой семьдесят первый день рождения и находясь в преддверии двадцатипятилетия свадьбы с Ингой, я смотрел на искреннее стремление к переменам, звучавшее в речи Михаила Горбачева, поразившего нас, представителей Запада, раскрепощенностью мышления, со скептицизмом старого человека. Мне казалось, я понимаю, чего он хочет; это вселяло надежду, ибо за этим стояло нечто большее, чем его личное пожелание. Руководству необходимо было осознать, что никакое научно-техническое развитие невозможно в стране, правительство которой относится к иностранцам и своим собственным гражданам с параноидальным страхом и подозрительностью. Меня не столько занимал вопрос, действительно ли он хочет сделать этот строй более либеральным, сколько невозможность этого без признания оппозиции как внутри коммунистической партии, так и вне ее. С моей точки зрения, перед ним стояла та же проблема, что и у китайцев – я столкнулся с этим во время двух поездок в эту страну, особенно когда за три года до этого два месяца проработал в Пекине над постановкой «Смерти коммивояжера», – как пробудить творческое начало нации, сохранив однопартийную систему.
Опыт подсказывал, что впереди предстоит много трудностей. Об этом свидетельствовали прошлые встречи с советскими деятелями, тоже ратовавшими за «изменения». Слушая его, я вновь и вновь возвращался к воспоминаниям 1967 года – беседе в номере одной из гостиниц в Москве, где остановился, приехав обсудить от имени международного ПЕН-клуба вопрос о вступлении советских писателей в эту организацию.
Все началось в 1965 году, когда в парижской квартире Инги раздался дребезжащий телефонный звонок. Мы остановились здесь, приехав посмотреть «После грехопадения» в постановке Лукино Висконти с Анни Жирардо. Спектаклю, с моей точки зрения, не хватало цельности. При том что фильмы Висконти отличает тонко продуманный рисунок, здесь ему, на мой взгляд, не удалось схватить суть пьесы, прочитав ее как историю сексуальных переживаний примитивного американца. Через год в Риме Франко Дзеффирелли предложил более углубленную интерпретацию с Моникой Витти и Джорджо Альбертаци. Он предоставил Квентину в полной мере пережить страдание человека, пытающегося не столько объяснить свои поступки, сколько постичь себя. Совершенно иной подход, который, на мой взгляд, отличался трогательностью и убедительностью. Декорации представляли шесть или восемь концентрических прямоугольников из металла, постепенно уменьшавшихся по мере отдаления в глубь сцены – казалось, смотришь издалека в линзу раскрытой камеры старинного фотоаппарата с гармошкой; черный бархат, разделявший конструкции, давал актерам возможность передвигаться, появляясь и исчезая, по объемной сцене, в то время как бесшумные лифтовые устройства то возносили, то опускали различные предметы декорации, позволяя молниеносно менять обстановку, как бывает в мечтах или во сне. Спектакль проехал по многим крупным городам Италии, и тот прием, который ему оказывали, только подтвердил мое отношение к пьесе.
По Ингиному телефону едва удалось разобрать, что это «Кейт из Лондона». Он должен непременно завтра увидеть меня и прилетит в Париж с неким Карвером, который все объяснит. Прозаик, преподаватель Кейт Ботсфорд издавал вместе с Солом Беллоу и Эроном Эшером, тогда моим редактором в «Вайкинге», увлекательный, но недолго просуществовавший журнал «Благородный дикарь», где я как-то опубликовал два рассказа. Теперь Кейт что-то говорил о ПЕНе, о котором у меня были самые смутные представления.
Несмотря на поверхностное знакомство, Кейт ничтоже сумняшеся на следующий день нагрянул в квартиру Инги на Рю де ла Шез вместе с англичанином огромных размеров в бабочке: Дэвид Карвер был своего рода Сидни Гринстритом, только без астмы. Выяснилось, что до Второй мировой войны он был довольно известным оперным баритоном, а потом стал личным адъютантом герцога Виндзорского и вместе с ним переносил тяготы войны на Багамских островах.
Квартира Инги находилась в доме, где в XVI веке располагалось испанское посольство при французском дворе. Стены поражали массивностью, потолки – высотой, а окна, выходившие на крохотную улочку из двух домов, блестели – с таким старанием их отмыла Флорина, баскская девушка, с давних пор находившаяся у Инги в услужении. Она подала нам кофе с церемонностью, достойной встречи трех баронов, углубившихся в обсуждение тонкостей торговли специями. Ее черные глаза светились радостью – после долгих месяцев она дождалась наконец приезда из Америки своей обожаемой хозяйки и теперь занималась делом.
Кейт быстро уступил инициативу Карверу, человеку с хорошей дикцией, соответствующей лексикой и неожиданными переходами профессионала от реалистической школы на уличный жаргон. Он уже много лет исполнял обязанности генерального секретаря ПЕНа и, без сомнения, отдавал этому немало времени и сил. «Но, – произнес он, – должен откровенно признаться, господин Миллер, сейчас мы находимся в плачевном состоянии, так что если вы не согласитесь занять пост президента, ПЕН просто перестанет существовать».
Стать президентом ПЕНа? Я едва мог представить себе, чем занимается эта организация, кроме того что это некое подобие дискуссионного литературного клуба.
ПЕН-клуб, объяснил Карвер, был создан после войны – Первой мировой войны – Джоном Голсуорси, Бернардом Шоу, Г. К. Честертоном, Г. Дж. Уэллсом, Джоном Мейсфилдом, Арнольдом Беннеттом, Анри Барбюсом и рядом близких им по духу в Европе и Англии людей, которые полагали, что международная организация писателей сможет предотвратить новую войну путем борьбы с цензурой и националистическим давлением на писателей. Конечно, это не спасло мир от Второй мировой войны, однако исключение германской делегации, отказавшейся заклеймить гитлеровскую цензуру и варварское обращение с писателями, помогло в тридцатые годы привлечь внимание мировой общественности к угрозе нацизма.
«Почему ваш выбор пал на меня?» – спросил я. У меня с ПЕНом не было никаких отношений, и я не имел никакого желания чем-либо руководить. Честно говоря, вообще не очень-то уже верилось в пользу писательских объединений.
Несмотря на активность, ПЕН-клубу не удавалось привлечь молодых писателей в возрасте от тридцати до сорока, и на него стали смотреть как на нечто устаревшее и отжившее свой век. Он также сильно пострадал во времена «холодной войны», которая подорвала его авторитет в малых странах, полностью не поддержавших Запад. Разрядка международной напряженности, происходившая в последние годы, в процессе преодоления разногласий между Востоком и Западом требовала новых усилий, а ПЕН-клуб не накопил достаточно опыта. Нужен был мощный импульс, и им должен был стать я.
Карвер щелкнул золотым портсигаром. И хотя я ни на минуту не усомнился в том, что меня не увлекает работа, отрывавшая от писательства, стало ясно, что просто так от этого крупного светловолосого, голубоглазого британца с шелковистой кожей, белоснежностью напоминавшей внутреннюю оболочку грейпфрута, двумя веселыми румяными розанчиками на щеках и плечами в косую сажень отделаться не удастся.
– Мы вмешиваемся, когда возникает угроза жизни писателей и надо кого-то спасти. Удается, но не всегда, хотя такое бывает.
– «Угроза жизни?» – На дворе стояла середина шестидесятых, и проблема прав человека, сформулированная политически нейтральной организацией «Международная амнистия», созданной за несколько лет до этого, в сознании людей как таковая еще не сложилась. Вопрос о правах человека носил в высшей степени политический характер: коммунисты ставили его, когда Запад преследовал их сторонников, а Запад поднимал шум, когда речь заходила о преследовании диссидентов на Востоке. Карвер открывал новую перспективу постановки проблемы вне связи с политикой, что позволило бы защищать и тех и других, тем самым хотя бы отчасти сведя на нет усилия двух десятилетий «холодной войны». Если это и не выглядело правдоподобным, во всяком случае, представлялось заманчивым.
Так, ПЕН-клубу, продолжал Карвер, подкрепляя свое предложение примерами, удалось убедить венгерское правительство дать нескольким писателям уехать после русского вторжения в 1956 году. У ПЕНа были свои отделения в Польше и Чехословакии (позже их деятельность была свернута и прекращена). Они собирали информацию и время от времени предавали гласности факты преследования писателей.
– В целом все носит случайный характер, – признался Карвер, – и не всегда помогает, однако польза есть, и не хотелось бы вот так ни с того ни с сего выходить из игры.
– Каковы рычаги воздействия ПЕН-клуба? Почему с ним должны считаться?
– На Востоке, как и на Западе, любят, когда о них говорят хорошо. Хотят, чтобы их считали не диктатурой, а современным цивилизованным обществом, – вскинув брови и сдерживая улыбку, сказал он.
– А почему надо выходить из игры?
Он снова стал дипломатом. В последние годы ПЕНу не удалось привлечь к своей деятельности известных писателей, в том числе с международным признанием. Он полагал, это удастся мне.
– Но я не умею руководить…
– Всем руковожу я. Вам надо только присутствовать на международных конгрессах, которые проходят не чаще чем раз в год. Уверяю, это не займет много времени.
– Вам нужен свадебный генерал!
– Отнюдь. У президента есть реальная власть, если вы захотите ею воспользоваться.
У меня вдруг возникло подозрение, что дело нечисто. Кому понадобилось заварить эту кашу? Госдепу, ЦРУ или британским спецслужбам? Я решил вывести их на чистую воду.
– А что, если я приглашу вступить в ПЕН-клуб советских писателей?
У Карвера отвисла челюсть.
– Прекрасно! Как раз то, что нам надо! Замечательно! Дело в том, что нависла угроза раскола, восточные центры находятся в неустойчивом положении, а ваша кандидатура для них настолько авторитетна…
– …Поскольку мы собираемся бороться за предотвращение войны, без участия советских писателей это по крайней мере…
– Да-да, вы правы. Просто отлично, если бы мы смогли объединиться с ними под одной крышей. Так вы согласны?
Я задумался, попросив время на размышление. Но ответ нужен был в ближайшие дни, «прежде чем будут разосланы приглашения на конгресс в Бледе».
– Блед? Это где?
– В Югославии.
– Там есть отделение ПЕНа?
– О да, они очень активны. Но им нужна наша поддержка. Мы впервые проводим конгресс в Югославии.
Подталкиваемый любопытством, я через пару дней согласился, так и не уяснив, почему они остановились на мне. Оставалось только гадать. Это стало понятно лишь два десятилетия спустя. Среди бумаг в моем досье в ФБР, которое удалось заполучить в 1986 году, лежала телеграмма 1965 года, в которой американское посольство в Москве извещало Вашингтон, что ровно за две недели до визита Карвера я был «полуофициально» и тепло принят в Москве. Звонок Ботсфорда раздался в тот день, когда мы вернулись в Париж. Возможно, английская пресса писала, что на вокзале был устроен теплый прием большой группы представителей Союза писателей СССР, а может быть, Карвер пользовался иными источниками информации относительно тогдашнего благоволения ко мне Советов. В любом случае он знал, что моя кандидатура подходит и для Востока и для Запада. А поскольку ПЕН находился под угрозой развала, это могло сыграть решающую роль при выборе кандидатуры президента. Вскоре стало понятно, что ПЕН непоколебимо стоит на традиционных для времен «холодной войны» позициях, по примеру западных правительств не стремясь признать в Восточной Европе ту группу государств, где писатели, долгое время находившиеся в изоляции, были заинтересованы в установлении новых контактов с Западом. Спустя сорок лет с момента своего возникновения у ПЕНа наконец появилась возможность делами доказать те миротворческие устремления, которые были определены вначале. Я волей-неволей оказался втянут в запутанный клубок политики разрядки – начинался совершенно неожиданный поворот в моем познании жизни.
Увидеть чемодан для Инги означало начать паковаться. С ее способностями к языкам она выучила русский еще до поездки. Свободно владела английским, французским, испанским, итальянским; с некоторым затруднением объяснялась по-румынски – она учила его в начале войны и с тех пор на нем не говорила. Однажды мы провели две недели в Греции. Накануне отъезда я не без удивления обнаружил, что она освоила язык, который никогда не учила. Общаясь с местными в той или иной стране, я привык обращаться к ней, и она обычно никогда не подводила. Ее внутренняя сосредоточенность вкупе с романтической раскрепощенностью духа совершенно обезоруживала политиков. В конце сороковых, когда брала интервью и фотографировала канцлера Германии Конрада Аденауэра, она так очаровала его, что он предложил ей стать его главным секретарем. В Китае, где мы побывали в конце восьмидесятых, она однажды обедала в компании чиновника, говорившего по-немецки, писателя, любившего русский язык, и гида туристической группы с английским, причем каждый, воспользовавшись редкой возможностью, стремился поговорить с ней на чужом языке. Таким образом, ей пришлось переводить одновременно с трех европейских на китайский и наоборот. Мне показалось, у нее из ушей шел пар, она побледнела, но держалась мужественно, пока на это не обратили внимание и все рассмеялись.
В Москву из Дюссельдорфа мы добирались на поезде по заснеженной январской равнине – огромным просторам без границ и названий – почти двое суток. Это вернуло меня к мысли, что человечество склонно обожать наиболее безрассудных лидеров: что Наполеон, отважившийся привести сражаться армию в этих сугробах, что Гитлер, решивший повторить его опыт, – оба были умалишенными, – возглавив легковерные орды своих соотечественников, они подарили им вечный покой в этих снегах. Поезд шел на скорости: завтракая, обедая и ужиная, мы смотрел в окно на снега. Во сне нам грезилось окно и снег, проснувшись, снова смотрели на снег за окном – и так в течение двух с половиной суток.
Мои пьесы шли на советской сцене уже около двадцати лет, и я смог убедиться, что они завоевали глубокое признание. При жестком контроле писателям приходилось отстаивать почти каждое предложение или слово, поэтому театр был своего рода отдушиной для эмоционального выражения непредвзятых мыслей и чувств. Это вовсе не значило, что на сцену допускались неортодоксальные пьесы, но ирония передавалась движением приподнятой брови, жестом, а то и просто присутствием актера на сцене. Острота современных постановок, включая классический репертуар, вызывала бурную реакцию зала, и русские дорожили той относительной свободой чувств, которую им дарил театр.
В 1965-м на сцене одного из московских театров шел «Вид с моста», и мы, конечно, не могли не посмотреть спектакль. Вместительный зал был набит битком. После спектакля мне устроили десятиминутную овацию. Однако это не помешало заметить несколько несуразностей в самом спектакле.
Я не знал русского языка, но почувствовал, что в первой сцене текст изменен. Переводчик согласился со мной. В «Виде с моста» Эдди Карбоне, стремясь избавиться от молодого человека, вскружившего голову его племяннице Катрин, к которой он сам неравнодушен, отдает двух нелегально живущих у него родственников в руки властям. Воспитывая ее как дочь, он не может осознать своего чувства. Ситуация постепенно проясняется. В постановке же Эдди при первом появлении молодой девушки, проходившей мимо него, признается, не скрывая чувственного влечения, своей жене Беатрис: «Я люблю ее». Это приблизительно то же, как если бы Эдип обернулся к Иокасте в начале пьесы и произнес: «Нет ничего хорошего, что я женюсь на тебе, мама…»
После спектакля я посетовал на неточную интерпретацию Олегу Ефремову, главному режиссеру театра «Современник», который позже возглавил Московский Художественный театр. Меня не столько поразил его ответ, когда, пытаясь оправдать изменения в тексте, он сказал: «Нас не интересует вся эта п-с-и-х-о-л-о-г-и-я», сколько прозвучавшее в словах пренебрежение к праву драматурга на собственное произведение. Нельзя сказать, что с подобным высокомерием я не встречался в других местах, в том числе в Нью-Йорке, однако его слова вместе с утонченным низкопоклонством, окружавшим меня, воспринимались как насмешка и оставили неприятный осадок, как будто то, что давалось одной рукой, надо было отнять другой.
Позднее я узнал, что в Советском Союзе была широко распространена практика хвалить таких писателей, как Твен и Хемингуэй, при переводе которых вымарывались политические или «морально» неблагонадежные куски, а вместо них вставлялись фразы с критикой в адрес американской действительности. Приятно было узнать, что в Советском Союзе идет «Смерть коммивояжера», но радость омрачалась тем, что текст пьесы оказался сильно изменен. Вилли так окарикатурен, что стал законченным идиотом, текст Чарли переписан, и он выглядел шутом – ведь бизнесмен не мог быть альтруистом, способным на искренние порывы.
В то же время меня глубоко тронули зрители, которые почти с молитвенным благоговением следили за происходящим на сцене и радостно приветствовали меня, не скрывая восторга. Первый намек на загадку таинственной русской души я уловил в том, насколько отлично было искреннее великодушие московских зрителей от поведения советских писателей на официальном обеде, данном от имени Союза Алексеем Сурковым по случаю моего приезда.
Поэтическое имя Сурков обрел во время войны, напечатав несколько ставших популярными стихотворений. Однако сегодняшнему взлету способствовала та безжалостность, с которой он проводил сталинские репрессии в писательской среде. Седовласый, по-отечески гостеприимный, он, казалось, был воплощением широкой русской души, и оттого моя душа уходила в пятки. На большом приеме, устроенном Союзом писателей в мою честь, он, по-видимому, решил не терять времени даром и отбросил всякую светскость. Он завел разговор о погоде, на что я признался, что для меня здесь очень холодно. На другом конце длинного, до отказа забитого гостями стола кто-то негромко и вежливо добавил, что в прошлом году в это время было наоборот. По этому поводу все начали высказывать свои мнения, и Сурков, откинувшись на спинку стула, зычно подытожил: «Вот видите, Миллер, мы, писатели, не можем прийти к единому мнению даже по такому простому вопросу». За столом одобрительно загудели, опустив головы в знак согласия с неожиданно прозвучавшим подтекстом о необязательности принятия писателем любой директивы партии в качестве руководства к действию.
Меня до глубины души поразила детская наивность, с которой все это разыгрывалось, но я отметил, что в присутствии иностранца свобода все еще почиталась нормой. Почему бы им открыто не признать, что писатель должен согласовывать свою работу с линией партии и воплощать ее в своем творчестве? Почему бы писателю не согласиться со всевидящей партией, если это действительно способствует прогрессу человечества? Они же упорно делали вид, что стоят за свободу, и в этом было что-то порочное и извращенное.
Мы возвращались в гостиницу по заснеженным улицам вдоль Кремля вместе с нашим гидом-переводчиком, молодым серьезным юношей. Я взглянул на окна, где должна была находиться квартира Сталина, и, усмехнувшись, сказал:
– Здесь, наверное, было немало суеты в ту ночь, когда он умер?
Посмотрев на меня не без удивления, молодой человек спросил:
– Почему?
– Ну как, надо было срочно решать, кто будет преемником.
– Не нашего ума дело, что там происходит.
Это прозвучало как суровый упрек: людей не должно интересовать, кто и на каком основании ими правит. Мое замечание прозвучало святотатством. Как это понимать?
Через несколько часов мы сидели в театре Юрия Любимова и смотрели спектакль «Десять дней, которые потрясли мир». Вновь забрезжила надежда, ибо по тонкости, вкусу и профессионализму режиссуры и актерского мастерства эта работа не шла ни в какое сравнение с тем, что довелось до этого видеть. Конечно, мы должны принадлежать единому человечеству! Через два десятилетия Любимову, не выдержавшему нападок и давления со стороны партийного руководства, пришлось эмигрировать в Италию. Россия продолжала разбазаривать свои таланты.
За две недели, что я провел здесь, меня повсюду радушно встречали русские артисты: Майя Плисецкая, устремив взгляд к нашей ложе, станцевала в Большом театре в мою честь каденцию в «Дон Кихоте»; писатель Константин Симонов, принимая нас на своей даче, поделился воспоминаниями о жутком прошлом; Илья Эренбург рассказал, как по возвращении в СССР с полей гражданской войны в Испании узнал о расстреле по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой коллеги-журналиста, приехавшего чуть раньше его. Сам он, пройдя через повальные чистки своего времени, выжил чудом и считал это «лотереей».
В тот момент, когда мы вернулись в Париж, мне трудно было сказать о России что-нибудь простое и однозначное, за исключением того, чем я поделился с Дэвидом Карвером, – было бы очень хорошо, если бы ПЕНу удалось наконец прорвать изоляцию Советов. Путешествуя на поезде по просторам этой страны, я понял, сколь ничтожным должен казаться себе русский писатель, когда пытается высказать свою единственную неповторимую правду необъятной стране, которая хранит его в своей утробе.
Глядя на Горбачева в 1986 году, я вспомнил нашу поездку в Чехословакию в 1969-м. На фасадах пражских домов еще не были заделаны следы от снарядов советских танков, и только что в знак протеста против советской оккупации подростком Яном Палахом было совершено самосожжение, загубившее Пражскую весну, чешский вариант «социализма с человеческим лицом».
В Праге остро ощущалась чудовищность всего происходящего. Возможно, это чувство было так остро оттого, что меня возили по городу взволнованные драматурги Вацлав Гавел и Павел Когут, первый – еще не в тюрьме, второй – еще не в Вене, куда ему пришлось отбыть после того, как полиция протаранила дверцу его машины, напав на жену-актрису и чуть не сломав ей ногу.
Во время обеда в гостях у одного из прозаиков его малыш, выглянув из-за шторы, позвал: «Папа!» – и указал на машину, полную полицейских, на другой стороне улицы, что должно было напомнить нам – мы здесь не одни. Мне, как и им, пришлось научиться жить под надзором, не давая воли своим страхам и постоянно находясь начеку.
В обшарпанных комнатах литературного журнала «Листы» меня встретили не менее двух дюжин писателей, и я отвечал на их вопросы – это оказалось последним интервью перед полным закрытием журнала. Именно тогда я впервые почувствовал, что Прага отнюдь не «восточный», а европейский город к западу от Вены: нетрудно было понять, что она стала жертвой прямой агрессии, ибо в окрестностях города рядами стояли сотни советских танков. Я был доволен, что когда-то питал слабость к Москве, ибо это помогло мне понять пражских писателей, во время войны с надеждой взиравших на восток и увлеченных идеей «бесконфликтного» социализма, как им тогда казалось, идеей спасения человечества. Мне было знакомо это чувство, и я радовался, что происходящее было для меня частью того же сюрреалистического действа, что и для них.
Через восемь лет из путаницы отношений, с которой я столкнулся в Праге, возникла пьеса «Потолок во дворце архиепископа», но для того, чтобы она по-настоящему прозвучала, потребовалось еще десять лет, когда в 1986 году она была поставлена Королевской шекспировской компанией в Барбикане. Пьеса построена на игре скрытых смыслов, отрывочных намеков, двойных, тройных отражений, которые едва ли не известны в политической практике Вашингтона, Парижа или Лондона, но более вопиюще и открыто проявили себя по мере продвижения на восток.
Провалу первой постановки пьесы в Вашингтоне в Центре имени Кеннеди во многом способствовали мои собственные неудачные переделки. Я ошибся, позволив уговорить себя, что в том виде, в каком она была написана, пьеса будет непонятна неискушенному американскому зрителю. Но именно в этом виде пьеса получила признание в Лондоне, а чуть раньше в постановке бристольского «Олд Уик». Время также работало на то, что в 1986 году люди смогли понять, что эта пьеса не только о «востоке»; мы все находились в неслышном диалоге с властью, постоянно держа в голове – задумывались мы об этом на Западе или нет – образ нашпигованного подслушивающими устройствами потолка. Мы бессознательно утеряли представление о человеке, который свободен от деформирующих внутренних реверансов в сторону власти. В последней четверти века все труднее было представить человека, свободного в личном самостоянии, у которого бы не было иных притязаний, кроме как своей собственной правды.
Даже на борту самолета, на котором летел из Парижа в Белград, я не был уверен, что стоило соглашаться стать президентом ПЕН-клуба. В таких случаях всегда лучше положиться на внутренний инстинкт. Мой сосед по креслу в тот июньский день 1965 года явно кого-то напоминал, хотя я чувствовал, что мы не были близко знакомы. «Норман Подгорец», – представился он, протянув руку. Я был удивлен, что редактор журнала «Комментэри» решил почтить своим присутствием вражескую территорию и летел в Югославию, но через несколько минут он подкупил меня своей теплотой и забавными историями из жизни литературной богемы нью-йоркских театров. Если он направлялся в Блед посмотреть, что же все-таки представляет из себя ПЕН, то, надо полагать, делал это не без скептицизма, если не с открытой подозрительностью. Что касается меня, я не имел ни малейшего представления, чего мне ожидать от своего первого Конгресса, президентом которого я стал, как это ни было невероятно. Меня радовало, что Подгорец, широко образованный очеркист, считал, что в существовании этой организации есть смысл, и в то же время его присутствие прояснило, почему я все-таки согласился на президентство. ПЕН вселял надежду на возрождение человеческой солидарности во времена, когда неограниченный индивидуализм и личный успех начали свое последнее наступление под знаменами противоположного символа веры на американском политическом горизонте.
Полет, по счастью, оказался кратким, и самолет приземлился на дорожке у кромки поля, тут же начав подпрыгивать. У Подгорца, чье лицо и так напоминало своим удивленным выражением внезапно проснувшегося ребенка, оно еще более вытянулось, когда он жадно стал высматривать что-то, наклоняясь через меня к окну. Это было его первое знакомство с коммунистической страной, отторженной землей, которую годы спустя его любимый американский президент назвал империей зла. Самолет уже разворачивался, когда на летном поле появились два трактора.
– Надо же, у них есть тракторы, – произнес он. Решив, что это шутка, я обернулся и увидел, что его взор полон восторженного удивления. Самолет остановился, и тракторы подъехали ближе. Он прильнул к окну, чтобы разглядеть их. Какая гамма чувств! И какова сила идеологии, если такой образованный человек мог так удивляться, что в Югославии есть тракторы.
Техника подъехала совсем близко, и я смог разобрать на радиаторных решетках какую-то надпись кириллицей.
– Вполне возможно, что они выпускают их сами, – сказал я, не моргнув глазом, и указал ему на надпись.
Он пришел в полное смятение, и я решил несколько разрядить обстановку:
– Но это, похоже, русские.
– Наверняка по американским моделям.
– Да нет, не похоже. Я думаю, наши лучше. Эти очень уж шумные и неповоротливые.
Казалось, он облегченно вздохнул.
– Но, я слышал, они практичны.
Он все понял и неестественно рассмеялся. Что было бы, попади он в Россию, какую бы испытал гамму чувств – от снисхождения до страха.
Не успел я распаковаться в гостинице «Белград», как раздался стук в дверь. Это был опять он, комментатор, критик, издатель, подстегиваемый желанием увидеть, как меня поселили. Дело в том, что мне достались огромные апартаменты, предназначавшиеся для Броз Тито, когда он наезжал в этот городок. Здесь было пять или шесть спален и ванных комнат, свидетельствовавших о власти и унынии. Полностью оборудованная кухня и гостиная в виде конференц-зала с тремя диванами и огромным обеденным столом, на сверкавшей поверхности которого стояла ваза из резного стекла и в ней три, специально для гостя, розы.
– Черт побери, как вы к этому относитесь? А у меня какая-то вшивая комнатенка!
– Я президент, Джек, и, возможно, мне придет в голову произнести отсюда какую-нибудь речь перед толпой.
Я подвел его к угловому окну, которое выходило на балкон на высоте первого этажа, выступавшего над площадью, откуда Тито вполне мог произносить речь. Норман рассмеялся, но не искренно. Он еще не опубликовал свою книгу «Как это делается», но, вспоминая тот день, я склоняюсь к мысли, что уже работал над ней там, в хорватской столице. Мне самому не чуждо соперничество, и я знаю его симптомы. А он не мог их скрыть, всего лишь притворяясь самим собой.
* * *
Блед находится высоко в горах, и в ресторане около полуночи было холодно. Женщина на крошечной сцене, казалось, собиралась раздеваться, несмотря на то что тридцать с лишним столиков пустовали и только наш и пять-шесть других были заняты. Я успел познакомиться с югославским журналистом по имени Богдан и двумя газетчиками, которые присоединились к нам после одного из «круглых столов» ПЕН-клуба в гостинице, на противоположном конце города, которая выходила на озеро. Теперь мы вместе смотрели стриптиз, а женщина расстегивала юбку, мерно покачиваясь под завывающие звуки невыразительного джазового оркестрика. За соседним столиком две коренастые местные жительницы в толстых свитерах потягивали в компании с мужчинами водку, без интереса наблюдая за крошечной сценой, что свидетельствовало: не важно как, но Югославия шагает в ногу со временем.
Конгресс ПЕН-клуба шел уже два дня. Меня не покидало ощущение, что я занимаюсь не своим делом, так как слишком мало знал о писателях, которые были не из Нью-Йорка, Лондона, Парижа или, последнее время, – из Латинской Америки. Единственное, что я понял, здесь были писатели, которые, пиши они на европейских языках, вполне могли обрести мировую известность. С этой точки зрения все мы были провинциалы, не только американцы, но англичане и французы тоже.
Большинство из ста пятидесяти или около того делегатов были, однако, ученые или журналисты, вроде моих застольных приятелей, а отнюдь не писатели. В этом плане ПЕН был не чем иным, как замысловатым экзерсисом дипломатии, замешенным на одном или двух редких моментах откровенности. Я не видел особой победы в том, что французские, английские, западногерманские писатели заседали под одной крышей с восточными немцами, болгарами, венграми и поляками. Глубокие нравственные и политические расхождения практически не всплывали на поверхность в наших беседах. Никто не хотел, чтобы в ПЕНе возникло противостояние подобно ООН, вместо этого мы должны были терпеть совершенно пустые разговоры. Я уже было начал сожалеть, что согласился. Нельзя сказать, чтобы я искал неприятностей, но, надо признаться, мы были не в состоянии навести мосты между враждебными культурами. Однако Богдан настаивал, что ПЕН жизненно важен и для югославов большую роль играет то, что я стал президентом, особенно потому, что я американец.