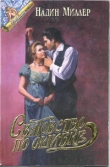Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 49 страниц)
Выяснилось, что, несмотря на все красноречие, Лонги вряд ли мог справиться с Руни, если не придумать что-нибудь сверхъестественное. И Винни придумал: он решил объехать Калабрию с Сицилией и навестить родственников тех, кто работал в нью-йоркском порту. По возвращении он должен был привезти весточки нескольким сотням семей грузчиков. Помимо явной, но действенной мелодраматичности, план обладал еще одним несомненным достоинством. Сотни итальянских грузчиков имели по две семьи – там и здесь, – то есть по две супруги и детей от разных браков. В большинстве случаев это не был обман ни той ни другой жены, тем более что первой по возможности высылались деньги. Первую семью навещать удавалось редко, и то чаще затем, чтобы завести еще одного ребенка. В силу финансовых трудностей поездки совершались всего раз в пять-шесть, а то и более лет. Поэтому, если кто-то привозил вести с родины, грузчики были у него в неоплатном долгу, а что может быть естественнее, чем вернуть долг, отдав на выборах голос за оказавшего тебе услугу кандидата.
Решение Винни отправиться в Италию подстегнуло меня. Америка была страной, где делались деньги, в то время как в Европе, по крайней мере так казалось издалека, рождались идеи. Америка все больше отрывалась от реальной почвы: здесь происходили странные метаморфозы. Так, предприимчивый подрядчик по фамилии Левит строил из прекрасных, относительно недорогих блочных домов два на шесть с двумя ванными и мезонином носивший его имя город, на фоне которого дома старшего поколения выглядели жалкими лачугами. Мои давние друзья, атеисты, и кузены жертвовали деньги на так называемый храм, хотя перед войной нельзя было представить, чтобы кто-то из них еще хоть раз отправился в shul. В Европе же в это время получили известность имена Сартра и Камю, людей, вышедших из французского Сопротивления и теперь самостоятельно, трезво и политически независимо от Москвы осмысливавших сумрак европейских событий. Фашизм умер, и с ним, сколь ни иронично это звучит, умерла моя жизнь, какой она была в сопротивлении фашизму, – я жаждал новых ощущений. Великие начала бытия – инь и ян – взаимодействовали вяло. Италия же в 1947–1948 годах, обладая самой крупной после Советского Союза коммунистической партией, была средоточием мысли о завтрашнем дне Европы, и Винни с его итальянским мог бы мне там очень пригодиться.
Джейн только что пошла в школу, Бобу было и того меньше, путешествие за границу по тем временам было мероприятием достаточно непростым, поэтому стало ясно, что я уеду на три недели один. В расставании с пережитым есть что-то влекущее и дарующее обновление: порыв души в неизвестное требует внутренней сосредоточенности. При этом приходилось экономить, так как особых надежд на то, что я напишу еще одну пьесу, которой будет сопутствовать коммерческий успех, не было. Иными словами, жизнь стреножила меня, и, вырываясь, я устремился, как когда-то на велосипеде в Гарлеме, навстречу будущему.
Самым дешевым способом пересечь Атлантику было отправиться на пароходе «Америка», на две трети пустом и опасно вздымавшемся на разбушевавшихся волнах февральского моря. Я в полном одиночестве плавал в бассейне, воображая, будто это океан и мне таким образом удастся избежать морской болезни, но качка достигла такой силы, что бассейн закрыли, опасаясь, как бы я не разбился о выложенные кафелем стенки. Последние сутки мы провели в баре с Альбертом Шарпом, только что сорвавшим солидный куш за исполнение заглавной роли в «Радуге Файниана». Он получил столько денег, что их должно было хватить до конца его дней, которые он собирался провести в уединении в сельском коттедже в Ирландии. Всю ночь напролет я слушал его ирландские байки, а когда в иллюминаторах забрезжил рассвет, мы поднялись на палубу приветствовать окутанную туманом землю.
Первым впечатлением от Европы был шок по поводу разных мелких несуразностей. Большие бетонные сваи в Шербурге были частично повалены в воду, так что к временному причалу пассажиров перевозили на катере. Причем это были не военные разрушения, что было особенно трудно понять. Я никогда не задумывался, насколько не искушен в жизни, и только теперь это понял. (Схожее чувство я еще раз пережил много лет спустя, когда шел по знакомой улице в Гарлеме среди сожженных и разрушенных домов.) У огромного, вытянутого в длину железнодорожного вокзала, явно девятнадцатого века, была разрушена напоминавшая собор сводчатая крыша из стеклянных перекрытий – на ее месте возвышался слепой остов. Чудовищные следы неприкрытого вандализма, ненависти, злобы не могут не вселять ужас в сердца людей.
С четверть часа молчавший с нами в купе молодой американец вдруг закричал: «Когда же все-таки начнется перестрелка!» Мы – несколько европейцев, Винни и я – смущенно улыбнулись подобной бестактности посреди полного разорения. К числу несуразностей надо также отнести то подобострастие, с которым к нам, Ubermenschen [10]10
Сверхчеловек ( нем.).
[Закрыть], относился проводник, – мы были пупы земли, американцы. Мне это было приятно, хотя, видя, как они смотрят на нас исполненными обиды и зависти глазами, я понимал, что мы этого не заслужили.
Казалось, над Парижем никогда не встает солнце. Зимнее небо напоминало стальной лист, отбрасывающий серый отсвет на руки и кожу лиц. Тяжелая, гнетущая тишина, редкие машины на улицах, случайные грузовики, работающие на деревянных чурках, пожилые женщины на доисторических велосипедах. Кто из них, попадавшихся мне на глаза, сотрудничал с фашистами, а кто с замиранием сердца прятался по подвалам? А что бы делал я сам? В «Министер», кафе напротив гостиницы, я заказал на завтрак апельсиновый сок, поджаренный хлеб и яичницу из двух яиц: женщина-администратор, повар и две официантки вышли в зал посмотреть, как я расправляюсь со столь невиданным количеством еды и, расплачиваясь, достаю из пачки дешевые франки. На консьерже в отеле «Понт Ройял» по улице Дю-Бак был фрак с обтрепанными обшлагами, а мелкие порезы на подбородке свидетельствовали, что при бритье он пользуется холодной водой. Для удобства постояльцев в холле разрешали сидеть голодного вида безвкусно одетой молодой женщине в черных кружевных чулках и в юбке с оторванной подпушкой – она невзыскующе провожала меня взглядом философа. Латунные перегородки на вращающихся дверях и вокруг них отсутствовали, так же как металлические набалдашники и масса других деталей, в пароксизме отчаяния вывезенных немцами в последние месяцы. Раз в день консьерж ездил покормить кроликов на другой конец города и обратно. Кроликами тогда спасались многие.
На улице нельзя было увидеть человека, у которого пиджак с брюками были бы в тон, многие носили на работу шарфы, стараясь скрыть, что у них нет рубашек. Повсюду были велосипеды – то же самое я через тридцать пять лет наблюдал в Пекине: люди гроздьями свисали с битком набитых автобусов, в которых воняло, как в городском транспорте в Каире. Позже многое в Китае, Египте, Венесуэле напоминало мне об этом Городе Света: европейский гений сам себя разбомбил, низведя до уровня того, что еще не получило названия «третьего мира». На тротуарах встречались букеты свежих цветов, они лежали около мемориальных плит на зданиях, где нацисты расстреливали участников Сопротивления – тоже европейцев, в конце концов. Может быть, в 1914-м и в 1939-м здесь разыгрывалось не что иное, как гражданские войны? Скучая по Мэри, я написал ей, что страна напоминает раненого зверя, которому не подняться, – с Францией было покончено. Говорили, что Сартр облюбовал бар «Монтана», но мне не довелось встретить его там. Судя по газетным статьям, в деле устройства новой жизни все надеялись на помощь Америки, как будто у нас было хоть малейшее представление, что делать с этим обреченным континентом. Все это производило гнетущее впечатление: если я собирался строить планы на будущее, надо было возвращаться домой, ибо здесь ничто не предвещало хорошего.
Веркор, основатель издательства «Минюи», где вышел на французском «Фокус», пригласил меня на reunion [11]11
Собрание ( фр.).
[Закрыть]писателей во дворце неподалеку от улицы Риволи. Католики, коммунисты, голлисты, партийные с беспартийными решили восстановить былое единство времен Сопротивления. В огромной парадной зале дворца восемнадцатого века, где сверху взирали офранцуженные бюсты слепого Эроса и полнотелых кудрявых любовников вроде Пирама с Фисбой, поэты и писатели читали стихи, произносились пламенные речи, а государственное радио вело прямую трансляцию с микрофонов. Несмотря на то что собралось человек двести мужчин, женщин и каждый получил по бокалу красного вина, стоять было холодно и ноги примерзали к мраморному полу. Трудно было понять, на что рассчитывали собравшиеся здесь интеллектуалы: «холодная война», набиравшая силу, нанесла сокрушительный удар по их духовному единству и политической терпимости времен оккупации.
Писатель и эссеист Веркор, один из самых прославленных героев Сопротивления, отнесся ко мне крайне дружелюбно и провел по тем улочкам, где развозил на велосипеде газеты и запрещенную литературу, стараясь не попадаться на глаза немцам. Если бы они – тоже ведь европейцы – тогда догадались, чем он занимается, его расстреляли бы на месте. Казалось совершенно диким, что на этих прекрасных парижских бульварах охотились на французов, расстреливая их, как последних подонков. Я снова задумался, как бы сам повел себя в ситуации, когда мораль, литература, политика – все слилось воедино. В гулкой мраморной зале звучали тусклые, скучные речи, а Веркор шептал, что это, пожалуй, последняя попытка восстановить некое подобие единства французской культуры, которую скоро вконец разъест политическая фракционность. Он показал мне Луи Арагона с Эльзой Триоле, Камю, Сартра, Мориака и еще кое-кого из католических писателей. Я видел, что, закончив выступление, люди уходят.
Советский Союз все еще имел огромный авторитет. Считалось, что русская армия спасла Европу от тысячелетнего ига нацизма, и потому в рассказы о сталинском терроре трудно было поверить. Пред лицом этих фактов такие люди, как красавец Веркор, стройный, атлетически сложенный, терпимый, справедливый, умолкали, ибо они ставили под сомнение последние пятнадцать лет антифашистской борьбы. Манихейский мир, где ровный негасимый свет освещал окружавшую тьму, умирал на глазах. Реальность была как старый пейзаж, который висит на стенке, его и снимать не снимают, и смотреть не смотрят. Героизм Советов все еще бросал отблеск на близкое им левое движение. Во время войны, когда Мэри ждала нашего первенца Джейн, она в полузабытьи во время схваток шептала: «О, бедные югославы», – те отчаянно сражались против нацистов в своих заснеженных горах.
Больной Луи Жуве в шарфе и свитере весь вечер, не вставая с кресла, в выстуженном театре играл «Ондина» Жана Жирарду. Чтобы немного согреться, зрители шевелили пальцами ног, дышали на руки, сидели в пальто. Это был еще один трогательный эпизод в истории гибели страны – казалось, тепло никогда не вернется во французский театр, вокруг стояла разруха, чувствовалось, что люди действительно потерпели крушение. Но у Жуве возник какой-то внутренний контакт с залом, который мне никогда не доводилось видеть раньше. Он глубоко индивидуально общался с каждым из зрителей на его любимом языке. Я устал от потока речи и полного отсутствия всякого действия на сцене, но понимал, что язык врачует души, становясь целительнее от того, что люди внимают ему сообща. Это было последнее, что их связывало, единственная надежда. Меня тронуло, как зал тепло принимал Жуве, ибо я привык, что театр сражается со зрителями. Их нельзя было разделить, а ведь он то и дело позволял себе выходить из роли, смакуя тот или иной авторский оборот, за что срывал восторженные аплодисменты. Еще одно поразило меня, хотя тогда показалось очередной несообразностью французов. Игра Жуве была конкретна, реалистична, предметна, но во всем присутствовал какой-то флер, висела призрачная загадочность. От этого каждое слово становилось событием, слово и его переживание. Это произвело сильное впечатление, и я выкинул несколько строк из «Всех моих сыновей», ибо они показались слишком броскими, слишком литературными в пределах новых представлений о естественности.
Не проходило дня, чтобы газеты не пестрели заголовками о плане Маршалла. Оба правительства, английское и французское, негодовали, что Америка окажет немцам материальную помощь и они начнут восстанавливать свою промышленность, не подняв из руин разрушенные фабрики и заводы в Англии и во Франции. Немцы, по-видимому, становились нашими новыми друзьями, тогда как спасители-русские оказывались отброшены в стан врагов. На мой взгляд, это было подлостью. Начинался новый виток – двадцать лет спустя Теодор Адорно, когда мы встретились во Франкфурте, рассказал мне, что в те далекие времена американцы настояли, чтобы из немецких учебников были выброшены все упоминания о Гитлере, и их заменили на новые, без единого слова о нацизме. Этот провал в представлении о собственной истории новое поколение немцев-радикалов еще припомнит Соединенным Штатам.
Со временем я понял, что быстрая смена ярлыков в отношении двух наций, мгновенный сдвиг в понятиях «добро» и «зло» нанесли непоправимый урон пусть абстрактному, но все же лелеемому представлению о порядочности мира. О каком добре и зле могла идти речь, если вчерашний друг сегодня оказывался врагом? С этого момента, лет восемь – десять спустя после смерти Гитлера, отличительной чертой мировой культуры стал нигилизм, хуже того, тупое безразличие к моральному императиву. Что касается меня, хотелось быть с теми, кто не отступил, и вовсе не потому, что я высоко ставил себя, а потому, что был убежден: эстетической формы вне нравственного содержания не существует, так, одна шелуха. Этого нельзя было доказать, но я был глубоко уверен в этом.
Знакомство с Италией началось с бутерброда, который мы купили в лавке на железнодорожном вокзале в Милане, – перченая prosciutto [12]12
Ветчина ( ит.).
[Закрыть]на белой итальянской булке, вкуснее я ничего не едал. Среди итальянцев я чувствовал себя намного проще, чем во Франции, – здесь все казалось как-то не так серьезно.
Прозаик, автор рассказов Эцио Тедеи, писатель-анархист, отсидевший при Муссолини четырнадцать лет в тюрьме, теперь расхаживал по промозглому февральскому Риму в брюках, ботинках и видавшем лучшие времена твидовом пиджаке – ни рубашки, ни носков, ни белья у него не было. Он ночевал на открытом балконе палаццо, где когда-то обитал важный фашистский чин. Потом там поселились с полдюжины бедняцких семей, имевших в общей сложности человек двадцать детей, и с общего согласия они его там разместили. Я настоял, чтобы он взял у меня рубашку, шорты, лезвия, носки, но через несколько дней увидел его все в том же виде – Эцио признался, что раздал вещи тем, кто в этом действительно нуждался. Работал он прямо на балконе, не обращая внимания на бесконечные уходы и приходы окружающих, на шум и возню прямо над ухом. Его красивый стол, за которым он работал, был конфискован из чьей-то гостиной и обладал десятками выдвижных ящичков и отделений, где хлеб и крупы хранились вместе с рукописями Эцио и его драгоценной ручкой «Паркер».
Как-то во время прогулки по Риму я заметил, что во многих домах окна закрыты ставнями, которые скрепляет тяжелая цепь. Он объяснил, что этого требует закон о борделях. Мне очень захотелось зайти, и он повел меня в свое излюбленное заведение. У входа в некогда роскошные апартаменты дворца возвышалась колонна, увенчанная парой бронзовых любовников в порыве экстаза, причем у женщины волосы развевались, как на ветру. Туда, где раньше была большая парадная зала с барочными зеркалами от пола до потолка, вела мраморная лестница, устланная бордовым ковром. С потолка, украшенного богатой лепниной, свисало несметное количество тускло подсвеченного неяркими лампами хрусталя. Вдоль одной из стен расположились человек двадцать пять мужчин всех возрастов: кто читал газету, кто играл в шахматы, кто дремал, кто разглядывал женщин – их около дюжины выстроилось вдоль зеркальной стены напротив, одетых кто в мавританский наряд с кружевными шальварами, кто в белоснежное платье для конфирмации, кто в затрапезную домашнюю одежду, кто в трико с лифчиком, а то и без него; тут были и длинноволосые, и коротко стриженные, и с подколотыми волосами; босые, на высоких каблуках, в сандалиях, уличной обуви, туфлях с блестящими пряжками, сверкавшими, как настоящие бриллианты. Наш век – век лицедейства. Мы с Эцио уселись рядом с мужчинами и стали ждать. Кто-то продолжал играть в шахматы, кто-то сворачивал и разворачивал газету, а женщины стояли, будто на автобусной остановке. На всех лежала печать показного равнодушия. Наконец кто-то, как чайка, что взмывает, отрываясь от стаи, поднялся, не выказывая явных намерений, пересек по паркету залу и подошел к женщине, которая тут же исчезла вместе с ним за дверью, будто пошла помочь примерять обувь. Это подействовало на всех, как на распродаже старой одежды. Я вспомнил Чехова, который писал, какое отвращение испытывал к себе после того, как однажды посетил подобное заведение. И свое собственное ощущение пустоты и отчужденности, когда брат с приятелями впервые взяли меня с собой на квартиру на Аппер-Вест-Сайд. Здесь же у меня не было никаких неприятных чувств. Тедеи посмеивался, как горделивый владелец одной из самых необыкновенных достопримечательностей родного города. Было видно, что секс, по крайней мере теперь, после двадцати пяти лет фашистского правления и жуткой войны, занимает людей много меньше, чем пропитание, крыша над головой и одежда. Женщины такого рода были необходимы, и им отдавали должное, как предмету первой необходимости, не более того. Чувственная потребность входила в круг жизни, погрязшей в нужде. Добывание пищи, поддержка семьи, дружба, человеческая солидарность – все слилось, что отразили великие неореалистические фильмы послевоенного итальянского кино, о которых тогда еще не было речи, – «Открытый город», «Похитители велосипедов» и другие. В 1948 году Италия не знала проблем перепроизводства, уж не говоря об избытке товаров, связанном с ростом притязаний непомерного эго. В запыленной бальной зале все стыдливо отдавали должное человеческой природе, и это было целомудренно.
Я зря уповал, что будущее западной цивилизации станет яснее, если из Бруклина перебраться в Европу. Хотя Итальянская коммунистическая партия была, пожалуй, самой большой на континенте, она ненавязчиво советовала избирателям отдать на выборах голоса за христианских демократов, ибо на русских надеяться нечего, а если победят красные, американцы прекратят поставки продовольствия и придет голод. Я жил тогда еще в тисках апокалипсического представления об истории, и приходилось настойчиво повторять себе, что люди в толпе и те, кого мы встречаем, отнюдь не невинные жертвы муссолиниевской глупости и чванливого честолюбия, но в своем большинстве поддерживали фашизм или по крайней мере не оказывали ему сопротивления. Таких, как Эцио Тедеи, было на удивление мало. Когда он представлял опасность, его изолировали, но даже теперь, в преддверии революции, признаков которой еще не было видно, производил впечатление человека в высшей степени простодушного, если не наивного.
Вокруг Рима существовало так называемое кольцо, где в полутемных землянках, вырытых в стенах обрывов и отрогах холмов, ютились тысячи бездомных семей. Мы поднимались наверх к живым скелетам, которые обитали среди собственных нечистот, таская ведрами воду откуда-то издалека снизу. Кое-где из землянок открывался вид на новые жилые дома, которые росли по ту сторону шоссе, в то время как здесь февральский дождь хлестал людей по лицам. Это был Рим «Похитителей велосипедов». Едва ли можно было предположить, что через сорок лет в Нью-Йорке окажется бездомных больше, чем в послевоенном Риме. И я, как и все, примирюсь с этим, считая подобное не катастрофой, но печальными издержками жизни величественного Нью-Йорка, самого необыкновенного города в мире.
К югу от Фоджи над мэриями нередко развевалось красное знамя, и во время наших с Лонги бесед с крестьянами те частенько вытаскивали из-под кровати карты местных латифундий и показывали, как коммунисты разделят землю, стоит им победить на выборах. Наделы были расписаны по именам, а границы, которые, водя по карте заскорузлыми пальцами, радостно очерчивали крестьяне, были четко обозначены. Исколесив в ту зиму через три года после войны вдоль и поперек всю Италию, я неожиданно поймал себя на мысли, что ни разу не видел толстого итальянца. Куда подевались дородные мамаши и упитанные папаши? С ними было покончено. Нас нередко спрашивали, нельзя ли Италии стать сорок девятым штатом Америки, причем в вопросе не было никакой иронии.
И все-таки жизнь здесь текла веселее, чем во Франции, своей энергией итальянцы напоминали сорняки, которые растут, невзирая на обстоятельства. В небольшом городке на юго-востоке тетушка Винни, Эмилия, учительница и старая дева, которой перевалило за пятьдесят, ежедневно около четырех отправлялась на центральную площадь послушать у громкоговорителя очередное выступление христианских демократов, транслировавшееся из местного центра Фоджи. Из громкоговорителя напротив одновременно пламенно вещали из Рима коммунисты. Какофония стояла невообразимая. Эмилия, человек по натуре пылкий, прямой, всячески старалась, чтобы народ собирался у столба, где держали речь демократы, причем желательно, чтобы стоя спиной к столбу, откуда неслись призывы коммунистов. В половине шестого оба динамика умолкали – наступала пора вечерней прогулки. Ряды политических соперников таяли, и на площади появлялась праздная публика, совершая, как и тысячу лет, променады по кругу; молодежь на выданье останавливалась и болтала, оглядывая друг друга, как пингвины. Эмилию поразило, что я еврей. Оказывается, она считала, что их давно не существует, и не потому, что они подверглись массовому истреблению, которому тогда еще не подобрали названия, а просто в ней сидело смутное ощущение, что после смерти Христа все евреи обратились в новую веру или растворились на страницах Библии. «Но вы ведь, конечно, верите в Христа». – Она ободряюще улыбнулась. Я не мог сказать ничего утешительного – казалось, ужас промелькнул в ее набожных глазах, хотя мы вскоре снова вели дружескую беседу. Она полагала, в жизни есть нечто непознаваемое, а я исходил из всевластия человеческого разума.
Как-то днем, остановив и без того не очень оживленное движение, по улице прошел крестный ход. Пережидая, пока мальчики-певчие пронесут позолоченный крест и фигуру святого, я подумал, так ли уж далеко отошла в прошлое былая жизнь, как многие полагают. Склонив голову и прижав шляпу к груди, перед нами стоял мужчина средних лет, и, когда процессия миновала, Лонги вежливо спросил его, по какому поводу торжества. «А черт его знает», – ответил тот, надевая шляпу, и поспешил на другую сторону улицы. Такой мне тогда открылась Италия: трогательный спектакль в соединении с циничной шуткой. Французы намного ближе к сердцу принимали то, что произошло со страной, как будто кто-то обманул их с победой или мучила совесть за пособничество фашистам. Итальянцы, похоже, понимали, что немного переборщили с Франко, но в любом случае больше ценили жизнь, чем смерть.
Совсем иную процессию можно было наблюдать около пяти вечера у прекрасного волнолома в Мола-ди-Бари на Адриатике, как раз под каблуком сапога. Лонги приехал сюда навестить несколько семей портовых рабочих и ходил по домам – своего рода Красный Крест в одном лице, – передавая новости из Бруклина, записывая, сколько ребятишкам лет и как поживают жены. Все знали, что в Америке существуют «другие» семьи, однако никто об этом не говорил. Женщины бились в тисках экономической нужды, но если некоторые из них были измучены и в возрасте, то попадались такие, которым было под тридцать. Их по-женски исполненные страха глаза кричали, что они боятся, как бы их не бросили. Винни как нельзя лучше подходил для взятой им на себя роли, мало чем пренебрегая в попытке ободрить женщин. И они платили ему восхищением – такому непривычно высокому среди итальянцев и откормленному хорошей, здоровой пищей.
В тот день около пяти мы увидели на набережной необычное скопление одиноких мужчин, которые размеренно прогуливались, порой держась за руки. Однако по виду мало походили на итальянцев. Одетые в темные, по нью-йоркской моде, пальто и серые шляпы с загнутыми полями, они были в белых, застегнутых на все пуговицы рубашках без галстуков и остроносых, на тонкой подошве, до блеска начищенных городских ботинках. В кафе с видом на море мы подсели за столик к четверым, которые пили кофе. Сначала они разговаривали по-итальянски, но хитрая усмешка Винни заставила их понимающе улыбнуться, и они с облегчением перешли на бруклинский диалект. Они здесь просто пережидали, эти «мальчики» из Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелеса, во избежание судебных преследований вынужденные бесцельно любоваться на восходы и закаты. Прекрасная, но утомительная ссылка тянулась до тех пор, пока их боссы не договорятся между собой, и тогда дорога в Штаты будет снова открыта.
Италия вдохновляла взяться за пьесу, которая вертелась в голове, – «Вид с моста», – но я не был уверен, достаточно ли чувствую эту жизнь, дабы позволить себе писать об итальянцах. Единственное, что я понял, – Америка и Европа по-разному относились к родовым связям. Европа была полна родственников, тогда как Америка потеряла интерес к кровным узам. В Риме Винни счел своим долгом нанести визит двоюродному брату, капитану армии, который работал в верхнем эшелоне военного ведомства Италии. У входа в своего рода Пентагон нас встретила традиционно одетая в высокие ботинки с белой перевязью, в белых перчатках охрана, стоявшая по-балетному разведя крест-накрест ноги. Каждый крепко сжимал перед собой винтовку. В небольшом справочном бюро Винни поинтересовался, нельзя ли ему повидаться с капитаном Франко Лонги, однако дежурный за тонкой перегородкой извинился, что вынужден отказать, ибо без предварительной заявки они никого не пускали.
– Капитан Лонги мой кузен.
Ни один мускул не дрогнул на лице человека за перегородкой.
– Ваш кузен?
– Да, я приехал из Америки, из Бруклина.
– Ах, из Бруклина!
Он схватил телефонную трубку, и мне показалось, его глаза увлажнились. Через минуту мы были в лифте, при выходе из которого нас уже встречали три-четыре полковника, два генерала и секретарши. Сложив под подбородком руки, они с умилением наблюдали, как капитан Лонги обнимает Винни, – итальянцы легко делятся на актеров и зрителей. И это в самом центре военного ведомства Италии. В течение получаса братья обменивались семейными новостями: кто умер и в каком сражении, кто по возрасту, кто по болезни. Наконец генерал приказал капитану отвести нас пообедать и за салатом спросил, нет ли у Винни случайно своего человека в «Паркере», в американской компании по производству ручек: если что и пользовалось в Италии в 1948-м огромным спросом, так это прекрасные ручки «Паркер». В Неаполе наладили местное производство, но люди быстро разобрались, что к чему…
«Так наступает конец света», – вертелось у меня в голове, когда мы шли по набережной Неаполя, вдоль которой лежали поваленные в воду либо вывороченные во время бомбежки фонарные столбы барочного вида, а напротив, зазывая несуществующих посетителей, сверкали огнями рекламы гостиниц. Молоденькие проститутки, болтая, семенили группками, скользили рукой у нас между ног и хохотали, обзывая слабаками, когда мы отклоняли их предложения. Днем по многолюдным улицам у гостиниц фланировали женщины с корзинами белья на голове. Они навострились молниеносно срывать с прохожих шляпы, которые тут же засовывали в корзину, а человек в поисках исчезнувшего на глазах головного убора продолжал беспомощно озираться. Как-то я сидел в пролетке, поджидая, пока Винни поменяет деньги в ближайшем банке, когда ко мне подошел молодой парень и начал буквально из-под ног вытаскивать чемоданы, как будто мы с ним договорились. Я что-то сказал по-английски, он понимающе взглянул на меня и продолжал свое дело, пока я не ударил его по рукам каблуком. Тогда он еще раз посмотрел на меня, пожал плечами и пошел, как будто ничего не произошло. Это был еще один спектакль.
Стоит ли говорить о непристойных неаполитанских анекдотах. Приходской священник заглянул к одному из своих прихожан. На второй этаж тянулась длиннющая очередь соседей, с каждого из которых хозяин брал по центу, допуская в спальню посмотреть на свою юную незамужнюю дочь, которая родила чернокожего ребенка. В Неаполе были расквартированы американские войска, среди солдат попадалось немало негров, поэтому черный ребенок у белой женщины был явлением скандальным, но в то же время необычным, сродни чуду. Священник, конечно, возмутился. «Очень плохо, что ваша дочь не венчана, но еще хуже, что вы потеряли всякий стыд, набравшись наглости наживаться на ее несчастье!» На что незадачливый папаша, отозвав проповедника в сторону, прошептал: «Не бойтесь, падре, это не ее ребенок».
С Италией было покончено. На выезде из Рима на заднем дворике располагался импровизированный ресторанчик с четырьмя-пятью хромыми столиками и зазывной рекламой: «Входите! Ешьте! Здесь еще никто не умирал!» Больше всего люди ценили, что выжили, а не умерли – некая аристократия уцелевших.
Совсем иной тип уцелевших обитал на продуваемой ветрами набережной Мола-ди-Бари. Мэр города рассказал нам, что в роскошных виллах на Адриатике, которые были построены ныне бежавшими или угодившими за решетку видными фашистскими чинами, проживали ebrei, евреи из немецких концентрационных лагерей. Винни разузнал, как туда попасть, о чем итальянцы говорили крайне неохотно, особенно с чужими, ибо англичане давили на правительство, чтобы оно запретило евреям из концлагерей въезд в страну или по крайней мере не выделяло средства для транспортировки в Палестину. Поэтому жители Мола-ди-Бари и Бари делали вид, что ничего не знают. Мы отправились туда вечером. Сотни беженцев ютились в двух десятках просторных палаццо, причем даже в коридорах люди жили чуть не на головах друг у друга. Войдя, я испытал чувство, которого не доводилось переживать, – в воздухе была разлита атмосфера враждебности, возникало ощущение, будто тебя нет или ты прозрачный. Женщины прятали глаза, делая вид, что занимаются ребятишками, мужчины и подростки проходили мимо, будто ты невидимка. Я понимал, что стоит сделать одно неосторожное движение, и от меня останется мокрое место. Подойдя к двум небритым, но опрятным парням, смотревшим на меня с нескрываемым опасением, я постарался объясниться с ними на английском. Винни перешел на итальянский, наконец, я вспомнил несколько слов на ломаном идише вперемежку с немецким и пожелал им всего наилучшего, признавшись, что сам еврей. Их не интересовали мои проблемы, а я ничем не мог им помочь. Они мечтали только попасть на корабль, отплывающий в Палестину, и навсегда покинуть европейское кладбище. Их недоверие, как кислота, брызнуло мне в лицо: я обращался к обуглившимся головешкам, железной окалине, скелетам с глазами. Долгие годы ушли, чтобы понять, почему я не бросился разделить их участь, ибо они были прямые жертвы катастрофы, которую я как писатель различными способами всю жизнь пытался предотвратить. Когда я вспоминаю этих не нужных ни одному цивилизованному государству людей на темной веранде, в ожидании корабля неотрывно смотрящих на горизонт и знающих, что их присутствие нелегально, а британские дипломаты угрожают нажать, у меня исчезает ощущение собственного тела, как будто я отрекаюсь от самого себя, и вновь возникает стыд, что я не понял, насколько мы родственны.