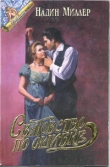Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 49 страниц)
Но к тому времени, когда завершение съемок было не за горами, возникли куда более важные проблемы, чем карьера. Стало ясно, что ее преследует чувство вины за то, что она не может быть мне полезна; я испытывал то же самое чувство, ибо не смог серьезно повлиять на ее жизнь, хотя она иногда и утверждала обратное.
Единственным утешением оказалась моя давняя приятельница по колледжу Гедда Ростен, жена Нормана, поэта и драматурга, который тоже когда-то учился в Мичигане. Она взвалила на себя обязанности секретаря Мэрилин, и, хотя временами на нее нападала поэтическая рассеянность, в силу своей любви она умудрялась со всем справляться. Задолго до подъема феминизма Гедда увидела в Мэрилин олицетворение жертвы мужского шовинизма, а также ее собственных разрушительных склонностей. Гедда вышла замуж без большого желания, хотя и по любви, ибо всему предпочитала одиночество с кофе и сигаретами, когда шелк времени струится по ее ладони спокойно, как восход или закат. «О дорогая, разве все это стоит того?» Мэрилин в ответ растерянно и грустно улыбалась, ибо обе они, как никто другой, понимали, сколь безысходна женская доля. Наедине со мной Гедда выступала как общественный сотрудник психиатрического приюта в Хартфорде, сомневаясь, что успехом в кино Мэрилин удастся компенсировать нанесенные жизнью раны. «Ей все время приходится изображать то, чего она сама для себя в жизни еще не решила». Нас с Геддой связывало редкое взаимопонимание, которое даруется близким по духу людям, и объединяла тяга к одиночеству – молчание было для нее и для меня средой обитания, поэтому мы могли находиться в обществе друг друга, почти не разговаривая, и в то же время все равно общаться.
– Вы оба глубоко виноваты, – обронила она как-то днем, когда мы пили чай в музыкальной комнате.
– Но почему?
– Оба мыслите одинаково.
– Что это значит?
– Каждый из вас не может принять то, что, с его точки зрения, не заслужил. Вы перечите друг другу, когда, казалось бы, все прекрасно, и тем самым наказываете себя. – Она вздохнула, как большой знаток в вопросах самоистязания, встряхнула светлыми волосами и рассмеялась. Это была красиво сложенная женщина, которая хранила невинность лет до двадцати пяти, а я оспаривал ее глубокую наивность, которая выглядела как осуждение моих попыток вести ее к победе над поражением. «О Боже, Артур, чего нам всем не хватает для жизни?» Гедда, урожденная Ядвига Ровински, часто рассуждала, как чеховская героиня. Она была из тех, с кем хорошо находиться рядом, хотя было известно, что она берет на себя только горе. Прошло много лет, и она умерла от сигаретного дыма, который с таким упоением вдыхала, а узнав об угрозе, не поверила, что это может погубить ее.
Порой наступали тревожные моменты, когда нельзя было определить, насколько адекватно восприятие Мэрилин. Однажды днем посреди всеобщего шума и гама, в краткий перерыв между съемками, незабвенная Сибел Торндайк, величайшая актриса нескольких десятилетий, обронила: «Эта малышка единственная по-настоящему знает, как вести себя перед камерой». Будто освещенные вспышкой, все подозрения Мэрилин рассеялись, попытки углубить незатейливую роль оказались достойными похвалы и оправдания, и вся беда была в том, что ее окружали сплошные посредственности и мелкие завистники, чтобы не сойти с ума, повторявшие: «Достаточно. Больше не надо». В этот момент показалось, будто я вижу актера, который, вместо того чтобы говорить мой текст, перефразирует его, и я вспомнил, что когда-то это уже чуть было не довело меня до белой горячки, как будто тебя окатили презрением, наступили на горло и над тобой хохочут идиоты. Пережив ее горе как свое, я смог, исполненный раскаяния, сесть рядом с ней и снова надеяться, что нам удастся все преодолеть и обрести внутреннее согласие. Блуждая в этой кромешной тьме в поисках чего-то реального, нетрудно было сойти с ума. Однако реальность вспыхивает, как птица, появляясь на ветке после долгого и утомительного перелета, а отнюдь не сгущаясь, как фантом, из воздуха.
Большое разнообразие в нашу жизнь вносила толпа репортеров, неотступно дежуривших у ворот около дома, то и дело курсирующих в сторону уютного сельского кабачка, находящегося неподалеку. Если в технике англичане заметно уступали американцам, а затем немцам и японцам, то этого нельзя было сказать об их журналистике: в газетах мы выглядели героями из романа нравов, ведущими между собой чинные беседы. Это была чистейшая фантазия авторов – безобидная, беззлобная идиотическая болтовня, появлявшаяся на страницах раза два в неделю. То я спасал Мэрилин от опасного падения с велосипеда, то Мэрилин в пол полосы наставляла венгерскую прислугу, как делать тосты, чтобы не пригорали, по ходу советуя изменить прическу.
Но как-то утром в газете промелькнул разговор, состоявшийся между нами несколькими днями раньше, причем почти дословно. Было жутковато читать отдельные бессмысленные реплики, которыми мы действительно обменялись. Неужели нас кто-то подслушивает? Неужели, устроившись в кабачке, кто-то удачно настроился на нашу волну?
Я поделился своими сомнениями с Ларри, и в доме появился агент Службы безопасности с киностудии, высокий, в плаще, с усами, в грубых башмаках и с раскатистым «р», характерным для Северной Англии. Не представившись венгерской чете и не снимая плаща, он устроил им в гостиной допрос, сверля леденящим взглядом. У меня все похолодело внутри при первых звуках его рыкающего голоса, в то время как он цедил сквозь стиснутые зубы, сохраняя усмешку, оттенявшую кровожадный блеск глаз.
Он начал без обиняков:
– Ближайший рейс на Будапешт в четверг. У вас временный вид на жительство и нет паспортов. Я обещаю, вы улетите на этом самолете и больше никогда не увидите Англию.
Побелевшие от страха супруги испуганно замерли с широко открытыми глазами. Он повернулся к мужу, который обычно обращался к нам очень вежливо, даже робко:
– Сколько вам заплатили, чтобы вы предали господина и госпожу Миллер? – Его душила ярость, раскаленным ветром дохнувшая венграм в лицо.
– Мы не могли знать…
– Не лги, подонок!
Я было решил вмешаться, поскольку не имел оснований их в чем-либо подозревать: полицейский их просто запугивал, выжимая признание. Но, энергично поднявшись с места, он вдруг мило улыбнулся мне, как воспитанный человек:
– Я думаю, это больше не повторится. – И, повернувшись к ним, обронил: – Или я не прав?
– Да, сэр, – в один голос проговорили муж с женой, радостно сделав неожиданное, хотя и вынужденное признание.
– Сколько вам заплатили?
– Пять фунтов, сэр, – недрогнувшим голосом ответил муж, хотя брюки на нем ходуном ходили.
– Что вы еще успели наболтать?
Женщина решила разрядить обстановку:
– Да ничего особенного, только…
– Вы у меня поговорите! Чтоб никаких «только»!
Она испуганно уставилась в ковер.
– Что еще может появиться в печати?
– Ничего, – сказал мужчина, но уже с отчаянием.
– Отлично. Пойдите к воротам и скажите, что, если хоть одно слово из ваших сообщений просочится в печать, вы в четверг вылетаете в Будапешт. Вопросы есть?
– Нет, сэр. Я сейчас пойду и скажу.
Больше в прессе не появилось ни слова. Меня поразил неожиданный переход полицейского от ярости к изысканной английской вежливости. Воистину империя должна была просуществовать не одно столетие, чтобы для ее охраны сложилась такая порода людей.
Почта ежедневно прибывала сумками, и это давало уникальную возможность взглянуть на английское общество. Кинозвезда такой величины, как Мэрилин, конечно, не может быть обыкновенным человеком, да разве определишь, кто она есть, если не обратиться к сверхъестественному; в воображении зрителя она не что иное, как своего рода воплощение всех ожиданий, и потому богоподобна. Публика выставляет ее под солнцем, стремясь сфокусировать лучи так, чтобы время остановилось, и ощутить ее жизнь как свою. Кто-то обращался к ней в письмах, как в учреждение, конфиденциально, прося денег на операцию, на выплату закладных, на образование. Могла прийти посылка с фекалиями или изношенная садовничья шляпа, которую ей завещал старый обожатель, любитель роз, находясь при смерти. И всегда эти вечно озадачивавшие вопросы о сексе и о замужестве. Около пятнадцати процентов из них были совершенно невинными, но иногда ей предлагали свои услуги, когда бесплатно, а когда и за мзду. Какой-то мужчина приглашал встретиться с ним и его «мальчиками» в шахте, другой звал на рыбалку на озеро в Шотландии. Пожалуй, наиболее проникновенные письма приходили от разочарованных женщин, которые хотели узнать, как им стать такими же неотразимыми, «как и вы», как будто она была фея, вся сияющая и прелестная, которой достаточно коснуться их кончиком волшебной палочки, как Билли Берк из «Волшебника Изумрудного города». Мэрилин редко пребывала в спокойном состоянии духа, чтобы просматривать мешки с письмами, поэтому Гедда показывала ей только те, которые могли растрогать или обрадовать ее, придумывая ответы, которые Мэрилин по собственному настоянию подписывала сама.
Но Гедда начала уставать от своих обязанностей. Причем не только потому, что Мэрилин становилась все нетерпимее к ней, но и потому, что ей было слишком больно видеть, как близкий человек постоянно пребывает в раздражении. Похоже, наступил момент, когда Гедда отказала ей в безоговорочной поддержке, которую оказывала. Она случайно обронила по поводу раздосадовавшей Мэрилин мелочи: «Ты думаешь, Ларри именно это имел в виду?» И почувствовала, что ловушка захлопнулась: отказываясь поддерживать каждую мысль Мэрилин, она рисковала, что ее обвинят в предательстве, и все-таки из принципа не могла больше разделять нездоровые иллюзии близкого ей человека. Она уехала домой до окончания съемок, но Мэрилин на всю жизнь осталась для нее поэтическим существом, воплощением сияющей женственности, чья власть над воображением мужчин радостно переживалась ею как месть за несправедливый удел всех женщин. «О дорогая, – говорила она, мечтательно глядя на Мэрилин в новом платье и поймав ее безукоризненно отточенную позу, – у тебя есть все!» – оставляя в стороне вопрос, почему та не могла быть счастливой. Но Мэрилин понимала, о чем она говорила, и обе хохотали, безнадежно покачивая своими светлыми головками в объятиях друг друга.
Казалось, я не мог ступить шагу, чтобы не ущемить интересы того или иного правительства: на этот раз канцелярия лорда-камергера сообщила, что пьеса «Вид с моста» не может быть поставлена в английском театре, поскольку Эдди Карбоне обвиняет двоюродного брата жены в гомосексуализме и в подтверждение, крепко обняв его, целует в губы. Несмотря на то что гомосексуализм был широко распространен, он все еще воспринимался как нечто запретное, и в 1956 году о нем нельзя было открыто говорить со сцены.
Этот конфликт мгновенно разрешил Бинки Бомонт, глава «Эйч-Эм Теннент», одной из наиболее активных и процветающих лондонских фирм по постановке театральных пьес, приняв не просто изысканное, но весьма выгодное, по крайней мере для него, решение. Частному театральному клубу по закону предоставлялись почти неограниченные свободы. И он тотчас превратил обычное коммерческое предприятие Театр комедии в Клуб театральной комедии, отчего цены на билеты возросли процентов на сорок, поскольку зритель непременно должен был стать сначала членом Клуба. Даже Бобу Уайтхеду, американскому сопродюсеру пьесы, не пришло в голову требовать свою долю с новой цены, пока об этом не стало уже поздно говорить. Когда он сообразил, Бинки ответил одной из своих улыбок, которых у него была уйма в запасе, – той, что я называю «английский проказник», – и отказал и Бобу, и моему агенту, настаивавшему на отчислении процентов в мою пользу. Бомонт был мне симпатичен своим безудержным честолюбием: что бы он ни финансировал, спектакль или концерт, это всегда должно было быть блестяще. Для него существовал только один зритель, и никакого многообразия человеческих пристрастий: как в елизаветинские времена, главное было завоевать его. На переговорах он всегда занимал жесткую позицию, но, похоже, любил театр, хорошие пьесы и понимал толк в актерской игре, стремясь, чтобы это тоже было выдержано на уровне. Бывало, он месяцами запускал по понедельникам в работу по новой пьесе, так как его труппы были разбросаны по всему городу. Когда я сделал ему комплимент, заметив, что нас привезли на премьеру в роскошных «роллс-ройсах», он обрезал: «Они из проката» (вне всякого сомнения, для того, чтобы прекратить всякие разговоры о процентах). Как продюсер он мог сказать «да» и запустить пьесу без предварительных консультаций – один из последних могикан, у которого были не только деньги, но и вера в собственный вкус. Ему, конечно, весьма повезло, ибо англичане были лучшие зрители в мире.
Прослушивание актеров для пьесы «Вид с моста» проходило в театре, тыльной стороной выходившем на овощные ряды Ковент-Гардена. Сидя около Питера Брука, я с трудом выслушивал, как актеры, только что, казалось, окончившие Оксфорд, старательно выговаривают на итало-американском бруклинском диалекте жаргонные словечки. И в какой-то момент не выдержал и, от отчаяния, предложил Питеру поискать нужные нам типажи в рабочем квартале позади театра, поговорив с уличными торговцами.
– Неужели мы не найдем какого-нибудь сына бакалейщика, который хотел бы стать актером? – спросил я его.
– Это и есть сыновья бакалейщиков, – ответил Питер, показав на группу молодых джентльменов, ожидавших своей очереди у края оркестровой ямы, – просто они уже разучились говорить на своем языке. Герои пьес в основном – выходцы из среднего класса, да и пьесы пишутся только про них.
Та же ситуация почти через тридцать лет повторилась в Китае, когда я настоял, чтобы актеры, занятые в моей постановке «Смерти коммивояжера», не пытались маскировать свою национальность западными париками и гримом. Поначалу они были даже несколько обескуражены тем, что им предложили отойти от привычных условностей театра, далекого от реальности жизни. Китайцы шли в театр, чтобы окунуться в поэзию, музыку, интерпретацию, а вовсе не за имитацией действительности.
Поскольку у Энтони Куэйла, Мэри Юри и других актеров не было возможности освоить сицилийско-американский акцент, они заговорили между собой на жаргоне, о котором на земле никто слыхом не слыхивал. Однако английский зритель ни на минуту не усомнился, что он слышит подлинную бруклинскую речь. Любопытно, что актеры и сами уверовали в это, а я не стал их разубеждать, ибо отчеканенный ими язык вкупе с манерой игры создавали особый условный мир, внутренне оправданный и глубоко убедительный, даже если это едва напоминало бруклинский порт, а может, и вовсе не напоминало. Брук поставил «Вид с моста» как героическую пьесу большой эмоциональной силы. Типажи рабочих были выведены реальнее, чем в жизни, величественно и неординарно. Действие начиналось сценой на улице в Ред-Хуке, у кирпичной стены доходного дома, которая раздвигалась, открывая квартиру в подвальном помещении, над которой лабиринтом вилась пожарная лестница, то исчезая, то появляясь на заднике за фасадом здания. В финале на нее из всех квартир выходили соседи – хор – и Эдди взывал к ним, к обществу, к своей совести, ища поддержки. Сцена, в которой стена трехэтажного здания расчленялась на две половины, вселяла трагический ужас и вырастала до размеров катастрофы-мифа.
Еще одна вещь поразила меня во время работы. Когда на сцене были установлены декорации, Питер пригласил в зал с дюжину жен рабочих сцены с детьми, которым их мужья с гордостью демонстрировали и объясняли механику перемены декораций. Особенно понравилось, как раздвигалась стена дома; родные охали и ахали. Я никогда не видел, чтобы в Нью-Йорке рабочие сцены когда-нибудь проявляли столько энтузиазма, поэтому и результаты были другие. У нас все решали деньги.
По тем временам это была экзотическая для Англии пьеса; театр был благонравным и беззубо-вежливым. Пресса восприняла пьесу весьма благожелательно, к тому же она разбудила театральную общественность, и через несколько недель в театре «Ройал Корт» состоялось большое собрание, участники которого говорили о необходимости изменить состояние английской сцены.
Я не предполагал, что большинство вопросов будет задано мне, ибо на сцене присутствовало несколько выдающихся актеров и режиссеров, не говоря о местных знаменитостях вроде Коллина Уилсона, повстанца и бродяги, а также Кеннета Тайнена, лучшего критика тех лет, если не всего послевоенного периода. В пятидесятых – начале шестидесятых годов Англия, оглядываясь на Америку, уповала вдохнуть жизнь в свой театр – малоизвестный факт, в предании забвению которого преуспели американские критики, особенно из академических кругов.
Из зала неотступно задавали один и тот же вопрос – почему английский театр такой скучный. На мой неискушенный взгляд, исходя из опыта наших обескураживающих читок, я мог предположить, это связано с тем, что материал и темы сводятся исключительно к жизни среднего класса, причем все фильтруется с точки зрения благопристойности и добропорядочности, будто из-за плеча постоянно выглядывает здравый смысл. Появление «Оглянись во гневе» свидетельствовало, что наметилось какое-то оживление. Несмотря на свою оригинальность, революционные пьесы в английском театре появились на двадцать лет позже, чем на американской сцене, где им приходилось преодолевать те же барьеры обывательских представлений. Обращение к американским ценностям, интерес к американскому обществу с незапамятных времен, с О’Нила в двадцатые годы, хотя его и не всегда воспринимали как критика общества, знаменовали серьезность нашей драмы. Одним словом, английский театр заставил меня задуматься, не являлась ли его забывчивость собственных социальных мифов удобной формой существования.
Позже, когда я вернулся к этим мыслям, проблема представилась сложнее – необходимо было сделать скидку на классовость и кастовость общественной системы. В 1956 году, когда в Лондоне шла «Смерть коммивояжера» с Полем Мьюни, я как-то днем оказался в Палате общин и с пустой галереи для посетителей разглядывал, как Уинстон Черчилль и Энтони Иден, в то время находившийся в оппозиции лейбористам, с передней скамьи взирали с этаким аристократическим превосходством на единственного в Палате общин коммуниста, Уилли Галлахера из Клайда, который держал речь, засунув руки в карманы помятых брюк, так что большие пальцы торчали вперед. Выступление Галлахера достигло кульминации, когда я услышал, как Черчилль, не пошевелив зажатой во рту сигарой, достаточно отчетливо прорычал sotto voce [18]18
Вполголоса ( ит.).
[Закрыть]: «Вынь руки из карманов, парень!» И Галлахер не устоял – за что, наверное, долго презирал себя позже. Это был разговор с классовых позиций, и он не смог ослушаться. Подобного я никогда не видел в Америке, где невозможно было себе такое даже вообразить – и окрик, и реакцию на него.
Театральное собрание проходило в воскресенье вечером, Мэрилин сидела в первом ряду. До этого я никогда не видел, чтобы профессионалы общались с ней как с равной; все были заняты серьезными вопросами, и никто не глазел и не говорил колкостей. Я не знал, как она отреагирует на такое спокойное восприятие собственной персоны, но на обратном пути, сидя за рулем машины, подумал, что если мы когда-нибудь заживем нормальной жизнью, то, пожалуй, нам будет неплохо вместе. Она тихо сидела в машине, погруженная в свои мысли. То, что известность лишает возможности непритязательного общения с простыми людьми, остается незаживающей раной. Дома в Роксбери все быстро привыкли бы к ней и едва ли относились иначе, чем к остальным.
Будучи приглашены, точнее, настойчиво званы на премьеру фильма, где должны были присутствовать королева и ее окружение, мы ехали в сопровождении двух машин – впереди и сзади – лондонской полиции без опознавательных знаков и с переодетыми в штатское сотрудниками Скотланд-Ярда, сидевшими рядом с шоферами. Мэрилин была в умопомрачительном платье красного бархата, пригнанном по фигуре так, что она едва могла в нем сесть. Чуть раньше, дома у Оливье, она тепло шутила с ним, забыв о долгих месяцах конфликта, и он был совершенно очарован ею. На блюде, стоявшем на камине, лежало штук пятьдесят открытых устриц, и я поглощал их стоя, радуясь, что у нас еще есть время перед отъездом на прием.
Королеве, принцу Филиппу и принцессе Маргарет представили в зале человек двадцать знаменитостей. Рядом со мной оказалась щупленькая, застенчивая девушка с подхваченными в хвост на затылке длинными волосами, и я расслышал ее имя: Брижит Бардо. Королева появилась в ослепительно сиявшей бриллиантами тиаре – политический театр в театре. Мы все приняли участие в церемониальной игре, она протягивала руку, мы благодарно улыбались, кланялись, приседали. Мир подобен театру – это не метафора, а реальность; в данном случае это проявилось в ритуальных формальностях, регулировавших каждый шаг согласно прецеденту и этикету.
Лет тридцать спустя, когда я в Центре Кеннеди ожидал, чтобы выйти на балкон для почетных гостей, все было совсем по-другому. В зал вошли, широко улыбаясь, президент и госпожа Рейган; начав обмениваться рукопожатиями с приглашенными знаменитостями – Исааком Стерном, Денни Кей, Линой Горн, Хуаном Карлом Менноти – и нашими женами, Рейган по ходу дела дал совет, как быть, когда за короткое время надо пожать сотни рук, чем он в этот день и занимался. Видимо, он с кем-то не договорил на эту тему и теперь, продолжая оборванный разговор, заставил меня вытянуть руку так, чтобы, обхватив ее, с внутренней стороны нажать указательным пальцем на мое запястье. Это давало ему возможность высвободить свою руку в любой момент. «Черт знает, что делать, когда все хотят с тобой поздороваться, особенно пожилые дамы, – рассмеялся он. – Эти могут просто на колени поставить». Это был иной мир, хотя не менее театральный, и раскрепощенная непосредственность американских манер контрастировала с обхождением королевы. Она вызывала намного больше восхищения – этот восторг, даже триумф, будучи сферой ее работы, позволял судить, сколь мало иных занятий выпадало на ее долю.
Во время съемок бывали недели, когда все шло хорошо. Я садился на велосипед и отправлялся за десять миль в Шеппертон, чтобы успеть в студию к концу рабочего дня и увидеть, как Мэрилин смеется и шутит с актерами. Ларри казался более озабоченным и не таким счастливым. Я перестал вести счет времени, надеясь, что, как только фильм будет упакован в коробку, мы начнем новую жизнь. Мне пришлось съездить в Штаты, чтобы провести каникулы с детьми, и я вернулся с ощущением, что все идет в гору. Ситуация, однако, стала меняться к худшему, и Ларри, похоже, желая отвлечь нас, пригласил в театр.
Появление с Мэрилин в Лондоне все еще было непростой задачей. Чтобы не сорвать представление, нас подвезли к служебному входу и посадили на наши места в темноте, когда занавес уже начал подниматься. Я не обратил внимания, что мы приехали смотреть, а Ларри почему-то не назвал пьесу, режиссера и исполнителей. У нас не было программок, и мы не успели разглядеть афишу у входа в театр, так что, когда занавес пошел вверх, я не имел ни малейшего представления, что предстояло увидеть. На сцене были декорации веранды роскошного особняка где-то на берегу Карибского моря. Я попытался вслушаться в реплики актеров, но их безупречная английская речь и сюжет, состоявший из одних слов без всякого действия, вскоре так убаюкали меня, что я едва боролся со сном. И зачем только Ларри привез нас сюда?
В какой-то момент я неожиданно понял, что ведущую роль исполняет Вивьен Ли, его жена. Вот оно что! Я прислушался, но с тем же успехом: пьеса казалась искусственной и надуманной, как цветок из стекла. В антракте я наклонился через Мэрилин к Ларри и спросил:
– Кто написал пьесу?
Его губы тронула усмешка, но он не ответил.
– Очень напоминает Ноуэля Коуарда, однако я не уверен. Чья это пьеса?
– Это «Пена Южного моря» Ноуэля Коуарда.
– Надо же!
– Да! – И он рассмеялся.
– Боже, что тут можно добавить!
– Ты уже все сказал!
Мы оба расхохотались. Не в силах скрыть разочарования в голосе, я спросил, кто ставил, ибо режиссура, на мой взгляд, была на редкость неудачна. Вивьен металась по сцене то вправо, то влево, то вперед, то опять назад.
Ларри снова помедлил и так же сухо усмехнулся.
– Интересно, кто все-таки ставил?
– Я.
Обхватив голову руками, я стукнулся о спинку переднего кресла, но наша дружба вынесла и такое. Постановка была частью его безжизненного прошлого и не вызывала эмоций, будучи не более чем картинкой былых времен.
Было тяжко видеть, как Мэрилин вновь впадает в раздраженное состояние. Она сердилась не только на Оливье, что он якобы к ней снисходителен, но и на Милтона Грина, с которым почти не разговаривала, и даже на самое себя. Я чувствовал, что поддаюсь ее настроению, однако ничего не мог изменить, так как прервать съемки было невозможно. Нараставшее, крепнувшее раздражение не внимало голосу разума. Стоило мне попытаться успокоить ее, она тут же усматривала в моих словах слишком банальный подход к ситуации. Действительно, ни один фильм, на мой взгляд, не заслуживал таких мучений: каждая сцена в буквальном смысле слова стоила ей жизни. Только позже я понял, в чем разница между актерским и писательским ремеслом: актер сам являет собой искусство, тогда как писатель может отойти от своего детища, предоставив его другим. Я все еще верил, что роль принесет ей большой успех, а она переживает, не понимая этого. Но Мэрилин потеряла покой и сон, и сильные снотворные только усиливали болезненное отношение к фильму.
Мы оба пребывали в прострации, каждый испытывал чувство вины, которое поглощало все остальные. Нам не удалось, как по волшебству, изменить жизнь друг друга, и мы остались какими были, если не стали хуже. Казалось, надежды не оправдались, Мэрилин не хватало сил противостоять распаду нашего союза – она, как всегда, жила без оглядки, не извлекая уроков. Все повторялось – надежды, разочарование, – и в итоге подозрительность ко всем, кроме Гедды и Паулы, которые поддакивали, одна из любви, другая из умело скрываемого честолюбия.
К тому времени она уже больше года наблюдалась у врача-психоаналитика в Нью-Йорке. Позже были еще два психиатра, сначала Марианна Крис, потом Ралф Гринсон, оба великолепные специалисты, беззаветно ей преданные. Но несмотря на все усилия, ветвистое древо катастрофы разрасталось – его питало чувство, что она от рождения проклята, вернее, отлучена. И здесь не помогали ни знания, ни иллюзии. Жизненный опыт приходил к ней в двух ипостасях – либо в первозданной чистоте, либо в низменных переживаниях. Она обожала детей и стариков – тех, кто, как и она, был беззащитен и безобиден. В остальных таилась опасность, которую можно было победить только откровенной, обезоруживающей сексуальностью, которая не допускает чувств, но одну женственную жертвенность. Это не могло продолжаться долго, ибо трудно выдержать такой накал. Почувствовать себя в безопасности, забыться она могла только в момент crescendo [19]19
Нарастание ( ит.).
[Закрыть]. Волна спадала, и Мерилин с ожесточением ополчалась на самое себя, такую никчемную, отбросы общества. Отвращение к себе не давало спать, и опять появлялись таблетки – медленное самоубийство из ночи в ночь. И все-таки она жила надеждой, как рыба, всплывающая из морских глубин, чтобы увидеть свет, прежде чем вновь провалиться в бездну. Для тех, кто знал о ее печалях, эти переходы, как ничто другое, наверное, свидетельствовали о ее величии.
Однако Англия, похоже, смирила нас обоих.
Тем временем у меня произошло еще одно столкновение с правительством. Как-то утром я сидел в музыкальном салоне и работал над «Неприкаянными», которые сначала писались в прозе, когда увидел, что по дорожке к дому направляется полицейский в шлеме, с черным велосипедом. Он остановился у распахнутых французских дверей и заглянул, неожиданно ослепнув от темноты. Я встал, поздоровался.
– Скажите, вы господин Артур Миллер?
– Да. – Сердце екнуло от дурного предчувствия – наверное, что-то с детьми или с Мэрилин.
– Вас ждут в Форин-Офис, сэр.
– В Форин-Офис?
– Так точно, сэр.
– А где находится Форин-Офис?
– В Лондоне, сэр.
– Вы приехали за мной?
– Я получил распоряжение, сэр.
– Кто дал вам это распоряжение? На каком основании?
– Не могу знать, сэр.
Ситуация показалась настолько идиотской, что я подумал, не собирается ли он, желая доставить в Лондон, водрузить меня на велосипед, руль которого крепко сжимал обеими руками.
– Первый раз слышу об этом, – сказал я.
– Вас просили приехать сегодня, сэр. Машина ждет. Вы не могли бы собраться? Она сейчас подъедет.
Передо мною, сжимая руль, стоял образцовый провинциальный полицейский из романа Агаты Кристи, в высоком черном шлеме и с невозмутимым выражением голубых глаз. Я ответил, что у меня своя машина с шофером и я воспользуюсь ею.
Когда через час мы подъехали к Форин-Офис, он уже поджидал у входа, хотя ему надо было всего лишь провести меня по лабиринту коридоров. Мы миновали человек двенадцать просителей разных национальностей в живописных одеждах и вошли наконец в какой-то кабинет с единственным окном на уровне головы, выходившим в просвет вентиляционной шахты. Воистину это была диккенсовская страна. Меня приветствовал сильно прихрамывающий офицер с гвардейскими усами и повязкой на глазу. Похоже, выправкой он был обязан корсету, видневшемуся в разрезе дорогой набивной рубашки, – сбитый в прошлом пилот «спитфайера», исполненный оптимизма.
– Как съемки? Как Суррей? Я видел в газете, вы катаетесь на велосипедах – прекрасное место для прогулок, не правда ли? Там где-то поблизости, если память не изменяет, есть очень уютный кабачок. Вам удается работать? Отлично! Надеюсь, мы когда-нибудь прочитаем то, что вы пишете. Мне очень понравилась ваша «Смерть коммивояжера» с Полем Мьюни, в «Фениксе», по-моему, если не ошибаюсь? Это было воистину превосходно!
Закончив немного лукавую, возбужденную болтовню, будто мы сидели за обеденным столом в ожидании жареного фазана на деревянном блюде, он взглянул мне прямо в глаза. Я заметил, что он рыжий.
– Срок действия вашего паспорта истекает в следующем месяце.
– Неужели? Возможно, вы правы. Я давно не заглядывал в него.
Так вот в чем дело: Конгресс обвиняет меня в неуважении, в перспективе маячит слушание в федеральном суде, а англичане выдают паспорт только на шесть месяцев. Я почувствовал на горле длинную руку Госдепа, Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и моих доброжелателей в высшем эшелоне власти.