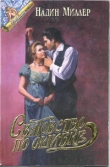Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 49 страниц)
Менни удалось вырастить из своих сыновей двух рослых и самоуверенных мушкетеров, преданных друг другу и чести семьи. Им не хватило терпения или таланта закончить учебу, и они отказались от колледжа. Во время войны Бадди служил в инженерно-строительном батальоне ВВС «Морские пчелы», сваривая стальные листы для взлетных полос аэродромов на тихоокеанских островах, женился на женщине старше себя с детьми и в сорок лет умер от рака, едва успев открыть небольшое дело по обслуживанию механиков самолетов сандвичами, которыми торговал с нескольких фургонов, то ли купив, то ли арендовав их. Эбби воевал в пехоте и принимал участие в одной из самых слабо подготовленных операций в истории Второй мировой войны – высадке десанта в Анцио. Немецкая артиллерия с береговых высот обстреляла его подразделение еще на воде. Если верить рассказам Эбби, он потерял рассудок и, выбравшись через иллюминатор, разгуливал по вздыбленному от снарядов берегу, не обращая внимания, что вокруг него все грохотало, но его не задел ни один осколок. Как во всех воспоминаниях Эбби, в этой истории были пробелы – отсутствие точных дат говорило, что в это время он мог быть где-то совсем в другом месте, однако, как все Ньюмены, вполне мог выкинуть то, о чем говорил: презрев опасность, и разгуливать под артиллерийским огнем.
В последний раз мы встретились незадолго до его смерти – он умер, как и его мать, от гипертонии, едва ему перевалило за сорок. Я позвонил Эбби, и он пригласил меня к себе в холостяцкую квартиру на Манхэттене. Мы не виделись с довоенной поры. Открыв дверь в шелковой голубой пижаме и в шлепанцах на босу ногу, он провел меня в небольшую гостиную, окна которой выходили на начало Лексингтон-авеню. Была суббота, далеко за полдень. На Бродвее шла пьеса «Все мои сыновья», пару лет назад я опубликовал роман «Фокус», женился и обзавелся двумя детьми. А его капитал появился из спальни: оттуда вышли две ошеломляюще красивые молодые женщины на тонких шпильках и, порывисто поцеловав его, задержались ровно на столько, чтобы кивнуть, когда он с чувством пасхальной безмятежности представил меня. Застегивая на ходу кофточки и поправляя чулки, они выпорхнули из квартиры, сказав, что опаздывают на работу. «Люблю, чтобы с двумя сразу», – усмехнулся Эбби, едва дверь за ними захлопнулась.
Он был похож на нашего давно умершего дядюшку Хаима по прозвищу Плевок – тот же орлиный нос, карие, исполненные острого вожделения глаза, темная волнистая шевелюра, ровный ряд зубов. Зачем ему надо было устраивать этот спектакль? Если Эбби хотелось вызвать у меня зависть, он, безусловно, преуспел. Мы договорились о встрече за три дня, и у него было достаточно времени, чтобы подготовиться. Теперь его расплывшееся в улыбке лицо выражало удовлетворение. Как ни нелепа была ситуация, я неожиданно понял, что все эти годы мы исподволь соперничали с ним. Потому он приурочил визит девиц к моему приходу. Его, должно быть, глубоко уязвил мой успех – одна из пьес к тому времени была удостоена премии. И он доказал, что если не владеет пером, то очень хорош в постели. Я знал, что сладостное чувство превосходства, написанное на его лице, недолговечно. Тем не менее такое самолюбование всегда сковывало меня: дружеское общение с подобными людьми требует отказа от самого себя, ибо они жаждут постоянного восхищения. Вопрос только в том, зачем это надо и как скоро надоест.
У меня к нему было дело, о котором я пока молчал. Мы начали с военных воспоминаний, с того, как он свихнулся во время операции в Анцио.
– После прорыва меня перевели в военную полицию и предложили разыскивать грузовики, перевозившие покрышки, которые исчезали где-то под Римом, в районе Фоша. Я выследил этих ребят и нашел дорогу, по которой они загоняли грузовики в лес, разгружали, а затем отпускали. – Он утробно рассмеялся: – Вот где была пожива, но я, конечно, не стал рисковать.
Из этого я должен был сделать вывод, что он вернулся с войны не с пустым кошельком, хотя взяток не брал. В волшебном мире Ньюменов подобные вещи легко уживались. Бог знает, что было на самом деле, но он хотел доказать мне, что, несмотря ни на что, преуспел.
Наша беседа неожиданно свернула к философским размышлениям над неудачами.
– Как ты можешь жить с одной женщиной? Мне кажется, я бы не смог.
– А зачем тебе две?
– Ну так… – Он растерянно посмотрел в окно. – А вдруг я захочу ребенка? – И он, ошалевший, повернулся ко мне: – Как тебе это, а?
– Не знаю. Всем иногда хочется и того и другого.
– А вдруг надоест? Кстати, что ты делаешь в этом случае… Ну, если она надоест?
– Жду, когда это пройдет.
Он вздохнул:
– Так я и знал.
Тем не менее он успел жениться и обзавестись ребенком, прежде чем отойти в мир иной.
– О чем всегда мечтал твой отец? – спросил я. Этот вопрос был причиной моего визита.
Последнее время меня преследовали неясные, но захватывающие видения, что-то вроде стремительно прочерченной кривой – едва различимого повествования, без сквозного диалога или определенного места действия. Пьеса разворачивалась в сознании человека, что позволяло воспроизвести события одновременно, а не последовательно. К тому времени я знал о трех самоубийствах, два из которых были совершены коммивояжерами. И помнил, что у Менни был не совсем обычный конец. Лет десять назад, в колледже, я начал писать пьесу о коммивояжере и его семье, но потом бросил и совершенно забыл о ней. Записная книжка, в которой я делал пометки, всплыла еще девять лет спустя, много позже премьеры «Смерти коммивояжера», когда я вывозил из бруклинского дома свои бумаги, поскольку мой первый брак распался.
– Скажи, чего он больше всего хотел, что его привлекало?
Мой кузен Эбби, в котором одновременно боролись чувство любви ко мне, раздражение соперника, презрение к поздним неудачам отца, сочувствие и любовь к нему, а также восхищение его истовостью, – мой смуглый статный кузен, сидевший напротив, недавно тоже вошел в мои сны, и, наверное, поэтому я снял трубку и позвонил ему.
Огромная лиловая равнина сливается у горизонта с оранжевой полосой заката. Я опускаю белую босую ступню в какую-то неглубокую яму, на дне которой немного кристально чистой воды и натянуты пять серебристых толстых струн, как у арфы. Я касаюсь их ногой, и воздух наполняется звуками музыки, от которых бежит рябь по воде. Внезапно где-то поблизости на лиловой равнине возникает белая цементная стена, и, приближаясь к ней, я различаю двух козлоногих фавнов, разгуливающих на задних ногах. Они играют у стены в ручной мяч. Это мои кузены Эбби и Бадди. Страшен звук удара плотного, тяжелого черного мяча, отлетающего от их передних копыт.
– Отец хотел, чтобы у нас было семейное дело. И мы были бы все вместе, – сказал Эбби. – Семейное дело для его мальчиков.
Это понятное земное желание, подобно электрическому разряду, выстроило хаотически разбросанные в моей голове железные опилки в определенном порядке. Безудержный прожектер Менни вдруг предстал человеком, у которого была цель: он мечтал о чуде, которое вознаградило бы его за многотрудную жизнь и искупило бесконечную ложь, безумные фантазии, безудержные желания, даже ту полуказарменную дисциплину, которой он донимал своих мальчиков. Все, как в фокусе, обрело смысл и форму. Бизнес был выражением его неистовой любви к самому себе, своим детям. Этот нелепый домосед до последнего боролся за победу в том обществе, которое не предоставило ему иных возможностей восстановить утраченное человеческое достоинство. Он избрал единственный путь: дать свое имя общему с сыновьями делу. Я вдруг понял его всем своим существом.
Вопрос, на который я искал ответ, возник у меня около года назад, после случайной встречи. Это было сразу же вслед за постановкой пьесы «Все мои сыновья» в Бостоне, когда я жил ожиданием скорой премьеры на Бродвее. В тот зимний день, войдя в фойе старого бостонского «Колониэл-театр», я был немало удивлен, заметив среди последних зрителей, уходивших с дневного спектакля, Менни. Он нес перекинутое через руку добротное серое пальто, на голове красовалась жемчужно-серая шляпа, на ногах начищенные до блеска маленькие башмаки – он шел и плакал. Мы не виделись уже лет десять. Хотя мое имя светилось на афише над входом, он явно не ожидал этой встречи.
– Менни! Неужели ты? Как я рад тебя видеть!
Было видно, что он живет в дешевой гостинице, устал, добираясь на своей малолитражке из Нью-Йорка в Бостон, и торговля сегодня не приносит успеха. Не ответив на приветствие, Менни произнес:
– А у Бадди все превосходно.
И я увидел тень смущения на его лице, как будто он не всегда желал мне добра.
Мы немного поговорили, и он вышел из просторного фойе на улицу. Мне показалось, я знаю, о чем он думает – его сыновья проиграли в воображаемом споре. Глядя, как он растворяется в уличной толпе, я почувствовал, как непреодолимая тоска засосала под ложечкой. Годы спустя эта борьба за фантом победы или поражения покажется призрачной, но тогда, в холле театра, во мне взыграло что-то мальчишеское, то ли униженное в прошлом самолюбие, то ли смешанная с презрением зависть к мужской раскрепощенной чувственности Ньюменов… В Менни как бы сфокусировалась вся моя жизнь. И в то же время в отдаленном уголке сознания настойчиво билась мысль, что все это я про него придумал, а на самом деле он просто хвастун и нахальный мелкий торговец.
Больше всего меня поразила фраза о Бадди, которая появилась невесть откуда, – она говорила о возможностях новой формы, которая жила пока еще только в моей голове. Я был полностью увлечен текущей работой и не думал писать ни о каком коммивояжере. Однако хорошо было бы написать пьесу без всяких переходов, на одном диалоге, где каждая реплика – в строку, ни убавить, ни прибавить, все строго, как в природе, экономно, как в зеленом листе, и совершенно, как в муравье.
Главное, пьеса должна была делать со зрителем то же, что Менни сделал во время нашей неожиданной встречи со мной, – рассечь время, подобно тому как нож рассекает слоеный пирог или дорога, вскрывая геологические пласты, прорезает гору, и вместо логической цепи событий совместить прошлое с будущим как данности, каждая из которых бесконечна.
Прошлое я представлял крайне неясно, как некое туманное настоящее, ибо мы есть то, что в каждый отдельный момент живет в нас. Какой фантастичной получится пьеса, если отразит свойственное мышлению единство времени, не позволяющее ничего «забыть» и заставляющее видеть настоящее сквозь призму прошлого, а прошлое сквозь настоящее. Независимо от содержания, смысла сама по себе форма обещала быть абсолютной, как абсолютно душевное движение или сам человек в фокусе своего общественного бытия. Казалось, Менни, растворяясь в толпе, уносит с собой мою молодость. И оттого, что я понимал это яснее, чем он, я в некотором роде уже создал его.
Однако больше всего меня в это время занимали «Все мои сыновья».
Пьеса шла в Нью-Хейвене и имела успех. Элиа Казан продолжал ежедневные репетиции, углубляя смысл ключевых сцен. Он разрабатывал пьесу как музыкальное произведение, то усиливая, то приглушая ее звучание. Чтобы не дать труппе привыкнуть к конфликтам, которые существуют в пьесе, он разжигал в актерах чувство здоровой конкуренции, делая вид, что кому-то симпатизирует больше, кому-то меньше. Сея зерна раздора, он вынуждал их завоевывать его благосклонность. Этот крепко сбитый невысокий человек, ходивший, чтобы казаться выше, на мысках, обладал дьявольской энергией и знал, как сценически выразить то, что автор и актер пытались сказать ему. Каждому артисту он умел внушить, что тот является его ближайшим другом. На мой взгляд, этот метод, если его позволено так скромно именовать, зиждется на том, что спектакль становится формой самовыражения актера. Не командуя, Казан направлял, позволяя исполнителям восторгаться своими открытиями и радостно отдавать их ему, как дети отдают родителям найденную игрушку. Он скорее уважал эту наивность, чем подтрунивал, зная, что театр – занятие не для взрослых и истоки актерских прозрений таятся в детстве. Он интуитивно чувствовал, что серьезное замечание лучше делать не прилюдно, а наедине, ибо то, что западает в душу, сокровенно. В отличие от Гарольда Клермана, который обожал поболтать и раскрепощал актеров тем, что на репетиции добродушно признавался в собственной беспомощности, Казан во время работы посмеивался или молчал: его мысли оставались тайной. И это заставляло актеров постоянно искать новые решения.
Он происходил из среды, отмеченной особой родовой сплоченностью. Этих людей отличала повышенная эмоциональность, чувство клановой солидарности и кланового соперничества, а также вера в то, что ничто человеческое никому не чуждо. Наиболее сильной стороной Казана, на мой взгляд, было его стремление постичь и выявить органическую природу вещей. К этому времени я уверовал, что процесс создания пьесы носит сугубо биологический характер – природа не терпит избыточности и отсекает то, что не содействует активному существованию организма. Отчасти это объясняло, почему Казану был труден Шекспир и в какой-то степени Теннесси Уильямс, порой склонный к плетению словес во имя украшательства как такового. Казан знал, что в пьесе, как в жизни, созидание и разрушение диктуются потребностями людей, а не их заверениями. Точно так же он слушал музыку – джаз и классику, – стремясь постичь ее обнаженную суть как крик души ее создателя. На роль отца Келлера во «Всех моих сыновьях» он пригласил Эда Бегли и сделал это не только потому, что тот был хорошим актером (хотя к нему еще не пришла известность), но из-за того, что он только что излечился от алкоголизма и еще не изжил в себе чувства вины. Келлера, бесспорно, оно преследовало, хотя по другой причине – Казан здесь действительно что-то уловил. На роль Кейт Келлер он пригласил одну из известнейших актрис, которая долгое время сидела без работы. Бет Меррил была не только превосходной артисткой, но манерной претенциозной дамой: будучи последней «звездой» заморского гения Дэвида Беласко, она в свое время разъезжала на машине с шофером, которую он нанял специально ради того, чтобы Бет не появлялась на улице и оставалась таинственной и недоступной для толпы. В тот день, когда мы столкнулись с Менни, я шел в театр улаживать конфликт: актриса была уязвлена отсутствием должного внимания и собиралась отказаться от роли. Заглянув после дневного спектакля в гримерную, я нашел ее в чудесном расположении духа: комната утопала в цветах, которые в лучших традициях Беласко ей преподнес, как я узнал позже, Казан. Чувствуя, что в нашем окружении ей не хватает элегантности – сколь ни сомнительны в ее теперешнем положении были эти претензии, в них был резон, так как мы действительно одевались как кочегары, – он нацепил по этому случаю галстук и куртку. Придя на первую репетицию, она обвела взглядом коллег, похожих на компанию уличных бродяг, и с гримасой боли спросила Казана: «Это и есть ваша труппа?»
Казан был известен, но не знаменит – это таинство свершилось через год, после постановки «Трамвая „Желание“». Я же вообще был неизвестен, и мое имя не встречалось в театральных колонках газет. Несмотря на доброжелательные отзывы критики, огромный «Колониэл» так и не был ни разу забит. Бостонский зритель отличался, как я назвал это про себя, тупой духовной пресыщенностью: в реакции публики ничего нельзя было разобрать. Как-то после спектакля я увидел в фойе высокого респектабельного господина, который стоял с покрасневшими от слез глазами. Казалось, он потрясен. На вопрос спутника, что тот думает о спектакле, джентльмен, почти не разжимая тонких губ, сказал: «Весьма сносно».
Пьеса не вписывалась в привычные рамки. Это впечатление, наверное, усиливали декорации Мордекая Горелика: атмосфера залитого солнцем, ничем не примечательного загородного дома, где первые десять минут царит радостное оживление, не предвещала неотвратимо надвигающейся беды. Зрители оказались не подготовленными к финалу: тихие американские дворики не ассоциировались – по крайней мере в 1947 году – с убийствами и самоубийствами. После просмотра спектакля в Нью-Хейвене Уорд Морхауз, театральный критик из «Нью-Йорк сан», пригласил нас с Казаном в бар и спросил в лоб: «О чем ваша пьеса?» За несколько месяцев до этого знаменитый режиссер Герман Шамлин уже сказал: «Я ничего в ней не понял», поэтому вопрос Морхауза озадачил меня, и я, как мог, объяснил то, что по крайней мере нам с Казаном казалось очевидным. Через несколько недель ко мне подошел агент театра по рекламе и ошеломил, попросив написать несколько строк для «Таймс», о чем пьеса и какой традиции я придерживался. Было неловко подсказывать критикам, о чем говорить, и в то же время возникало недоумение, почему они постоянно требуют, чтобы им все разъясняли.
После того как пьеса была поставлена, ее стало принято критиковать за излишнюю перегруженность сюжета, а также за неправдоподобные совпадения. Больше всего нареканий вызывало письмо пропавшего сына Келлера, Ларри, написанное им во время войны своей невесте Энни, в котором он сообщал о намерении покончить с собой в отчаянии, что дело отца, снабжавшего армию бракованными деталями для самолетов, получило широкую огласку. С одной стороны, письмо подтверждало, что Ларри умер, и давало Энни свободу выйти замуж за его брата Криса. С другой, доказывало, что Джо Келлер виновен не только в гибели неизвестных солдат, но и собственного сына. Письмо, несмотря на всю его оправданность, показалось современным критикам весьма условным. В связи с этим хотелось бы узнать, что они думают о пьесе, где обреченного на гибель младенца, брошенного на горном склоне из-за того, что, по предсказанию оракула, он должен убить собственного отца, спасает пастух и двадцать лет спустя юноша, вступив на дороге в пререкания с незнакомцем, во исполнение предсказания убивает и царя и отца. Если миф, который лежит в основе «Эдипа», позволяет столь значительно раздвинуть рамки обыденных представлений о реальности, нельзя не видеть, что появление письма во «Всех моих сыновьях» вытекает из самой природы характера Энни и ситуации в целом, будучи намного более закономерным, чем любой другой удар судьбы. Меня же интересовало, насколько оба случая доказывают, что настоящее есть возвращение насильственно задушенного прошлого. Когда его костлявая рука появляется из могилы, ситуация представляется абсурдной и невероятной. Мы не очень-то склонны верить этому, ибо иначе надо признать, что хаос, который являет собой наша жизнь, есть проявление скрытого порядка. Именно об этом пьеса «Все мои сыновья» – о том, что порой эта связь становится очевидной.
С годами я понял, что зрителя будоражил отнюдь не сюжет, а скрытый смысл пьесы: легко узнаваемые провинциальные герои оказались носителями трагического начала – в широком смысле слова они бросали нравственный вызов человечеству, в том числе тем, кто сидел в зале. Мне стало ясно впервые в 1977 году, когда мы с моей женой Ингой Морат смотрели пьесу в Иерусалиме. Спектакль был захватывающим, у зрителей возникало чувство ужаса, которое явственно витало в зале. К тому времени «Все мои сыновья» побили в Израиле рекорд по количеству постановок среди популярных пьес. Справа от нас сидел президент страны Эфраим Кацир, слева – премьер-министр Ицхак Рабин, опоздавший на спектакль, ибо, как стало известно позже, в этот день он уступил место Менахему Бегину. Аплодисментам так и не удалось развеять почти религиозную тишину в зрительном зале, и я спросил Рабина, в чем дело. «Тема пьесы крайне актуальна для Израиля, где кое-кто хорошо греет руки, когда наша молодежь днем и ночью гибнет на земле и в воздухе. Сейчас это очень произраильская пьеса», – сказал он. К этому остается добавить, что успеху во многом способствовала игра Ханны Марон, великой актрисы, потерявшей ногу во время взрыва, устроенного террористами в самолете «Эль-Аль» в Цюрихе в 1972 году, печально известном резней во время мюнхенских Олимпийских игр. Возможно, я не прав, но мне показалось, что ее увечье, о котором едва можно было догадаться по легкой хромоте, хотя о нем знали все, придавало душевным страданиям ее героини по поводу иной войны и в иное время большую правдоподобность.
В центре постановки была Кейт Келлер, тогда как мы с Казаном на первый план выдвинули конфликт отца с сыном, оставив ее в тени. Подобное прочтение через несколько лет предложил Майкл Блейкмор, поставив в Лондоне спектакль с Розмари Хэррис в роли матери и Колином Блейкли в роли отца. Это заставило меня задуматься о двойственности образа Кейт, которая в свое время смутила Шамлина и критика Морхауза. Как ни стремится Кейт оказаться непричастной к деятельности мужа, ей это не удается. Не желая мириться со смертью сына, она с ожесточением отрицает свою вину, и это в финале вынуждает ее покарать виновного, поставив мужа на колени и доведя в буквальном смысле до самоубийства.
В скобках надо заметить, что приезд Морхауза на просмотр пьесы за месяц до бродвейской премьеры, на которую он откликнулся статьей, был событием из ряда вон выходящим, если не уникальным. И свидетельствовал об особом отношении к театру у части критиков, чего теперь не сыскать. Мне кажется, раньше к писателям, актерам, режиссерам относились с б о льшим почтением, и даже рождались особые союзы, вроде дружбы между Джорджем Джином Натаном и Юджином О’Нилом. Но потом появилось мнение, будто критика – сама невинность, которую близко нельзя подпускать к вульгарному театру, и круг ее обязанностей сузился до пересказа впечатлений от спектакля. Все бы, однако, ничего, если бы хвала и хула воздавались заслуженно и объективно. Явное пристрастие к отдельным именам, темам, стилям сделало критику настолько же уязвимой и субъективной, как и произведения, которые обсуждались. Иначе откуда такое чопорное пренебрежение к проблемам загнивания театра? В конце концов, в демократическом обществе даже судьи признают, что судопроизводство не безупречно, и критикуют процедуры, в которых сами участвуют, допуская, что могут ошибаться и стать препятствием на пути торжества справедливости. Театр, который мы сегодня имеем, – это театр, который нам разрешили иметь критики, ибо именно они диктовали, что следует смотреть, устанавливая неписаные законы в области вкуса и идеологической чистоты содержания.
Однако так обстоят дела не везде. К примеру, в Англии критик просто обязан во всеуслышание заявлять о своих пристрастиях. Он непременно сообщит читателю, что питает отвращение к политическим пьесам, или не любит театр абсурда, или жаждет более романтического отношения к любви и сексу, или наоборот. Английский репортер выложит все карты на стол и не будет делать вид, что излагает истину в последней инстанции, не имея a priori никаких симпатий. Поэтому ему не приходится рядиться в тогу объективного наблюдателя, что чуждо восприятию искусства как такового. Возможно, такое отношение к личности является результатом иной социальной ситуации, чем наша. В Англии до настоящего времени существует конкуренция между газетами, и, чтобы завоевать зрителя, критик, порой даже не осознавая этого, вынужден отстаивать оригинальность собственной позиции, тогда как в Нью-Йорке люди театра опускаются на колени перед любой мало-мальски крупной газетой, и очередной журналист, пишущий на эти темы, легко впадает в некий тон ex cathedra [7]7
Поучительно ( лат.).
[Закрыть]и начинает напоминать механический автоответчик. Нам же, профессионалам, занимающимся этим идиотским делом, только остается ждать, пока он обратит на нас свое благосклонное внимание. Сто пятьдесят лет назад Токвиль отметил, что мы имеем застарелую привычку двигаться гуртом: американец хочет быть таким, как все, и если газета, которой он доверяет, ругает пьесу, то, значит, критик вкупе с немыслимыми ценами на билеты и баснословной стоимостью парковки подписывает ей смертный приговор. Репертуар современных американских театров формируется в Нью-Йорке и отражает в основном вкусы тех, кто пишет свои обзоры для «Нью-Йорк таймс», слегка сдабривая их чужими мнениями. Надо признаться, эта ситуация возникла не по вине «Таймс», но тем не менее здесь существует своя диктатура, не менее эффективная, чем любой другой механизм контроля над культурой в мире. Когда в Советском Союзе закрывают спектакль, то решение об этом, по крайней мере после смерти Сталина, принимает все-таки не один человек, а коллегия.
Монополия всегда зло, причем зло коварное. В 1967 году, вскоре после того, как закрылась «Геральд трибюн», Клифт Дэниел, в те времена главный исполнительный редактор «Таймс», собрал в ресторанчике в центре города человек сто журналистов, продюсеров, актеров поговорить, что делать газете, которая обрела непомерную власть, чреватую нездоровыми, недемократическими последствиями. Дэниель заметил, что «Таймс» не добивалась этого, но получила в наследство от прежних времен. Я вступил в разговор после первого обмена репликами, сказав, беда в том, что журналист может узурпировать престиж целой газеты и поставить его под удар неоправданным и несправедливым суждением. Возможно, нужно иметь не одного, а двух-трех критиков и какого-нибудь специалиста, предоставив ему место для изложения своих впечатлений. Как драматургу мне это грозило тем, что вместо одного я теперь мог получить в «Таймс» три плохих отзыва. Но я сознательно шел на это, только бы критика существовала в условиях консенсуса. К тому же интересно было бы прочесть сразу несколько разных откликов, а подписчики бы поняли наконец, сколь относительны суждения критика, которые отнюдь не являются истиной, а могут быть крайне субъективны. Дело не в том, продолжал я, что критики знают больше других, а в том, что могут достаточно гладко выразить то немногое, что знают. Это стало бы ясно, опубликуй газета сразу несколько статей на одну и ту же тему.
Дэниел на минуту задумался, но отверг мое предложение. Я спросил почему и услышал: «Да, но кто будет говорить от лица „Нью-Йорк таймс“?» Двое-трое, не более, засмеялись – мы настолько смирились, что в каждой области неизбежна, а то и закономерна монополия на власть, что просто уже не замечаем этого. Я переспросил Дэниела, зачем он нас собирал, если не хочет думать, как ограничить влияние «Таймс». Разве его ответ не доказывал, что «Таймс» вовсе не собирается отказываться от доставшейся ей в наследство монополии? Наша беседа так и закончилась ничем.
И это при том, что «Таймс» всегда весьма благосклонно относилась к моей деятельности: если бы не Брукс Аткинсон, развернувший кампанию в защиту «Всех моих сыновей», что значительно продлило жизнь постановки, я бы не добился признания как драматург. Это нельзя доказать, но я уверен, одна из причин, почему он поддержал меня, была радость, что в нью-йоркском театре наконец появилась пьеса, содержание которой не исчерпывалось банальным социальным конфликтом. Конечно, не понравься пьеса, он бы не стал хвалить ее, но, на мой взгляд, он использовал ситуацию как отмычку, чтобы открыть дверь другим, тем, кто грядет. Во всяком случае, это был человек, который чувствовал ответственность за судьбу театра в целом.
И зрители подтвердили справедливость его оценки: к весне пьеса твердо обосновалась на Бродвее, получив премию Союза театральных критиков и другие. Как-то несколько недель спустя мы с Мэри сидели за столом и ужинали у себя на Бруклинских Высотах, как я вдруг подумал, что театр «Коронет» сегодня опять будет забит, люди заплатят деньги и мои слова обретут б о льшую власть, чем я сам. В этом было что-то жуткое, и в то же время я испытал неожиданный прилив сил. Меня уже узнавали на улице, провожая восторженным взглядом, – это было приятно, хотя я чувствовал себя напряженно и неестественно. Слава, отнимая право на неудачу, угрожала лишить жизнь ее нормального течения. Поэтому через несколько недель после премьеры «Всех моих сыновей» я отправился в нью-йоркское государственное бюро по трудоустройству с просьбой подыскать любую работу. Меня отправили на фабрику в Лонг-Айленд-Сити, где целый день на ногах я собирал за мизерную плату перегородки для ящиков с пивом. Претензия на анонимность была противоестественна и нелепа, и я быстро оставил свою затею, не найдя, однако, решения, как сохранить связь с миром, который у людей театра называется публикой, – с теми, кто за стенами зрительного зала шьет штаны и ставит пломбы. И дело было не в том, что материал надо черпать из жизни, а в каких-то моральных обязательствах. Я еще не знал о Толстом, который в зените славы начал тачать себе сапоги, но испытывал схожие переживания.
Я не первый тяготился успехом (не говоря о том, что ощущение вины усиливалось от моих левых эгалитарных взглядов), но, подозревая, в чем соль, ничего не мог с собой поделать: чувство вины – своего рода защитная реакция, чтобы скрыть радость от того, что превзошел других, в том числе близких, брата, отца, друга. Своего рода плата в виде псевдораскаяния. Однако отнюдь не выдумка, ибо в душе осознаешь, что те, кого обошел, могут затаить месть, и в этом таится реальная угроза. А чувство вины как бы говорит: «Не отвергайте меня, я тоже неудачник». Придет время, и оно исчезнет, пьеса будет поставлена в Европе, «Фокус» выйдет в Англии, во Франции, в Германии, в Италии, но я всегда буду радоваться, что у «Всех моих сыновей» было так мало врагов и так много друзей, что удалось сохранить статус-кво.
В те времена мы обитали в перестроенном доме из железистого песчаника на Пиэрпонт-стрит. Однажды в холле раздались крики. Испугавшись, что кто-то подрался, я открыл дверь и увидел на ступеньках пару – невысокого парня в армейской форме и нашу красивую молодую соседку сверху. Увидев меня, они замолчали, и я, успокоившись, закрыл дверь. Через некоторое время молодой солдат, правда уже без формы, подошел ко мне на улице и представился: он писатель, его зовут – он назвался – Мейлер. Недавно видел мою пьесу. «Я запросто напишу такую», – резюмировал он. Его поведение было настолько плоско и глупо, что я рассмеялся, он же сохранял серьезность и в будущем на протяжении долгих лет неоднократно пытался осуществить задуманное. Я еще только завоевывал свое место под солнцем, у меня были друзья, но Мейлер поразил тем, что его интересовала не дружба, а желание подчинить себе. В силу этого наши сходные в целом (в моем возрасте следует быть снисходительным) устремления не совпадали. И хотя мы долгое время жили рядом, наши дороги редко пересекались.