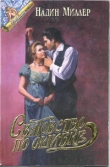Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 49 страниц)
К этому времени я провел с Мэрилин считанные часы, но она вошла в мое воображение, став источником жизни, который способен неожиданно озарить огромное сумеречное пространство. Я стремился сохранить семью и в то же время понять, откуда возникло ощущение, будто меня лишили благорасположения, которое сопутствовало с детства. Зачем и для кого я пишу? Я искал благословения, но вокруг все казалось тленом, как будто я потерял высшую цель, ради которой только и стоило работать. Я научился подолгу оставаться в одиночестве, но меня не покидало ощущение, что кто-то невидимый следит за мной. Конечно, это была мама – мой первый собеседник, вернее, интуитивный образ ее, знакомый лишь сыну – полулюбовнику, полумятежнику, который, восставая против ее власти, несет этот образ в своей крови как родовое начало. Между тем в повседневности мама хотела того же, что и все, – чтобы ее сын был удачлив. Но это было слишком прозаично, дабы удержать меня в тенетах былого послушания. Ее любовь была конкретна, в ней отчетливо присутствовало суетное деловое начало. Я же не мог жить – не говоря о счастье – без мифов детства, которые изначально питают наше вечное становление, веру в себя и мир. Муза всегда являлась мне женщиной, дарующей благословение, да поможет ей Господь. Теперь она покинула меня.
Вконец устав от роли домовладельца, особенно при таком квартиросъемщике, как Генри Давенпорт, я наконец продал дом на Грейс-Корт и приобрел небольшое строение середины XIX века на одну семью неподалеку на Уиллоу-стрит, в квартале от реки. Пытаясь сохранить видимость брака, целую неделю настилал на веранде черный пол, потом пробковый паркет, придумал массу ухищрений для кухни – иными словами, делал все, что делает человек, предполагая, что будет жить с семьей в новом доме. Однако легкость, которую рождает взаимное доверие, упорхнула как птица, и новая клетка, так же как и старая, где никто не пел, была пуста.
Мэрилин с оказией прислала обрадовавшее меня письмецо. Оно было написано корявым, слегка наклонным почерком, двумя или тремя чернилами, которые местами сменял карандаш, строчки в конце строки ползли вниз или загибались кверху, забегая на соседнюю страничку. Она писала, что хочет увидеться, надеясь выбраться на Восточное побережье по делам, а потом без обиняков предлагала, если я не буду против, приехать. Я послал ей туманный, сдержанный ответ, что я не тот человек, который может помочь ей устроить жизнь, как она того бы хотела, и пожелал всего наилучшего. Однако нередко по вечерам обжигала такая тоска, что впору было развернуть машину на Запад и выжать до отказа педаль. Увы! Я не из тех, кто способен на это.
Пока я пребывал в душевном смятении, до театральной общественности докатились слухи о неблаговидных делах Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Однако черные списки еще не появились, ибо никто из известных продюсеров не соглашался, как это вошло в практику в Голливуде, шпионить за актерами. Театр финансировался десятками вкладчиков, и большинство продюсеров были временными людьми под куполами шатров, которые натягивались и снимались после каждого представления. К тому же театральные актеры, за небольшим исключением, не пользовались широкой известностью, а Комиссия не скрывала, что ее не устраивают «дела», публикации о которых появлялись бы на последней странице рядом с кроссвордами. Однако в Нью-Йорке прошло несколько выездных заседаний и поговаривали, что наиболее предприимчивые из свидетелей, стремясь доказать свою лояльность, заранее договаривались давать показания друг на друга. Были и такие, кто отказывался от подобных игр, и тогда их имена всплывали сами собой. Причем отсутствие поддержки только укрепляло новообращенных в стремлении заклеймить бывших единомышленников как твердолобых коммунистов.
На меня весь этот спектакль производил удручающее впечатление, и не только в силу очевидных причин. Конечно, те, кто пресмыкался перед сомнительным авторитетом витийствующих «охотников за голосами», вызывали неприязнь, но я испытывал не только жалость к ним, но и раздражение. Волновало, что с каждым днем становилось все труднее высказывать свое мнение, сколь недостойно все, что творилось вокруг. По крайней мере с точки зрения тех, кого в 1950–1951 годах могли обвинить в симпатиях к русской революции, которую они в конце тридцатых – начале сороковых воспринимали в порыве понятного идеализма как будущее человечества, с тех пор, однако, полностью удалившись от всякой политической активности. Комиссии удалось создать общественное мнение, что они преследуют тех, кто занимается подпольной деятельностью. Но даже в этом случае ее действия были незаконны, ибо коммунистическая партия была на легальном положении, так же как ее отдельные фракции, порою стоявшие на либеральных позициях, далеких от социалистических целей.
Шумиха, сопровождавшая процессы, вызывала недоумение, которое невозможно было рассеять даже апелляцией к истории. Так, группа воинственно настроенных актеров, сославшись на пятую поправку, бросила Комиссии вызов, вообразив себя последователями Георгия Димитрова, который в нацистском застенке, несмотря на угрозу пыток и казни, бросил нацистам обвинение в том, что они сами подожгли рейхстаг, как на самом деле и было. (Поразительно, но он остался жив и после войны стал первым секретарем Болгарской коммунистической партии.) В тридцатые годы об этом дерзком поступке слагали легенды, Димитров для всего левого движения стал образцом противостояния фашизму. Одна из особенностей нью-йоркской Комиссии заключалась в том, что ее члены были избраны демократическим путем и не помышляли устанавливать откровенный террор. На некоторых из них оказала влияние недавняя победа красных в Китае, испытание русскими атомной бомбы и расширение советских границ в Восточной Европе. Трудно было распутать клубок чьей-то искренней наивности, здравых опасений и беспринципной болтовни, тем более что публичное выступление группы актеров, годами не связанных между собой политическими интересами, все равно не освободило бы Запретный город от красных и не заставило бы ни одного русского уйти из Варшавы или Будапешта.
Однако неприятнее всего была сгущавшаяся атмосфера подозрительности, которая захлестнула не только радио, телевидение, киностудии, но даже церковь Святой Троицы на Бруклинских Высотах. В результате антикоммунистической истерии, внесшей раскол в среду ее прихожан, священник преподобный Уильям Говард Мелиш оказался вместе с семьей на улице. Их вышвырнули, несмотря на то что в доме на втором этаже лежал прикованный к постели, в прошлом обворожительный, его старик отец Джон Говард Мелиш, любимый паствой священник этого огромного, прекрасного епископального храма, десятилетиями приводивший к присяге мэров Нью-Йорка. Когда-то он возглавлял «Общество помощи русским в войне» и по наивности проникся верой если не в систему, то в цели, которыми руководствовались Советы. Никто не сомневался в том, что он благочестивый христианин, в том числе в те долгие месяцы, пока этот человек пытался отстоять свои права. Однако когда дело дошло до гражданского суда, тот подтвердил право епископа на его увольнение. Все это укрепляло в мысли, что страна стремится к некой идейной монолитности, когда будет преследоваться любое независимое мнение. Я к тому времени завершил «Врага народа» – сюжет пьесы поразительно напоминал историю Мелиша, вплоть до излишнего упрямства главных действующих лиц, – однако это никак не повлияло на ситуацию.
Я не осознавал происходящего со всей отчетливостью, но искал метафору, некий обобщающий образ, который, возникнув из самых глубин, вобрал бы и прояснил все сразу, – камертон, звуки которого проникли бы в толщу этого болота. Ибо если процесс разложения затянется, в чем не было особых оснований сомневаться, мы перестанем быть демократией, так как она зиждется на твердой вере в существование устоев.
Впервые о салемских ведьмах я узнал из курса истории в Мичиганском университете и с тех пор воспринимал это как таинственную мистификацию далекого прошлого, когда люди верили, что дух может покидать тело и в этом нет ничего удивительного. Мама, возможно, в какой-то мере верила в это и по сей день, я же, подобно многим, только втайне допускал такое. Наверное, само провидение вложило мне в руки книгу Meрион Старки «Дьявол в Массачусетсе», и странная история, сохранившаяся в памяти, обросла яркими подробностями.
Сначала я не думал писать никакой пьесы. Здравый смысл подсказывал, что я слишком рассудителен, чтобы погрузиться в необузданную стихию иррационального, связанную с салемской историей. Пьеса не может описывать переживание, она должна стать им. Однако исподволь, по прошествии нескольких недель, я увидел непосредственную связь между мной и Салемом, Салемом и Вашингтоном, ибо, чем бы ни были слушания в Вашингтоне, они носили откровенно ритуальный характер. Практически в каждом случае Комиссия заранее знала, какие показания ей нужны: она требовала имен, хотя агенты ФБР, просочившись в партийные ряды, давно составили списки тех, кто принимал участие в митингах. Как и в Салеме в семнадцатом веке, целью было добиться публичного раскаяния. Обвиняемого заставляли отречься от сообщников и наставника-магистра, чтобы отказом подтвердить безграничную преданность новой вере и тем самым пополнить ряды истинно благонамеренных. И там и здесь подоплекой была одна и та же обрядовая процедура – акт раскаяния совершался не в тайне одиночества, но прилюдно. При этом салемский процесс имел б о льшую юридическую полномочность, ибо те, кто обвинялся в близости с «нечистой силой», преступали закон, запрещающий практику колдовства, что являлось нарушением гражданского и религиозного кодексов. В свою очередь, тем, кому вменялось оскорбление Комиссии, не могли предъявить ничего иного, кроме отказа от верноподданнических чувств и поддержки враждебной идеологии. При этом на человека навешивался ярлык, что не могло не сказаться на его будущей карьере.
Сама процедура опиралась на правительственный декрет о моральной ответственности. Все обвинения легко снимались, как только произносилась чисто ритуальная речь, назывались имена соратников и человек отрекался от своих убеждений. Последнее во всем этом фарсе было, пожалуй, печальнее всего, хотя и весьма закономерно. К началу пятидесятых лишь незначительная часть людей еще сохранила веру в Советы – доля деятелей искусства среди них была невелика.
Меня же в этом интересовало то, что было сокрыто от взгляда, – акт невидимого духовного перерождения личности. Процедуры обвинения и покаяния были организованы по хорошо известным законам инквизиции, только в роли потерпевшего теперь выступал не Господь со своими служителями, а Комиссия Конгресса. (К тому же ряд ее членов отличался вопиющей аморальностью, вроде Дж. Томаса, чья ненависть к коммунизму соперничала с его корыстолюбием, за что он вскоре оказался в федеральной тюрьме, где рядом с ним отбывал срок Ринг Ларднер-младший, попавший за решетку за оскорбление Конгресса, то есть за отказ отвечать на вопросы того же самого Томаса.) Мы вступили в область антропологии и сновидений, где политические лозунги не имели никакой силы. Политика слишком рассудочна, чтобы рассеять сумрак подземелья общественного сознания, где над затянутым паутиной пространством предательства и неистовой злобы довлеют тайные необъяснимые низменные страхи. Волна маккартизма только поднималась, и трудно было предположить, что она выйдет из-под контроля президента и будет нарастать до тех пор, пока Маккарти не посягнет на авторитет достопочтенных генералов и армия не свергнет его самого.
Я никак не мог решить, стоит ли писать пьесу о салемских процессах. Сдерживал ряд конкретных вопросов, связанных со знанием материала, а также ощущение, что я могу навлечь на себя неприятности не только политического, но и личного характера. В салемской истории меня больше всего занимал образ одного из ее главных участников – снедаемого чувством вины Джона Проктора, который, переспав со своей молоденькой служанкой, вдруг с ужасом узнает, что, возглавив толпу односельчан в охоте за ведьмами, она остановила указующий перст на его жене, которую он сам же и предал. Основные линии пьесы были не до конца ясны, но интуиция, как это часто бывает со мной, подсказывала, что не успокоюсь, пока не выплесну все на бумагу. И чтобы немного поработать, я решил отправиться в Салем, городок в штате Массачусетс, где сохранились архивы тех исторических событий. Не без волнения я устремился на север и одновременно в глубь самого себя. За день до отъезда позвонил Казан и попросил заехать к нему.
Поскольку он не любил пустых разговоров, во всяком случае со мной, а это был уже второй или третий звонок за последние несколько недель, я понял, что с ним творится что-то неладное, и заподозрил в этом Комиссию. Проклиная наступившие времена, я выехал серым промозглым коннектикутским утром в начале апреля 1952 года из дома, уже по дороге догадавшись, что скорее всего он принял предложение сотрудничать с Комиссией. Лет пятнадцать назад Казан состоял членом коммунистической партии, о чем как-то сказал мне, но, в общем, всегда был далек от политики, по крайней мере те пять лет, что мы были знакомы. Я чувствовал, как во мне закипает негодование, но не против него – его я любил как брата, – а против Комиссии, которая представляла собой свору политических дельцов с весьма сомнительной репутацией, вроде той, что у Тони Анастазии, или похлеще.
Ненадолго выглянуло солнце, и мы пошли прогуляться по мокрому лесу, вдыхая густой весенний аромат, насыщенный запахами прошлого и настоящего, как это бывает за городом после раннего дождя. Было заметно, что Казан старается выглядеть спокойным, как человек, принявший удачное решение. Его безыскусный рассказ, к тому времени уже достаточно банальный, занял немного времени. Получив предложение помочь Комиссии, он поначалу отказался, потом передумал и на закрытом заседании назвал несколько десятков фамилий тех, с кем успел познакомиться во время недолгого пребывания в партии. Теперь он испытывал чувство облегчения, все стало проще. Однако он продолжал на что-то надеяться, будто ничего не произошло. И искал поддержки: в конце концов, почему, потеряв симпатии к коммунистам, он должен страдать из-за своих былых пристрастий. Ситуация казалась настолько невероятной, что я никак не мог воспринять ее. Я никогда не задумывался, кем был для него, он же вошел в мои сны как брат, и там мы обменялись улыбкой взаимопонимания, которая отделила нас ото всех остальных. Теперь же, слушая его, я испытывал чувство ужаса. В том, что он говорил, была своя мрачная логика: если он не выйдет сухим из воды, то должен будет полностью отказаться от надежд когда-либо снять в Америке фильм, достойный его дарования. Более того, ему могли отказать в выдаче паспорта, что напрочь лишало возможности работать за границей. Конечно, оставался театр. Но это был пройденный этап, к тому же ему безумно хотелось работать в кинематографе, к которому он прикипел душой. Однако его старый покровитель и друг Спирос Скурас, президент кинокомпании «XX век Фокс», весьма недвусмысленно намекнул, что они не смогут предоставить ему работу, если он не поладит с Комиссией. Казан все продолжал говорить, а я поймал себя на мысли, что кому-то менее одаренному, чем он, было бы наплевать на все это, но он, на мой взгляд, был гением театра, где актеры и текст нуждаются в провидце, который придает всему неповторимый оттенок. Лишиться своего métier [15]15
Ремесло ( фр.).
[Закрыть], оказаться выброшенным на улицу – такое не могло присниться ему даже в страшном сне. Он относил себя к породе победителей, и его жизненным принципом было уцелеть. Казан старался говорить как можно убедительнее, а я там, в лесу, переживал настоящую драму, ибо, испытывая к нему глубочайшую симпатию, понимал, что боюсь его. Принадлежи я к его поколению, он, без сомнения, и меня отдал бы на заклание. Эта мысль затмила все остальные, и я никак не мог избавиться от нее.
Избавиться от ощущения, что в конечном счете любые человеческие отношения приносят радость обретения или горечь утраты. Что все возвращается на круги своя и этим никого не удивишь. Что каждый сопротивляется, покуда ему это выгодно, и верит, покуда удобно. Все мы напоминали рыб, которые с застывшим взором ловят брошенные в аквариум крохи. Единственное, что я мог сказать в этой ситуации, – все пройдет, не может не пройти, ибо в противном случае страна потеряет единство и лишится возможности нормального развития. Я сказал, что наши страхи разжигают не красные, а кто-то совсем иной. Что безнаказанно это не кончится – придет день, и терпение нации лопнет. И тогда, возможно, придется сожалеть об этих временах. Меня отрезвляла мысль, как бы нелепо она ни звучала, что я тоже мог оказаться в его списке, если бы Казан знал, что я посещал собрания писателей-коммунистов и даже однажды выступил на одном из них. Я чувствовал, как между нами возникает немота, наполненная потоками невидимых вибраций, гнетущих, подобно низкой скорбной ноте, что не дает ни говорить, ни слышать. То была мертвенная и тягостная печаль. Вот до чего мы дожили. Разве Казан обязан был быть сильнее самого себя – правительство не имело права требовать от человека, чтобы он оказался выносливее отпущенного ему. Однако наши руководители не разделяли подобного взгляда, и я испытал такое чувство горечи за свою страну, которого раньше не знал, ненависть к ее глупости и добровольному отказу от завоеванных свобод. Кому и для чего понадобилось, чтобы этот человек в своей человеческой слабости испытал такое унижение? Какая истина открылась в этом страдании?
Я садился в машину, когда на пороге дома появилась Молли Казан. Опять начал накрапывать дождь, и я подумал: кто, как не она, знает, насколько все это грустно. Невозможно было смотреть в ее смятенные глаза. Жизнь порою заставляет пережить такие минуты, которые не изгладятся до гробовой доски. Молли питала склонность к нравоучениям и обладала особым даром – безошибочно определять, где пьеса теряет стержневую нить или авторский темперамент уводит ее от основного конфликта. Задолго до начала репетиций «Смерти коммивояжера» она настойчиво советовала мне убрать дядюшку Бена и все ретроспективные сцены. На мой взгляд, это был поразительный случай психоаналитической редукции по принципу «ничего, кроме», когда из пережитого убирается все, за исключением очевидного и легко узнаваемого, как будто цвет, интонация или настроение не могут повлиять на судьбу.
Я уже был в машине, но Молли задала вопрос, которого не забыть: в курсе ли я, что объединенный профсоюз электриков находится в руках коммунистов. Стоя под моросящим дождем, эта женщина, спасая карьеру мужа, казалось, вся сосредоточилась на вопросе, который в более спокойные времена заставил бы ее рассмеяться, настолько он был нелеп в свете стоявших перед нами проблем. Я пробормотал, что давно ничего об этом не слышал. Она махнула рукой в сторону дороги, заметив, что я отстал от жизни, ибо все, кто проживает по соседству, поддерживают и одобряют деятельность Комиссии. Я не нашелся, что ответить, чтобы преодолеть разверзшуюся между нами пропасть. Тягостное прощание затягивалось, и в ответ на мои слова, что я не могу принять их позицию, она поинтересовалась, не возвращаюсь ли я к себе – мой дом был в получасе езды от них. Я ответил, что еду в Салем. Она сразу поняла, что это значит, ее глаза расширились от внезапной догадки, а может быть, гнева. «Не надо сравнивать это с ведьмами!» – сказала она. Я заверил ее, что еще не решил, буду ли писать пьесу, и еду просто покопаться в архивах. Мы грустно помахали друг другу, когда я отъезжал.
Выехав на дорогу, ведущую на север, я подумал, что Молли, пожалуй, была права, говоря о людях, живущих в уютных домиках у шоссе, и испытал такое чувство, будто сам нахожусь по другую сторону. Странное ощущение усиливалось оттого, что внутри привычно боролись противоречивые настроения: я по-прежнему любил Казана как брата, хотя отчетливо сознавал, что он пожертвовал бы мною, если бы ему это было надо.
В каком-то смысле я ехал в Салем совершенно безоружным, будучи еще не в силах смириться с самым заурядным опытом человечества: борьба интересов делает смертельными врагами даже супругов, а родителей превращает в бездушных надзирателей, если не мучителей собственных детей, и этому нет ни конца ни края.
Я уже понял из того, что успел прочесть: настоящая беда старого Салема заключалась в том, что эти люди отказали друг другу в милосердии. Капли моросящего дождя стекали с ветрового стекла прямо мне в душу.
Салем в те времена был заштатным провинциальным городком. Он возник на соляных копях к югу от Плимута и во время всеобщей индустриальной модернизации, предпринятой в предыдущем поколении, оказался обойден. Омываемый холодным заливом, он в тот студеный с непроглядной изморосью день сползал к воде как брошенная собака. Мне он понравился, понравилась его угрюмая таинственность. Я отправился в здание суда и попросил из городского архива тома за 1692 год. Пришлось несколько минут подождать, пока дежурный выдавал точно такие же тома за последние три-четыре года двум агентам по недвижимости, искавшим акты какой-то сделки. В комнате было тихо, и, пристроившись около высокого окна, сквозь которое падал неяркий свет, я засмотрелся на воду – по крайней мере так мне теперь вспоминается, – тяжелую воду стального цвета, на которую точно так же, наверное, смотрели приговоренные около виселиц на горе Ведьм – том месте, о котором почти не сохранилось сведений.
Я мало что надеялся почерпнуть из судебных бумаг, но было интересно окунуться в язык, на котором велись допросы, в ту неприкрашенную манеру разговора, которая поразила слух и через десять лет стала предметом переписки с Лоренсом Оливье, в своей превосходной лондонской постановке «Салемских ведьм» попытавшимся придать речи актеров особую окраску. После долгих сомнений он остановился на нортумберлендском диалекте, на котором говорят не разжимая рта. Я слышал его, читая судебные реестры, где орфография запечатлела отрывистую речь на шотландский манер. В импровизированной стенографии присяжных со священниками, которые вели записи, слова оказались весьма точно зафиксированы фонетически. И, просидев, проговаривая их, несколько часов, я воспрял духом, поняв, что это можно использовать в пьесе, и полюбил этот язык, напоминавший твердое отполированное дерево. Я даже придумал несколько грамматических форм вроде двойного отрицания, встречавшегося в судебных записях много реже, чем в моей пьесе.
«Еду мимо его дома, вдруг телега прям сама останавливается, – свидетельствовал истец. – Вижу, он стоит у окна и смотрит; отвернулся, и колеса сами поехали». Заколдованная взглядом телега. И масса других ярких эпизодов, которые вставали как кадры: на постели человек; приподняв голову, он видит, как в комнату вплывает через окно женщина, чтобы возлечь на него не иначе как всем телом. Читать эти показания на берегу залива было совсем не то, что в Нью-Йорке. Легче верилось, что все это происходило на самом деле. Здание суда закрывалось в пять часов, и в провинциальной глуши ничего не оставалось, как побродить по улицам городка. Смеркалось, когда я подошел к кондитерской, около которой гурьбой стояли подростки, и услышал их заразительный смех – из-за угла верхом на метле вприпрыжку появились две девчонки. Подумалось: откуда они узнали, что я здесь? В те времена Салем не любил вспоминать о ведовстве, не видя в этом особого предмета для гордости. Только после появления «Салемских ведьм» эта тема начала активно использоваться для привлечения туристов. Улицы запестрели указателями: вот здание суда, где проходил процесс, тут был арестован тот-то, там были допросы, здесь обвиненные были повешены.
Однако в те времена, когда я совершал вечерние прогулки по городу, массачусетские законодатели не удосужились выразить сожаления по поводу невинно убиенных и два с половиной века спустя взирали на подобное предложение как на оскорбление чести штата. В них говорила та же гордыня, что когда-то не дала салемскому суду признать правду как она есть. Все шло на пользу пьесе, ибо ложилось одно к одному.
Как любые судебные материалы, документы провоцировали массу недоказуемых предположений о так называемых закулисных отношениях. На следующий день я отправился в крошечное здание местного Исторического общества, где распугал тишину и озадачил двух ветхих старушек-хранительниц, сурово посмотревших на меня с плохо скрытым изумлением: у них почти не было посетителей. Я раскопал написанную вполне в духе девятнадцатого века книгу Чарлза Апема «Салемское ведовство», где на другой день нашел описание печальной истории, ставшей стержнем моей пьесы: развал брака Проктора и показания против Элизабет некой Абигейл Уильямс, желавшей ее смерти, чтобы воссоединиться с Джоном, с которым, как я понял, она спала, будучи до того, как ее выгнали, служанкой в доме Элизабет.
«Когда Элизабет Проктор вызвали в суд, Абигейл Уильямс и Энн Патнам хотели ударить ее, но сжатая в кулак рука Абигейл разжалась сама собой и, приблизившись к капюшону вышеозначенной Проктор, лишь слегка коснулась его сильно растопыренными пальцами. Тут же Абигейл вскрикнула, что она обожгла пальцы, пальцы, свои пальцы…»
Ирония этого восхитительного отрывка таится в том, что он принадлежит перу преподобного Пэрриса, того самого, который старался доказать, что поразивший девочек недуг серьезен, а потому люди вроде Элизабет Проктор очень опасны.
Однако когда сознанием овладевает страх, ирония, будучи парализована, исчезает. Ирония действительно величайший дар примирения. Стало понятно, что Пэррис написал о девочке-подростке, которая, испытывая радостное возбуждение убийцы перед ударом, обернулась взглянуть в лицо бывшей хозяйке, замахнувшись не просто на, свою жертву, жену любовника, пытающегося откреститься от нее, но на общество, которое, аплодируя, наблюдало за поступком этой безудержной отваги, освобождавшей его от грязных грехов. Больше всего меня поразил рикошет идеи «очищения», когда, пытаясь избавиться от собственной низости, человек проецирует ее на других и хочет смыть их кровью. В частной переписке тех времен мне несколько раз попадалась фраза: «Теперь никто не может чувствовать себя в безопасности».
Идея превратить это множество человеческих трагедий не в рассказ, а в пьесу заворожила меня. Единственное, чего я опасался, так это не умалить драматизма событий, представших подлинно библейской историей. Я то укреплялся в этом решении, то сомневался, ибо уяснил для себя только внутреннюю связь событий, не найдя тему и не выстроив композицию, а одного желания написать пьесу, как известно, достаточно лишь для того, чтобы обречь ее на провал. К тому же у меня не было никакого желания поучать: я понимал, что во всем этом сквозил голос не только эпохи, но моей собственной жизни.
Как-то днем, просидев несколько часов над рукописями в Историческом обществе, где, кроме меня, никто не нарушал полудрему двух старых хранительниц, я встал, чтобы уйти, и тут заметил на стене несколько окантованных гравюр с изображением процесса над ведьмами. Судя по всему, художник, который их делал, был очевидцем событий. На одной из них сквозь высоко расположенное под сводами окно свет падал на бледное, без кровинки, лицо судьи с длинной, до пояса, бородой и воздетыми в ужасе руками, будто он защищался от судорожно бьющихся у его ног девушек, в которых вселились бесы, а они кричали и царапались в схватке с невидимыми мучителями. На заднем плане можно было различить несколько темных фигур, среди которых угадывались отшатнувшиеся в праведном гневе мужчины с такими же, как у судьи, бородами. На меня вдруг нахлынули воспоминания о танцевавших в синагоге на 114-й улице стариках, за которыми я подглядывал сквозь пальцы: и там и здесь то же хаотическое движение тел. На картине – испуганно отпрянувшие при виде сверхъестественного события взрослые, в моей памяти – более радостное, но не менее глубокое переживание; а в сущности, оба пугающе тесно связаны со всевластием Бога. Я тут же увидел их связь: неистовый фанатизм евреев и клановая оборона от любых посягательств извне. В этом прозрении мне открылась трагедия Салема, ставшая моею собственной. Я не знал, смогу ли преобразовать эту груду разношерстного материала в пьесу, но он стал моим, и можно было начинать ходить по кругу, внутри которого должна была подняться конструкция пьесы.
Я покинул Салем во второй половине дня ближе к вечеру, когда шестичасовой выпуск новостей по радио совпал с наступлением темноты, балахоном опустившейся на лобовое стекло машины. Дождь моросил не переставая. Диктор сообщил, что Элиа Казан дал показания в сенатской Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, и зачитал имена тех, с кем он был прежде связан, – среди них не было никого из знакомых. Я успел забыть о Казане, погрузившись в историю давно минувших дней. Голос диктора бесцеремонно, назойливо возвращал к тому, что и так причиняло боль. Я подумал, что этому делу стараются придать политическую окраску, хотя оно было чем-то совсем иным, чему я не мог найти названия.
Я ехал в Нью-Йорк, возвращаясь в большой мир. Все во мне оцепенело. Через полчаса по радио повторили сообщение об Элиа Казане. Лучше бы они помолчали. Стало неловко не только за него, но за всех нас, кто знал это чувство, которому сейчас так трудно было подыскать название, – пожалуй, солидарность как своего рода реакция на отчуждение. Политическая подоплека не играла здесь почти никакой роли. Мы поклонялись одним и тем же героям, одним и тем же мифическим борцам. Возможно, в этом заключалась вся суть: мы отождествляли лучшее в себе с храбрыми мужчинами и женщинами, начиная от героев испанской войны и кончая немецкими и итальянскими антифашистами – людьми, ставшими жертвами своего времени.
То, что являлось никчемной комедией, преподносилось как высокая драма. Поскольку Комиссия знала имена, не было необходимости ничего рассекречивать – разыгрывалось некое условное действо, в котором никого не посылали на виселицу и не лишали жизни. Все оставалось на своих местах, только дышать стало труднее и жизнь катастрофически теряла смысл – отрекаясь от дружбы, люди предавали тех, кого продолжали любить.
Подъезжая к Нью-Йорку, я, как всегда, ощутил, что приближаюсь к чему-то эфемерному и в то же время сверхреальному. Я катил по мокрому блестящему асфальту к Бруклинскому мосту, когда, бросив взгляд на спидометр, заметил, что еду все медленнее, словно боясь расплескать, потерять ту правду, которая скопилась внутри. Я понял, что пьеса целиком захватила меня, и где-то по пути между Салемом и Нью-Йорком решил, что напишу ее.