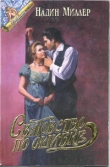Текст книги "Наплывы времени. История жизни"
Автор книги: Артур Ашер Миллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 49 страниц)
В те времена я еще не мог разобраться, но чувствовал, что Депрессия только отчасти связана с деньгами. Скорее это была моральная катастрофа, неожиданный взрыв, открывший ложь и лицемерие за фасадом жизни американского общества. Вот почему для тех, кто тогда, как и теперь, придерживался левых взглядов, факты играли второстепенную роль. Ничто так не ослепляет и не порождает иллюзий, как моральное осуждение. Отрочество своего рода болезнь, которую излечивает время, подвижная плазма, которая не имеет формы, но, если это совпадает с тем, что общество в этот момент тоже теряет форму и старые авторитеты оказываются низвержены и отринуты, единственной возможностью повзрослеть остается радикализм. Объявляя, что все существующее ложно и тщетно, марксизм расчищает площадку для возведения новых симметричных структур, олицетворяющих освобождение закованных в цепи сил разума, на которые он делал и делает ставку. Выступая как враг религии, марксизм затронул в моей душе те струны, которые затронула вера, открыв возможность присоединиться к числу избранных, что всегда увлекает религиозные массы. Спящие пробудились, их пение – глас будущего; когда их призовут, они принесут не мир, но меч. Через два десятилетия после той роковой игры в мяч я, копаясь в архивах салемского Исторического общества, просматривал материалы судебных дел за 1692 год, как вдруг отчетливо услышал голоса судей-вешателей, которые едва ли разобрал бы, не переживи я чувство восторга от сознания, что являюсь носителем абсолютной истины. Более того, я вообще бы никогда не добрался до Салема, если бы не встретился с Марксом во время той игры в мяч.
Ощутив, что такое дух истины, я дома стал просто невыносим, пока кто-нибудь из домашних не соглашался выслушать мои длинные тирады. Однако отец постоянно впадал в дремоту, а брат, разделяя мои взгляды в общем и целом, был слишком занят делом спасения отца, которого романтически представлял падшим колоссом. Кермит все же намеревался восстановить фамильное состояние или хотя бы какую-то часть его, прежде чем капитализм совсем отомрет. Это представлялось отдаленной перспективой, ибо все знали, что с предложением национализировать банки к Рузвельту обратились не радикалы, а именно Ассоциация банкиров, которые были уже не в силах контролировать ситуацию. Конечно, это выглядело немного странным на фоне революционных событий двадцатого века, но мы были не одиноки, легковерно допуская возможность одновременного толкования реальности в разных ключах. По мере того как становилось ясно, что это не отступление капитализма начала двадцатых годов, и настойчивые призывы Рузвельта к новоиспеченным государственным конторам способствовать разрешению наиболее острых проблем безработицы не давали видимого эффекта в виде роста объема продукции, вопросы глубоких социальных изменений перестали быть достоянием интеллектуальной среды и превратились в расхожую тему дня. Дальше так продолжаться не могло. Есть предел тому, сколь долго корабль может пролежать в дрейфе, ибо наступает момент, и команда, устав, начинает изыскивать возможность надуть паруса.
Хозяина скобяной лавки, известного в округе тем, что ему перевалило за тридцать, а он не был женат, никто не именовал «Глик» или «Гарри», а только «мистер Глик». В Бруклине, по крайней мере в этом районе, все были женаты. Но рыжий, физически крепкий, если не считать близорукости, мистер Глик, казалось, был полностью удовлетворен своим холостяцким бытом: он жил в квартире над собственной лавкой на М-авеню, где сам жарил себе рыбу. Когда торговля не шла, он любил расположиться у входа на солнышке на складном стуле и, кивая, иронически подмигивать вслед прохожим, едва заметно улыбаясь. Все лавки в округе давно были закрыты, а его скобяной магазинчик еще дышал. Наверное, потому, что Глику несли ремонтировать старые вещи. У меня к тому времени возник жадный интерес к инструментам, и я любил околачиваться там вместе с другими ребятами, среди которых выделялся Сэмми-монголоид, самый близкий ему по духу человек. Ему тоже перевалило за тридцать, и он знал всех, кто ютился в маленьких домах по соседству, но называл их не по именам, а по номерам телефонов.
– Слышь, Дьюи девяносто шесть пять пять семь, а?
– Чего?
– Да замуж выходит. За Наварру восемьдесят три два восемь ноль.
На что Глик, делая вид, будто возмущен, отвечал:
– Надо же, а куда Эспланаду семьдесят четыре пять семь девять дели, а?
– Да их уже незнамо сколько не видели вместе.
– Не знаю, не знаю, – отвечал Глик, – мне как раз сказали, что Дьюи девяносто шесть пять пять семь ходит с Наваррой восемьдесят три два восемь один.
– Скажешь тоже! Три два восемь один – девчонка!
– Вот еще выдумал, девчонка! С каких это пор?
– Ну дает, с каких это пор! Все с тех же!
У Сэмми появлялось такое выражение лица, будто он вот-вот расплачется, но Глик был неумолим и не отступал, не доведя разговор до последнего. В таких поддразниваниях проходил весь день. И пока я не понял этого, неизменно, проходя мимо его магазинчика на 5-й улице, попадался на один и тот же вопрос:
– Как там на 3-й улице, идет дождь?
– Да нет, там, как здесь.
– Надо же!
Женщины представляли для него заветный плод – он любил подтрунивать над их легковерностью. Этот район напоминал большую деревню, границы которой были скрыты для посторонних, но при этом оставались не менее устойчивыми и прочными. В основном все занимались тем, что пребывали в переживаниях, по крайней мере большинство было озабочено этим значительную часть дня. По тротуару ходили в шлепанцах, ибо не привыкли надевать обувь, отправляясь к соседу за бумажной салфеткой или банкой сардин. В теплую погоду домохозяйки выплывали неглиже в распахивающихся халатах, что вызывало у Глика прилив остроумия. Мы с мальчишками с непроницаемым видом подыгрывали ему при этом, как могли.
В мастерскую заходит женщина с электрорашпером, бросает его на стойку и говорит:
– Он не работает.
– Как – не работает?
– Что значит «как не работает»? Не жарит, мистер Глик, и все, – отвечает она, запахивая неглиже.
– Может быть, вам холодно? Я подпущу тепла. Как-никак, вы у меня дома.
– Какой там «холодно», на дворе июль!
– Извините, когда я вижу вас, я все забываю. Так что у нас произошло с рашпером? Вы говорите, не жарит?
– Да, он не нагревается.
Глубоко и многозначительно глядя ей в глаза, Глик говорит:
– И вы не знаете, что с ним делать, чтобы согреть его?
– Послушайте, мы говорим об электрорашпере.
– Конечно, дорогая. Неужели вы забыли, что я советую делать в такой ситуации?
– Я так и сделала – я вставила его в розетку.
– Ах, вы все-таки вставили? – Он еще ниже склоняется над ее вырезом.
– Он немного нагрелся, и все.
– Скажите, что на вас было в тот момент?
– Как – что? Какой-то халат!
– Электрорашперы, понимаете ли, весьма чувствительны.
– Может, они чувствительны, но я не собираюсь готовить без ничего.
– Вы не поверите, если я расскажу, что происходит у нас в округе. Ко мне уже приходили с жалобами несколько женщин – только, пожалуйста, без имен – и, стоя вот здесь, на вашем месте, клялись, что, когда готовят, снимают с себя все до нитки.
– Кто это к вам мог приходить?
– Ну вот, теперь ее интересует, кто приходил. Блондинки, брюнетки, шатенки – и все жарят без ничего.
– Вы что, с ума сошли! По-вашему, я должна жарить голая?
– Это как вы решите. Скажите, что вы туда совали?
– Что я совала? Котлеты, гамбургер…
– Ах, гамбургер!
– Гамбургер. А что?
С глубоко опечаленным видом он, покачав головой, поворачивает жаровню и указывает на номер страховой компании.
– Видите, на конце цифра девять? Знаете, что это означает?
– Нет, откуда я знаю?
– Если страховка кончается на девятку, значит, нельзя жарить гамбургер. Но ради вас, – продолжает он, не давая ей возразить, – я пойду и сию же минуту его поменяю.
– …Да я ничего такого не делала.
– Дорогая, такая женщина, как вы, не может сделать ничего этакого.
Доставая новый электрорашпер, он становится серьезным.
– Это улучшенная модель, можете спокойно ею пользоваться не одеваясь.
– Вы что, с ума сошли? Я себе такого никогда не позволю.
Он прерывает ее знакомой иронической усмешкой:
– Не принимайте близко к сердцу, не заставляйте меня страдать.
Обескураженно улыбнувшись, она говорит:
– Страдать из-за меня?
– Да, ведь у вас муж?
Она наконец все понимает, дает ему легкую пощечину и, прихватив под мышку новую жаровню, удаляется, шаркая домашними шлепанцами.
Через несколько лет я весной шел мимо скобяной лавки из колледжа и увидел мистера Глика на прежнем месте с коляской, а в дверях стояла такая же рыжая, как и он, невысокая коренастая женщина. Еще раз мне довелось побывать здесь через много лет, когда Гарри Раски снимал обо мне для Си-би-эс документальный фильм. Магазинчика уже не было. На его месте стоял доходный дом, да и на нем уже лежали следы времени.
Мелкие торговцы вроде мистера Глика большую часть времени проводили перед своей лавочкой в ожидании посетителей. И все равно они были счастливцы, ибо вокруг поперек пустующих витрин красовалось «Сдается внаем» и не было жилого дома, где бы не висело объявление о наличии пустующих квартир. Семьи росли, женатые дети возвращались к родителям уже со своими собственными детьми. По соседству разыгрывались острые футбольные баталии, в которых участвовали ребята лет двадцати и старше – те, кто потерял работу, а то и надежду ее обрести. Они целыми днями гоняли мяч, как подростки, покупая по одной сигарете «Кэмел» или «Лаки» по центу за штуку в кондитерской у Рубина на М-авеню. Церемоний, связанных со вступлением в совершеннолетие, люди старались не замечать. Когда я заканчивал в 1932 году школу имени Авраама Линкольна, мои родители не пришли на выпускной вечер. Но я и не ждал их, ибо, получив среднее образование, стал всего лишь одним из многих в длинной очереди безработных. Поговаривали, что устроиться продавать галстуки у Мейси можно было, только имея степень магистра.
Если существует типично национальное времяпрепровождение, то люди тогда предпочитали околачиваться на улице, стоя где-нибудь на углу или посреди пляжа в ожидании, не появится ли что-то из-за поворота. По вечерам, еще когда я не осознавал и не стеснялся сам себя, мы с полудюжиной приятелей собирались около аптеки Дозика и пели новомодные шлягеры, порой соревнуясь, кто споет лучше (за пару центов можно было купить по-пиратски размноженные на мимеографе слова какой-нибудь новейшей песенки). Когда мне исполнилось пятнадцать, это развлечение стало казаться детским, но в нашей компании я имел репутацию непревзойденного комика и импровизировал, подражая «Трем знаменитым конферансье», к которым даже тогда мы относились с некоторым пренебрежением, как бледной тени «Братьев Маркс». У нас была своя сыгранная футбольная команда, и один из полузащитников, громила с тяжелым подбородком по имени Изя Леновиц, с которым никто не любил связываться из-за его железных коленок, мог хлопнуть меня по тощей спине, попросив: «А ну, Арти, выдай-ка». И я отважно придумывал какой-нибудь монолог, обреченный просуществовать не более пяти минут. Не отдавая себе отчета, я не раздумывая отчуждался от самого себя и покидал толпу зрителей, чтобы встретиться с ними один на один.
За исключением мамы и брата, как я уже говорил, не помню, чтобы кто-нибудь добровольно брал в руки книгу, ибо в этом не было никакой насущной необходимости. Ребята по соседству интересовались совсем другим, в основном как бы заполучить какую-нибудь девчонку, невинную жертву мужского сластолюбия, – в то время в нашем районе обитала некая Мария Костильяно лет тридцати, с огромной грудью, похоже, немного дурочка. Поговаривали, что, если прийти к ней с коробкой конфет от Уитмена, она на все соглашалась и все разрешала. Так это или нет, но на улице над нею хихикали, и она время от времени останавливалась и начинала кричать на какого-нибудь мальчишку-обидчика. Однажды в подвале я застал ребят из нашей футбольной команды, когда они занимались мастурбацией, но это противоречило идеалам, которые, на мой взгляд, нас объединяли, не говоря о том, что я был слишком застенчив, чтобы присоединиться к ним. Кроме того, я предпочитал мечтать о женщинах наедине.
Мама записала меня в среднюю школу на год раньше окончания начальной, и меня все время преследовала мысль, что я от всех отстаю, по крайней мере на один год. Наверное, для того, чтобы доказать обратное, я умудрился, несмотря на тощее, нескладное телосложение, попасть в старших классах школы имени Авраама Линкольна во второй состав футбольной команды. Я быстро бегал, а длинные руки помогали ловко ловить мяч. Но с весом в сто двадцать фунтов меня легко блокировали на поле ребята фунтов на пятьдесят потяжелее. Во время игры я боялся удара в лицо и специально тренировался, бросаясь на ногу противника, которую, по счастью, обычно не мог ухватить. Однажды во время серьезной потасовки с командой первого состава я, зажмурив глаза, бросился на нашего защитника номер один, невысокого гнусного проходимца, которому прочили большое футбольное будущее. Случайно уцепившись за ногу, я сильным ударом повалил его, что удивило не только всех остальных, но больше всего меня самого. Когда мы поднялись, он съездил мне по шее, но дать сдачи я не успел. Принимая через несколько минут пас, я был атакован, и меня повалили, так что порвалась связка, и колено долгие годы не разгибалось, невозможно было распрямить ногу без сильной, обжигающей боли. Из-за этой травмы меня через восемь лет освободили от службы в армии.
* * *
Я всегда был уверен, что я плотник и механик. В возрасте четырнадцати или пятнадцати лет я накупил на свои с трудом заработанные двенадцать долларов – за доставку хлеба мне платили по четыре доллара в неделю – строительных материалов и решил пристроить заднюю веранду к нашему небольшому дому на 3-й улице. За помощью я обратился к одному из своих дядюшек, которые в начале тридцатых годов осели со своими семьями в Бруклине. В те времена район Мидвуда еще не был застроен, и они могли наблюдать, как их дети вышагивают за двенадцать кварталов по заросшему кустарником пустырю в школу. Мои родственники – Менни Ньюмен и Ли Болсем – были коммивояжеры и в отличие от нашей семьи имели каждый столярные инструменты, которыми орудовали по выходным у себя дома. Одолжить молоток, однако, мог только Ли, поскольку к подобной работе не относился серьезно. Менни придерживался иной точки зрения и вообще никому не одалживал своих инструментов. Эта принципиальность нередко приводила к тому, что он мог на глазах отречься от очевидного, вроде лопаты, висевшей за его спиной на стене гаража, где он любил, сидя в нижнем белье, в теплую погоду резаться с соседями в карты.
Ли Болсем, сама доброта, обладал мягким голосом и слабым сердцем, отчего двигался неспешно и осторожно. Мы засели за чертежи. Веранда получилась не сразу, а по окончании строительства стало ясно, что она не стыкуется с домом. Тем не менее мое сооружение простояло добрых два десятка лет, дюйм за дюймом медленно сползая в сторону от кухни. В те дни я впервые пережил лихорадку созидания: ложась спать, не мог дождаться утра. Это чувство вновь вернулось ко мне холодным апрельским утром 1948 года, когда я занялся постройкой мастерской рядом со своим первым домом в Коннектикуте, собираясь написать пьесу о коммивояжере. Мысль оставить после себя реальный след на земле никогда не теряла для меня своего очарования. Люди среднего достатка, как правило, пренебрежительно относятся к физическому труду, и мне не очень понятно мое собственное пристрастие к нему, так же как симпатия и уважение к его представителям.
В двадцатые годы, когда Миллеры на своем лимузине приезжали с Манхэттена навестить Ньюменов и Болсемов, найти их жилье не представляло труда: вместе с четырьмя другими сдвоенными деревянными домишками, покрытыми плоскими крышами, с крылечками в три ступени они составляли улочку, упиравшуюся в пустырь с высокими тополями, папоротниками и дикими розами, где множество протоптанных тропинок заменяли жителям асфальтированные улицы и тротуары. Ближайший магазин находился в двух милях, поэтому картошку закупали стофунтовыми мешками; сами консервировали выращенные на собственном участке помидоры; подвалы здесь в отличие от манхэттенских, с их неизменным запахом кошек, крыс и мочи, всегда пахли землей. До переезда в Бруклин обе семьи несколько лет жили в небольших городках на севере штата Нью-Йорк и потому немного гнусавили и говорили с твердым раскатистым «р», что особенно было заметно у женщин. Они отличались от ньюйоркцев провинциальной размеренностью мысли, любовью к посиделкам и твердой уверенностью в том, что они настоящие американцы. Они дружно жили с соседями, среди которых было немало семей нееврейской национальности, и в отличие от манхэттенских евреев никогда не приглашали домой ни кровельщиков, ни водопроводчиков, справляясь с этой работой сами.
За порядком в доме у Ли и его жены Эстер следили до замужества три их дочери. Повязав головы пестрыми шелковыми платками, они, казалось, только и знали, что чистили свой небольшой дом, полировали мебель и драили ступени крыльца мыльной водой. Ньюмены, как могли, тоже поддерживали у себя порядок, но в их доме царила сумеречная атмосфера с налетом сексуальности и дремы, лжи, фантазии и какой-то противоречивой непредсказуемости.
Менни Ньюмен был смышлен и уродлив, как вылезший из-под земли Пан: низкорослый, шепелявый, с глубоко посаженными карими глазами, узловатым висячим носом, темной задубелой кожей и заскорузлыми руками. Когда я входил в их дом, он, стоя в рабочем комбинезоне с молотком, отверткой или коробкой из-под обуви, в которой хранился набор порнографических открыток, осматривал меня, словно видел впервые, а если встречался прежде, то не желал делать этого вновь. Он всегда соперничал во всем и со всеми. Ему казалось, что мы с братом составляем постоянную конкуренцию двум его сыновьям. У него было две дочери и два сына. Старшая, Изабелла, несмотря на то что пошла в отца, была настоящей красавицей, младшая, Марджи, хрупкая грустная девушка, отчаянно острая на язычок, сидела взаперти из-за мучившей ее гнойничковой сыпи. Но даже ей непозволительно было терять надежду, и в этом, как я понял позже, заключалась вся суть особого пути Америки: они постоянно жили в ожидании не просто чего-то хорошего, но фантастического, триумфального, в корне меняющего жизнь. В этом доме не знали иронии, его стены сотрясали радостные возгласы торжества по поводу побед, которых не было, но которые обязательно должны были быть. Мальчики станут «орлятами»-скаутами, круглыми отличниками, по утрам будут убирать постель, часто и вдохновенно рассуждать о чести семьи, что не мешало им вместе с Берни Кристаллом и Луисом Флейшманом тут же бежать в местную кондитерскую к Рубину и заговаривать ему зубы, пока их приятели не обчистят выставленную в витрине трехфунтовую круглую стеклянную вазу с дешевыми сладостями. Или же по целым неделям сосредоточенно, как исследователи Южного полюса, будут готовиться к походу на Медвежью гору, чтобы в соответствии с высокими принципами скаутского движения где-то по дороге в харчевне подцепить старую проститутку и, проведя с ней в палатке ночь, утром отказаться платить за двоих, сказав, что как братья они сойдут за одного. Все им завидовали, особенно старшему, Бадди. Он играл в бейсбол, футбол, баскетбол, о нем дважды или трижды писала бруклинская «Игл», и ему требовалось два часа, чтобы собраться на свидание – набриолинить черные волосы, припудрить тальком лицо, ободряюще похлопать себя по животу и скорчить перед зеркалом гримасу, чтобы полюбоваться своими зубами. Как и отец, он был смугл, но чуть повыше ростом, косую сажень в плечах унаследовал от деда Барнета и своей матери Энни, самой подвижной из них, которая безропотно несла на себе весь крест житейских невзгод. Люди сочувствовали ей, когда она, спокойно, ободряюще улыбаясь, чтобы Менни не ощутил себя уязвленным, ласково уговаривала его отказаться от мысли покрасить дом в оранжевый цвет, несмотря на удачную сделку, которую ему удалось заключить во время распродажи на Фултон-стрит, приобретя несколько галлонов этой краски. С дочерьми, естественно, она была построже, год за годом направляя их, как корабли, давшие течь, в гавань замужества, разделяя с Марджи ее печальные заботы о коже и смиряя порывы Изабеллы раньше времени распрощаться с тем, что чуть позже можно будет пристроить повыгоднее.
С Менни я провел в своей жизни в общей сложности не больше двух часов. Однако он был так нелеп, так не вписывался в рамки земных представлений, вечно витал в облаках и со своей уродливой внешностью столь проникновенно-истово верил в то, что семья добьется славы и успеха, что покорил меня, и я жил, не расставаясь с его образом, до тех пор, пока не стал предугадывать реакцию Менни на то или иное событие, слово или жест. Его виртуозные манипуляции с фактами раскрепостили мое воображение, придав ему смелость и резвость. Хотя где-то в глубине всегда оставалась печаль. Менни и Энни считались неудачниками, однако о них судачили больше, чем о других, потому что они сохранили любовь. В свое время дед Барнет был против их брака, и молодые сбежали. Нетрудно было заметить, что они до сих пор волнуют друг друга – сильно раздавшаяся, крупная и широкогрудая тетушка Энни с громким раскатистым смехом и розовым пористым лицом, наливавшимся кровью при приступах гипертонии, от которой она умерла в шестьдесят лет, и дядюшка Менни с огненным взглядом индейца, всегда наполовину витавший в несбыточных грезах. В канун Нового года они приглашали пар семь или десять на праздничный обед, все рассаживались в небольшой комнате первого этажа около топившейся углем печки и ждали, когда хозяин вынесет заветную коробку с открытками. При этом мальчиков отправляли наверх, будто Менни не догадывался, что мы вдоль и поперек давно изучили ее содержимое. Как всегда, такие вечеринки заканчивались игрой в карты. Когда Менни надоедало, он пристраивался, прикинувшись сосущим грудь младенцем, на широких коленях Энни, она смущалась, но не одергивала его. Казалось, их дом в отличие от нашего, Болсемов и других был пронизан чувственностью. У нас все было наполнено светом и воздухом. Ньюмены были тайно одержимы, как будто жили в непотребстве, – но это мои догадки, конечно.
Я был помешан на спорте, однако мои успехи не шли ни в какое сравнение с достижениями его сыновей. Я был долговяз, некрасив, и они относились ко мне свысока, вынуждая, когда бы я ни зашел, выслушивать язвительные замечания вроде того, что у меня в неполные шестнадцать лет нет никакого будущего. Однако это не лишало их дом притягательной и таинственной атмосферы, которой он был окутан в моих глазах. Я всегда приходил туда, ожидая чего-то необыкновенного, какой-то непристойной оргии или откровений иного рода.
Ни один нормальный человек не воспринимал любившего подурачиться Менни всерьез. При этом к нему нельзя было не испытывать симпатии: за сумасбродными фантазиями легко просматривалось отчаяние, скрывавшееся под напускным равнодушием. Сидя за картами у гаража возле висящей на стене за его спиной лопаты, он мог, глядя в глаза, заявить: «Нет у меня никакой лопаты!» Это было в порядке вещей. Именно так воспринимали Менни мой отец, Ли и все, кто играл с ним в карты, – никому бы и в голову не пришло уличать его во лжи. Все знали, что из любого трудного положения он всегда найдет выход, жонглируя фактами. Это вызывало восхищение и тайное желание поступать так же. За ироничным отношением к нему скрывалось если не уважение, то по крайней мере любопытство и зависть к той безудержной дерзости, с которой он пренебрегал общепринятыми нормами. Мне виделось в нем средоточие смыслов, тайных значений и тонких нюансов, редко встречавшихся у остальных: категоричный отказ дать лопату был выражением его сути, духа соперничества, помутившего разум. Своим поведением он говорил: «Почему бы твоему отцу самому не купить себе лопату? Ишь как он важничает и глядит свысока. – Менни был уверен, что каждый консервативно настроенный человек смотрит на него сверху вниз. – С какой стати я должен одалживать ему свой инструмент? Он что, сам не может купить? Преуспел, и ему, видите ли, не до лопат. А чуть что, бегут со своим сынком ко мне разживаться. Лопата денег стоит. Поэтому для Миллеров у меня лопат нет». Самое забавное, что в этот момент он действительно забывал о висевшем у него за спиной инструменте.
От отца, дядюшки Ли и других членов нашей семьи я твердо усвоил, что Менни неудачник, но, как и все, не мог оторвать от него зачарованного взгляда. Игра в джин без него оставалась просто игрою в джин, сборищем за картами дюжины обывателей, обменивающихся новостями о чьих-то операциях, беременностях, затяжных дождях, засухе, о том, кого, когда, где изберут, кто сколотил состояние, кто промотал, сколько зарабатывают в неделю Бинг Кросби и Ли Руди Вэлли. Как правило, в первые же десять минут Менни задавал всему иной тон, бросая фразу, которая становилась темой разговоров на вечер. Однажды он обронил:
– Мой приятель из Провиденса говорит, ваш Вэлли побил все рекорды, за два последних представления взял тридцать миллионов.
– Как – тридцать миллионов?
– Так, тридцать миллионов, не считая дневных спектаклей.
Забыв о картах, все бросились подсчитывать возможное количество мест в партере, чтобы поделить на них тридцать миллионов, но устали, прежде чем кто-то заявил, что это явная несуразица и такого вообще быть не может. Однако Менни уже успел шуткой перевести разговор на другое, сопровождая доверительный тон такими уморительными гримасами, что зрители терялись в догадках, насколько серьезно им воспринимать происходящее. К концу игры за столом возникала атмосфера радостного возбуждения, что примиряло всех с этим непоседливым маленьким существом. Весь вечер светлая кожа его жены то вспыхивала, то бледнела в зависимости от того, замирала Энни или облегченно вздыхала, волнуясь, не слишком ли Менни корчит из себя дурака. Она знала, что расплачиваться за все придется ей, когда, оставшись наедине с собой, он будет судорожно бороться с собственной неуверенностью, пытаясь обрести внутреннее согласие. В такие моменты она садилась с ним в машину, которая еле обогревалась зимой, и они отправлялись по Новой Англии. Она всю дорогу болтала, стремясь хоть немного отвлечь его от тяжких мыслей. В те времена широких автомагистралей еще не существовало, и, проезжая через провинциальные городки, им приходилось тормозить у каждого светофора. На случай, если придется разгребать сугроб, Менни возил в багажнике лопату на коротком черенке – покрышек с шипами не знали, а снег в городах убирали только после больших заносов.
Непредсказуемые выходки Менни создали вокруг него некий романтический ореол. Он нигде не служил, поскольку на официальной работе нельзя было мечтать сорвать большой куш. Менни жил надеждой и каждый раз, отправляясь в поездку, верил в ее счастливый исход, что еще больше отрывало его от действительности. Когда я через пятьдесят лет ставил «Смерть коммивояжера» в Пекине, Инг Руоченг, исполнитель роли Вилли, решил придать этому «романсу надежды» китайское звучание – в Китае торговля не считалась достойным занятием и вряд ли могла послужить предметом для воспевания. Инг вспомнил, что в стародавние времена для сопровождения караванов и защиты от разграбления в стране существовала специальная верховая охрана. Жизнь этих людей была исполнена приключений и опасностей. Встречаясь, пестрая братия наемных стражников нередко тешила себя рассказами о былых победах и неудачах. С появлением железных дорог нужда в их услугах отпала, и они разбрелись по мелким ярмаркам, развлекая народ меткой стрельбой и заглатыванием сабель. Чтобы забыться, они тянулись к спиртному точно так же, как это произошло с прославленным американским охотником на бизонов Биллом Буффало, когда животные были истреблены.
Конечно, у Вилли Ломена был не один прототип. Я слишком мало знал Менни, даже в юности он был для меня полуявь, полусон. Однако встречаются натуры, чей образ, не обладая конкретностью, несет могучий осязаемый заряд, становясь источником творческого вдохновения.
Более яркое впечатление оставил его друг, коммивояжер, с которым он однажды вместе вернулся из поездки. Снедаемый любопытством узнать, что происходит в зачарованном доме, я в ходе очередной вылазки к Ньюменам столкнулся с ним на кухне. Его лицо запомнилось во время одной из былых встреч, однако я был уверен, что он едва ли вспомнит какого-то пацана.
– Как дела, Артур? – остановил он меня, не дав прошмыгнуть в гостиную.
Я замер и оглянулся. Две вещи в нем поражали меня: несмотря на солидный возраст, он не был женат и у него была деревянная нога, лежавшая в этот момент отдельно поперек стула. В отличие от Менни этот несуетливый угрюмый человек с насмешливыми карими глазами, поредевшей шевелюрой и задумчивым взглядом умел слушать. Представив себе его культю, я испытал чувство боли и подумал, что у него, наверное, от этого такой усталый и измученный вид. Я знал, что ему нельзя водить машину и приходится ездить на поездах, стоически, как раненому солдату, борясь с чемоданами и носильщиками. Как и в любом коммивояжере, мне чудилось в нем что-то героическое, ибо он не сдавался на милость неудач, неизбежно сопутствующих бесконечным попыткам сбыть товар. Коммивояжеры в чем-то сродни актерам: как и артисты, они в первую очередь продают себя, мечтая о признании мира, который едва замечает их. Некоторым удается добиться своего, и по тоненькой ниточке грез, рожденных воображением, они взмывают на вершину успеха. Это происходит довольно часто, иначе не имело бы смысла вести игру.
– Все в порядке, – учтиво ответил я.
И замер, не зная, что делать, пока его усталые глаза изучали мое лицо. Испытывая неловкость, я старался отвести взгляд от его искусственной ноги, которая вместе с уставившимся в потолок ботинком лежала тут же на стуле.
– Ты изменился, – сказал он, – стал как-то серьезнее.
В одной фразе ему удалось определить суть всей моей жизни. Спеленутый временем, беспомощный, как листок на воде, я, как и все вокруг, был до этого некой застывшей данностью. «Изменился» означало, что я не тот, каким был. Это окрыляло, хотя я не знал почему. После этой встречи я еще долго прокручивал в голове его слова, пытаясь понять, в чем изменился. Я изучал свое отражение в зеркале ванной, стараясь угадать признаки этой серьезности, вспоминая, как выглядел, прежде чем они проступили на моем лице. Я забыл имя коммивояжера, но помню запавшие в душу слова, ибо они помогли разорвать оболочку иссушающей субъективности, в которую было погружено мое существование.