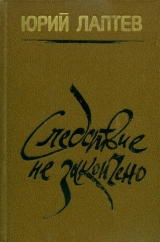
Текст книги "Следствие не закончено"
Автор книги: Юрий Лаптев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 49 страниц)
– Хозяева! – в третий раз, но уже негромко позвал Небогатиков, затем бочком подобрался к приемнику.
«К концу месяца еще двести пятьдесят семей светоградских нефтяников переселятся из бараков в новые благоустроенные квартиры…»
Митька несколько секунд стоял около приемника, нерешительно шевеля руками, затем схватил деньги, судорожно засунул их в карман и, ступая на цыпочках, удалился.
«Они хотят жить хорошо и будут жить хорошо – хозяева молодого города, хозяева всей обновленной русской земли!» – возгласил диктор вслед Небогатикову и навстречу входившей в комнату с ведром и тряпкой Елизавете Петровне.
– И не надоест тебе, пустомеля, горланить? Ведь только и слышишь – хозяева! Хозяева… Да таким хозяевам дай волю – растрясут по кирпичику все хозяйство… А то – пропьют.
Елизавета Петровна выключила приемник и начала убираться. Запела неожиданно свежим голосом:
Жил юный отшельник, он, в келье молясь,
Священную книгу читал углубясь…
Трудную и – что обиднее – довольно бесцветную жизнь прожила Елизавета Петровна. И не случайно ее племянник, сын Кузьмы Петровича Андрей, однажды высказал такие слова:
– Вы, тетя Лиза, просто удивительная женщина! Ну как это можно: прожить полвека среди наших советских людей и… ничего не увидеть? Даже смешно!
Тогда эти слова до слез обидели Елизавету Петровну.
– Смешно?.. Ну, спасибо, племянничек, за открытое слово. Верно ты сказал: да, долгую жизнь прожила твоя смешная тетка на белом свете. А начни вспоминать – вроде и не было ее, той жизни. Словно горох по пыльной дороге рассыпала, дурочка, все свои деньги. А ведь была когда-то… Да хочешь знать, я даже альбом со своими фотографиями в печку сунула – чтобы молодость свою не оплакивать! Нет тяжелее подвига, чем ухаживать за больными, – это и в священном писании сказано, а я, почитай, до тридцати лет по неделе в зеркало не заглядывала. Ведь бабка-то твоя, а наша с Кузьмой мамаша больше шести лет лежала недвижимо, вечный покой страдалице Пелагее! А кроме мамаши два брата несовершеннолетних оказались на моем же девичьем попечении – Кузьма и дядя твой Петр Петрович, – обшей, накорми, обштопай!.. Потом война. И за что на русских людей господь наслал такое испытание! То есть у всех жизнь перекосилась, а уж у меня… Сначала брата старшего сыновей-близнецов нянчить пришлось, поскольку супруга его руки на себя наложила, после того как Петрушу безвинно осудили. А когда Москва в его делах разобралась, сам Петр Петрович прямо из лагерей на фронт отправился добровольно.
– Да, дядя Петр у нас несгибаемый! – уважительно произнес Андрей.
– А мы все, Добродеевы, такие! – обидчиво поправила племянника Елизавета Петровна. – Вот и отца твоего взять: всю войну командовал, да и после войны – разве легкое дело поставить такой дом? Ведь он на каменном фундаменте и железом крыт оцинкованным. Сто лет простоит!
– Еще бы. Наш папуля – товарищ оборотистый… «То соломку тащит в ножках, то пушок во рту несет!» – издевательски, как показалось Елизавете Петровне, пропел Андрей в ответ на похвальные слова его отцу.
Ну что от такого племянника ждать?
И Екатерина… Казалось, всем окрестным девчатам пример: скромная, прилежная, к отцу и тетке ласковая, ко всем старшим уважительная, а поманил какой-то щелкопер кудрявый, и дева понеслась, аж подол раздувается! Да, вещие слова сказал батюшка на последней проповеди: «Без веры в божественное начало человек не злаку животворному подобен, но плевелу!» А разве она во что-нибудь верит, теперешняя молодежь?
Погрузившись в невеселые размышления, Елизавета Петровна и про уборку забыла: наверное, минут пять простояла столбиком посреди комнаты, с напряженным безразличием всматриваясь сквозь распахнутую настежь дверь в разбитую перед ступеньками террасы цветочную клумбу. Поэтому даже вздрогнула, услышав веселый голос Кузьмы Петровича:
– Никак и ты, сестра, о женихе возмечтала?
Елизавета Петровна даже не сразу поняла суть вопроса. Уразумев, вознегодовала:
– Побойся бога, Кузьма!
– А его, болезного, уже и собственные слуги не опасаются. Вон вчера, слышь, отца дьякона опять у чужой супружницы застукали. Во гресех!
– Тьфу! – от возмущения у Елизаветы Петровны даже румянец выступил на блекнущих щеках. – Не-ет, надо уходить от греха. Уж если родной брат повторяет срамные сплетни… Уйду!
– Куда?.. Уж не на Афон ли гору? Там, говорят, из таких, как ты, уповальниц монахи организовали целый монастырский совхоз. Все окрестные санатории снабжают будто бы по сходной цене помидорами да виноградом. То ли не ловкачи! – крепкую материальную базу подвели святые отцы под Христово учение: тебе, господи, шлем все молитвы и дым кадильный, а себе оставляем самую малость – только прибавочную стоимость!
– Владычица, прости заблудшим их великие прегрешения! – Елизавета Петровна переложила тряпку из правой руки и левую и, вознеся взгляд к люстре, перекрестилась.
– А деньги куда прибрала?
Житейский вопрос брата сразу вернул мысли Елизаветы Петровны к земному.
– Какие еще деньги?
– Обыкновенные. Вот здесь на приемнике лежали.
– Не было тут никаких денег.
– Елизавета!.. Лоскутников мне только что принес. Две сотенных.
– Да ты что, Кузьма, бог с тобой: смотри, побелел даже!
Елизавета Петровна суетливо заглянула за приемник, под стол. Затем на короткое время замерла, припоминая.
– Постой, постой: то-то мне послышалось, будто кто-то…
Добродеев тоже подошел к приемнику, резким движением руки смахнул с лакированной поверхности на пол кружевную салфеточку, затем грузно опустился в кресло. Натужно зевнул.
– Неужто украли средь бела дня?.. Украли! – Голос Елизаветы Петровны сорвался на крик. – О господи! Надо в милицию позвонить, пусть сыщика пришлют либо собаку. Он еще далеко не ушел, проклятый!
– Кто?
– Жулик!.. Кузьма, да что ты сидишь, будто неживой!
– Присядь и ты, живая! А насчет милиции… Не к чему беспокоить по пустякам уполномоченных людей. А собак – тем более.
– Это что же делается-то! – Елизавета Петровна горестно помотала головой. – Тебя обворовали, а ты – молчи! А чуть что – мы строители новой жизни, у нас…
– Елизавета! – сердито оборвал сестру Добродеев. – Я не хочу слышать у себя в доме такие… противосказания!
– Не-ет, правильно поступали при Петре Великом: ноздри ворюге рвали, на цепь сажали, как пса, черного человека!
– А в Финляндии, слух есть, руку отрубали вору: на первый раз левую, а попался вторично – правую. Тем будто бы и вывели воровство, – уже в обычной своей усмешливой манере дополнил историческую справку сестры Кузьма Петрович.
– Вот, вот, и у нас бы так!
– Скажи пожалуйста: все смирение у благочестивицы из головы выдуло. Ах, молодец!
– Кто?
– А тот, кто сегодня выпьет за здоровье Кузьмы Добродеева. Я тоже на его месте поздравил бы с наступающим днем ангела старого простофилю!
ГЛАВА ПЯТАЯ1
«Товарищи пассажиры и встречающие! Через сорок минут к первому причалу пристани «Светоград» прибывает теплоход «Академик Вильямс», следующий рейсом Астрахань – Москва».
Ометалличенный голос пристанского диспетчера услышали и сидящие под пальмой, в укромном уголке ресторана председатель колхоза «Партизанская слава» Степан Федорович Крутогоров и заведующая молочнотоварной фермой колхоза имени Дзержинского Евдокия Андрияновна Зябликова – женщина крупной стати, ясноглазая и бровастая, сохранившая и к сорока годам приманчивость.
– Видно, не только на нашем колхозном подворье положение выпрямляется, – как бы в ответ на сообщение диспетчера заговорил Крутогоров. – Ведь этот самый теплоход, помнится, сормовичи пустили на плав году в сорок восьмом: в сорок девятом племяш мой, сестры Капитолины первенец, был тогда зачислен в его команду. И имя Вильямса судну присвоили тогда же. Под духовой оркестр. Потом, лет через восемь, мне довелось на нем плыть до Волгограда. Правда, город-то тогда еще Сталинградом именовался, но теплоход уже успели перекантовать в «Антонину Нежданову», поскольку Василий Робертович погорел на овсе и травяных культурах. А теперь, выходит, обратно возвратили судну ученое звание?
– А тебе не все равно, на ком плыть? – усмешливо глядя в лицо Крутогорова, спросила Зябликова.
– Похоже на кадриль: по первому заходу парни танцуют направо, барышни налево, а по второму – под ту же музыку обратно топают, на свои места. Правда, теперь и танцы другие… А ну, Дуся, давай пропустим за то, чтобы на нашем съезде колхозная линия окончательно определилась.
– Вы определите!
Но Крутогоров не обратил внимание на насмешливость. Он степенно вытянул стопку, отер бумажной салфеткой губы.
– Ах, хороша! Аж наискось пошла столичная залетка! Может, это самое… еще затребуем?
– Нет, Степа, – в глазах Евдокии Андрияновны появилась озабоченность. – Ведь меня не в гости прокурор приглашает. Слышал небось?
– Чего?
– О нашем происшествии?.. Ну, насчет Пристроева.
– Как не слышать. Только… ты-то здесь при чем? Парни нахулиганили, с них и спрос.
– Парней моих не трогай! – с неожиданной резкостью возразила Крутогорову Евдокия Андрияновна. – Да хочешь знать, это я на Леонтия еще с пятьдесят восьмого года ремень припасла: когда он в сельхозотделе райкома околачивался и моего Николая ни за что подвел под партийное взыскание.
– Ты?! – Крутогоров от удивления даже привстал со стула. – Вот так номер – поп с гармонью! Отстегать ремнем номенклатурного товарища?!
– Брось, Степан Федорович! – Уже не только глаза, а и все смуглое, резковато очерченное лицо Зябликовой окончательно утеряло сопутствующее застольной беседе благодушие. – Ведь сам Арсентьевич сказал вчера на партийном активе: иную номенклатуру пора сдавать в макулатуру!
– Слова! – Крутогоров поднял пустую бутылку, хитро сощурившись, заглянул через горлышко внутрь. – Да ведь с тех пор как Леонтия Никифоровича по хозяйственным делам запустили, он, сказать не соврать, полдесятка должностей в районе запакостил. Сначала в райпотребе учинил что-то непотребное – поставили на вид. Потом Макарьинский маслозавод, можно сказать, до ручки довел. Тут, правда, Леонтию выговор на бюро припесочили, но, учитывая какие-то старогодние заслуги, пять голосов – за, четверо – против. Потом…
– Вот и выходит, – снова сердито перебила Крутогорова Евдокия Андрияновна, – на словах-то мы все непримиримые, а на деле: господи, прости им, не ведают бо, что творят! Нет, какую же наглость надо иметь, чтобы занаряженный нашему колхозу лес переплавить «Светлому пути»? Не иначе как смиренник Васька Глухов к Леонтию нашел какой-то… светлый путь!
– Да, наш Василий Прокопович насчет этого… – Крутогоров выразительно погладил себя по карману, – ловкач! И меня ведь он – с-сукин сын! – втравил в грязное дельце. Я, понимаешь, к ним в Никульково заскочил на прошлой неделе, семенами вики разжиться, гляжу, у Василия Прокоповича все самотопы в новые галоши обуты, ни дать ни взять старухи к обедне наладились в светлое Христово воскресенье. Откуда? – спрашиваю. Да все оттуда же: известно, на небеси командуют архангелы да космонавты, в Москве – министры, а на закрепленных за колхозами землях хозяйнует тот, кто обеспечивает нас стройматериалами, а нашу могучую технику запчастями да резиной.
– И никуда ты от этого не подашься! – сердито поддакнула Зябликова.
– Слово за слово, – продолжил Крутогоров. – «Вы, – говорит мне Прокопыч доверительно, – козырные председатели, все на высокое начальство уповаете, а того не сообразите, что ключиками-то от складов бренчат не секретари райкомов. Вот, говорит, – между нами слово! – околачивается у нас в районе такой незаметный делок, Яков Семенович Лоскутников». В военное время он будто бы тоже в руководителях ходил где-то за Уралом, чуть ли не областными фондами ворочал. По своему усмотрению! За что и попал на судебную скамейку. Правда, тюрягу ему маршевой ротой заменили. А зря! Такие и от пули рублем загородятся. В общем, только тебе, Дуся, признаюсь: достал я у супруги из комода двести пятьдесят целкашей, своих любезных – прошу обратить внимание!
– А ты не плачь, – на лице Зябликовой появилась заинтересованность. – Небось не последние.
– Надо бы! Да мне только премии за прошлый год… В общем и целом, упаковал я денежки в обертку из-под пряников тульских, – теща у меня такие обожает, – еще и в газетку завернул для неприметности и, как мне Глухов присоветовал, встретился с глазу на глаз и – «вот, говорю, Яков Семенович, известный вам товарищ Непомнящий просил передать должок».
– Ловко действуете. Непомнящие! – Зябликова, как бы прицеливаясь, сощурила один глаз. – Значит, поздравить вас можно, товарищ Крутогоров?
– С чем?
– С удачной покупочкой.
– Черта с два! «Понаведайтесь, – это Лоскутников при той первой встрече мне сказал, – завтра с утра пораньше». А сегодня утречком: «Мой совет, говорит, вам, Степан Федорович, еще раз нажать на «Сельхозтехнику» по партийной линии».
– Совет дельный!
– А то я без него не знал адреса: улица Победы, дом 3. То есть таким лопухом я в ту минуту сам перед собой предстал, прямо как в «Крокодиле» рисуют. В милицию заявить – нет никаких доказательств. Да еще, гляди, тебе же и припечатают!
– Обязательно.
– А за что?.. Разве я для себя старался?
Крутогоров помолчал, сердито уставившись на бутылку, которую машинально вертел в руках. Потом заговорил уже спокойнее:
– Еще хорошо, что Владимир Арсентьевич наш колхоз уважает. Тут же, понимаешь, звякнул по телефону самому Кузьме Добродееву – тоже, брат, персона! Возможно, и это не помогло бы, поскольку план у них в «Сельхозтехнике» вроде заграждения, но на мое сиротское счастье наш район получает из Ярославля сверх плана чуть ли не сто комплектов.
– Да, ловко обкрутили тебя… сиротину бородатую! – с сердитой насмешливостью сказала Зябликова, но Крутогоров не обратил внимания на ее тон.
– Нет, ты, Дуся, растолкуй мне, как наш златоуст Колышкин говорит, в свете марксизма: на кой ляд я к тому огарку подмазывался?
– А это вам с Васькой Глуховым, пожалуй, правильнее растолкует наш уважаемый товарищ Пахомчик, – сказала Зябликова, не глядя на своего собеседника. Как бы между прочим.
– На черта он мне сдался, твой уважаемый!
– Не он тебе, а ты ему.
– Постой, постой…
– За постой деньги платят. А тебе, Степан, за твои, как ты говоришь, любезные придется ответ держать не только перед своей супружницей, поскольку… в свете марксизма!
– Да ты что, баба, никак с ума спятила? Я к ней с открытой душой, а она… – забормотал Крутогоров, озадаченно уставившись в лицо собеседницы, ставшее вдруг отчужденным. Но что Зябликова ему ответила, Степан Федорович не расслышал, потому что слова женщины заглушил сердито-басистый гудок подходящего к пристани «Светоград» танкера.
2
Как говорится, живи да радуйся, на редкость удачно складывались у громовцев дела. И не только по работе: к концу строительного сезона у четырех членов бригады ясно вырисовывались особенно радужные перспективы.
Три свадьбы в один день решили отпраздновать громовцы!
И хотя столь знаменательная дата окончательно еще не определилась, уже само предвкушение радовало.
Ну, первая пара сложилась еще до вступления в бригаду: Фридриха Веретенникова и Васену Луковцеву ребята уже давненько и не без основания считали «женатиками». Тоже еще с весны начало назревать супружеское счастье и у самого бригадира. Правда, до последнего времени Михаил в ответ на прозрачные намеки товарищей только обнадеживающе посмеивался: дескать, там видно будет. А почему «там», когда и «здесь» уже все прояснилось! И особенно после того, как Катюша Добродеева как бы мимоходом завернула в общежитие.
– Да-а, старики, наш бригадир не промахнется!
– Что и говорить: девица… авторитетная!
– Каждому бы!
Такие слова были высказаны Яруллой Уразбаевым и братьями Малышевыми после того, как Катюша, «поручкавшись» со всеми общежитниками по отдельности и похвалив всех купно за чистоту и порядок, удалилась в сопровождении жениха, весьма довольного результатом «смотрин».
И только Митька Небогатиков, по своему ёрническому обыкновению, вспомнил совершенно не подходящую к случаю частушку:
Катя, Катя, Катерина,
Не девица, а малина!
Напишу с нее портрет,
Четыре сбоку – ваших нет!
Небось сам и сочинил.
Впрочем, можно было понять и Митьку: конечно же этому некогда разгульному парню казались малопривлекательными все девушки, кроме… Ну, как тут снова не припомнить старинное изречение насчет того, что нередко сходятся и крайности: разве же не диво, что уже после нескольких встреч почувствовали взаимопритяжение еще не полностью прощенный правонарушитель и девушка, которую комсомольцы стройуправления избрали – и только при четырех воздержавшихся! – своим оргом отнюдь не за красивые глаза. Впрочем, и глаза у Маши-крохотули были – глянул и дышать перестал! Да если бы только глаза…
Хотя при первой встрече в комитете комсомола секретарь Крохоткова не проявила особой симпатии к представленному ей громовцами молодому лагернику, но вскоре, после того как Небогатиков стал полноправным членом молодежной бригады, Маша-крохотуля сама вызвала его в комитет и начала разговор с такой направляющей фразы:
– Поскольку, Митя, ты теперь вступил на честный трудовой путь…
Дальнейшие слова для Небогатикова уже не имели существенного значения: неоднократно выслушивал он наставления и в лагере. Но что такая не только привлекательная, а и облеченная доверием девушка обратилась к нему на «ты» и даже назвала Митей… это, братцы, надо ценить!
Конечно, не скоро Небогатиков утвердился на почтенном пути. Поначалу и на работе, по лагерной привычке, мог Митька словчить, поскольку работали громовцы зачастую поврозь, а получка была общая и распределялась «по едокам», и приврать не стеснялся при случае, да и «горючим подзаправиться» был не прочь. Но, как ни странно, именно то обстоятельство, что никто из его новых товарищей, как казалось Небогатикову, даже не замечал этих вообще-то не столь уж существенных изъянов в его поведении, начало вызывать у Митьки что-то вроде досады: «Видно, только на словах да разве еще на футбольном поле эти лопухи друг за друга горой!»
Вот почему Небогатикова даже поразило, когда однажды его наставник по работе Ярулла Уразбаев спросил в минуту перекура как бы между прочим:
– Интересно, Небогатик, ты своей мамашке деньги посылаешь?
– А то нет! – не задумываясь соврал Митька. – Только позавчера перевел. Тридцать дубов. Могу показать квитанцию.
– Не можешь, – сказал Ярулла дружелюбно.
– Да ты что?!
– Ничего. Эта получка был малый: шестьдесят семь рублей сорок копеек, а ты и в субботу хорошо погулял на пристани, и вчера ложился на койка… поздно.
Такое вмешательство в его личные дела сначала удивило, а затем и обозлило Митьку.
– Кто это вам стучит?.. Интересно! – спросил он, ввернув для язвительности любимое словцо Яруллы.
– Стучат, когда дверь на замок заперт, – рассудительно возразил Ярулла. – А мы живем открыто и не только кушаем и спим рядом. Мне не веришь, Михаил Иванович спроси: он первый за тебя на собрании хорошее слово сказал.
Этот разговор двух парней, который стороннему слушателю, возможно, показался бы пустячным, для Митьки не прошел бесследно. И особенно подействовало упоминание о бригадире – «он первый за тебя хорошее слово сказал». И еще Митька понял, что, несмотря на то, что после «убытия» из лагеря никто специально за ним не наблюдал, вся его жизнь была на виду, а отвечал за свои слова и поступки не только он сам.
Вообще-то с круговой порукой Небогатикову приходилось сталкиваться и раньше. Но среди преступников верность слову в подавляющем большинстве случаев зиждется на страхе перед расплатой, а соучастники темных дел только на словах становятся друзьями. Истинный друг только Человек Человеку.
Еще более неожиданным – и, пожалуй, прежде всего для самого Митьки – получился вечером того же дня разговор его с Громовым.
– О чем задумался, детина? – спросил Михаил, обративший внимание на необычайно сосредоточенный вид Небогатикова: Митька возлежал на кровати с баяном на животе, но не играл, а только пощелкивал клавишами.
– Рублишек двадцать ты мне не подкинешь, Михаил Иванович? – неожиданно и несвойственным ему просительным тоном сказал Митька и, подметив удивление на лице Михаила, пояснил: – Мамаше, понимаешь, хотелось бы перевести побольше, поскольку на будущей неделе… у нее намечается день рождения.
Насчет дня рождения Митька опять «подзалил», за что, впрочем, сразу же мысленно осудил сам себя.
– Ну, какой же разговор! – даже обрадованно отозвался Михаил и, присев к Митьке на кровать, добавил: – Да, не ошиблись мы в тебе, Дмитрий Никонович!
В ответ Небогатиков широко развернул мехи баяна и без всяких переборов неподходяще весело рванул грустный мотив любимой песни громовцев – «…у незнакомого поселка, на безымянной высоте…».
«Не ошиблись! Не ошиблись!» – простенькие, а какие замечательные слова. Петь бы их!
И она – Маша, Машенька, Маша-крохотуля! – тоже не ошиблась, когда – сама первая, заметьте! – призналась, что давно уже – питает к Мите симпатию.
Правда, тут же оговорилась: поскольку комсомол оказал ей, Марии Васильевне Крохотковой, такое доверие, а он хотя и взят на поруки теми же комсомольцами, но… «Да ты сам, Митюша, теперь должен понимать, что личное у нас не должно отделяться от общественного!»
Если на такую сознательную фразу Небогатиков натолкнулся бы в газете или услышал на докладе, посвященном проблемам комсомольской морали, он, весьма вероятно, не придал бы ей серьезного значения. А может быть, по свойству своего ершистого характера, и съязвил бы: дескать, «пой ласточка, пой!». Но поскольку это «указание» исходило из уст, а точнее сказать, из весьма притягательных губок девушки, которая…
Короче говоря, высказывание Маши-крохотули Митька не только воспринял как откровение, но и сам изрек с таким же убеждением слова, тоже, по сути, не совсем подходящие для интимного объяснения:
– Да, Машенька, с сегодняшнего дня нам с тобой во всем надлежит придерживаться…
И хотя Небогатиков, не закончив словесного обращения, с некоторой опаской привлек к себе миниатюрную фигурку девушки, Крохоткова отлично поняла, чего им обоим «с сегодняшнего дня надлежит придерживаться».
Вот когда оно наступило – настоящее!
3
Казалось бы, никакая тучка не осмелится затемнить такой солнечный, на диво прозрачный денек, ничто не может омрачить такие сердечные проводы, какие организовали Небогатикову его друзья на небольшой, отгороженной от общего зала веранде пристанского ресторана.
И два составленных столика были густо уставлены питием и яствами, и рижский транзистор – Митькину мечту! – торжественно вручили ему товарищи по бригаде, и три розы, точно как в старинном романсе – «две алых, одна белоснежная», преподнесла Митьке его Машенька.
Свой первый честно заработанный отпуск Небогатиков решил провести в рязанском городе Сапожке, навестить мать – Анну Прохоровну Небогатикову, до сухоты истосковавшуюся по своему заблудшему Митюше за время его почти трехлетнего отсутствия.
То ли не радость будет Анне Прохоровне – узнать, что ее единственный сын возвратился к ней оттуда, откуда мало кому удается вырваться: из проклятого тысячами матерей уголовного мира.
– Хотя и пусто мне будет без моего цыганчика, но то, что ты не забываешь свою маму… Ну до чего же хороший ты стал, Митюнька: лучше всех! – улучив минутку, шепнула Небогатикову Маша-крохотуля.
– Вот сегодня мы еще раз и уже с полной уверенностью готовы поручиться за тебя. Ты, Митя, стал нам всем дороже родного брата!
Такие хорошие слова сказал, открывая веселую застолицу, сам бригадир. Хотя Михаил Громов был старше Небогатикова только на год, он стал для Митьки по-настоящему уважаемым человеком: по-старинному – вроде крестного отца.
«…Какой же хороший ты стал, Митюнька: лучше всех!»
«…дороже родного брата!»
Счастье, что никто из них, так доверчиво смотрящих на него парней и девушек, даже не подозревает, что перед ними сидит… Ну, конечно, он – снова объявившийся вор Митька-свистун. И только, как говорится в судейских протоколах, за отсутствием улик он имеет право…
Имеет право?
Да нет, за эти проклятые деньги, которые лежат у него около сердца, он снова продал все: и доброе имя, и чистую совесть, и право именоваться полноправным членом дружной молодежной семьи, которой вскорости, возможно, будет присвоено высокое и гордое звание – бригада коммунистического труда!
«Скорей бы уж вырваться!»
Вот почему сначала Маша-крохотуля, потом Михаил Громов, а затем и все провожающие стали подмечать в поведении Небогатикова и его обычном балагурстве какие-то тревожащие нотки.
Настораживало ребят и то, что Митька приналег на выпивку. А выглядел совсем трезвым, только побледнел с лица, и взгляд непонятно чем обеспокоенных глаз то и дело уводил в сторону.
Так что никого не удивил вопрос Громова:
– Чего это ты, Митяй, сегодня какой-то…
– Какой?
– Волнуешься?
– Видишь ли, Михаил Иванович…
Небогатиков нерешительно взялся руками за край стола, как бы собираясь встать, но не встал. Склонил низко к плечу голову, словно прислушиваясь к самому себе. Снова повторил:
– Видишь ли, Михаил Иванович…
Но закончить фразы не успел, потому что с речного простора накатился и, казалось, плотно заполнил полуоткрытую веранду обрадованным ревом гудок теплохода. И сразу же, как бы отвечая на приветствие речного гостя, расположившийся неподалеку от веранды духовой оркестр грянул «Богатырский марш».
Почти все провожающие устремились к перилам.
Площадка перед причалом, оцентрованная скульптурной группой, олицетворяющей, по замыслу столичного ваятеля, неразрывный союз советской индустрии и сельского хозяйства, была заполнена по-праздничному нарядными людьми. Над толпой алел и тоже, казалось, приветственно лопотал на ветру кумачовый транспарант – «Добро пожаловать!», под которым стояли три самые привлекательные девушки из художественной самодеятельности нефтяников, наряженные под боярышень: кокошник, сарафан, косы русые и красные полусапожки на полувысоком каблуке. Средняя боярышня (в житействе – секретарша начальника нефтеносного участка) держала, тоже по воскрешенному древнерусскому обычаю, на расшитом петухами полотенце поднос с хлебом-солью. Две крайних – сестры-погодки, студентки техникума – помахивали батистовыми платочками и приветливо улыбались.
Звено пионеров, истово переживавших значительность минуты, также было выдвинуто на передний план наряду с монолитной группой передовиков производства.
– Как минимум, министра встречают. Или представителя дружественной державы, – высказал предположение Глеб Малышев.
– Ничего подобного: Майя Плисецкая сегодня должна прибыть. А завтра будет выступать во Дворце культуры, – возразил Глебу брат. – Надо будет билетики расстараться.
Оказалось – ни то, ни другое.
С пришвартовавшегося к причалу белоснежного красавца теплохода, под звуки оркестра и приветственные крики, торжественно прошествовала по наведенному трапу группа кавказцев, возглавляемая черноусым красавцем чуть ли не саженного роста.
– Тю! Из головы вон! – обрадованно воскликнула Васена Луковцева. – Да ведь это к нашим нефтегонам гости прибыли. Из Баку. Факт. Бригада какого-то знаменитого… Ну и дядя! Недаром и фамилия у него состоит из пяти имен: все не помню, а оканчивается на «оглы».
– Махмут Али-заде Асадулла оглы, – уныло подсказал окончательно помрачневший Митька.
– Да что с тобой, Митя? – спросила Маша, заботливо прикрыв обеими ладошками руку Небогатикова.
– Лучше не спрашивай, Машенька.
Неожиданно, даже не закончив музыкальной фразы, смолк оркестр и на веранду донесся раскатистый бас встречавшего гостей из Закавказья секретаря партийной организации светоградских промыслов Василия Васильевича Батюшкина, тоже дядя – будь здоров! – под стать азербайджанцу-бригадиру.
– Товарищи! Сегодня для всех нас поистине праздничный день…
Какими же нелепыми показались эти слова Митьке Небогатикову!
– …И пусть каждый из вас, славных тружеников седого Каспия, почувствует себя здесь – на берегу великой русской реки! – в родной семье…
«В родной семье?» Митька осторожно высвободил свою руку из-под рук Маши Крохотковой, взял бутылку и вылил остатки водки в свой стакан.
– Вот это мне уже совсем не нравится! – сказал Громов и решительно отодвинул стакан от Небогатикова.
– И мне, и мне!.. Да что с тобой наконец? – уже с явной тревогой воскликнула Крохоткова.
– Ничего. Уезжаю и… точка!
– Неправда! Неправда!..
– Ну, тогда…
Небогатиков выдержал недолгую, но, судя по потемневшему от волнения лицу, очень тягостную для него паузу, затем медленно поднялся из-за стола и заговорил, с трудом подбирая слова:
– Тогда… Слушай, Машенька. И ты, Михаил Иванович, слушай.
Снова пауза. И совсем неожиданно:
– Худо мне! Ну, неужели же вы все, черт возьми, такие толстокожие!
В наступившем молчании как-то особо торжественно прозвучал голос Батюшкина:
– …Нет и никогда не будет в нашей стране благороднее звания, чем звание – рабочий человек!..
– Ничего не понимаю, – заговорил наконец Громов, напряженно всматриваясь в лицо Небогатикова. – Неужели ты, Дмитрий, опять…
– Да, – произнес Митька еле слышно.
– Да, – подтвердил громче.
– Да! Да! Да! – выкрикнул чуть ли не истерически.
– Не может быть, – тоже поднимаясь из-за стола, сказала Крохоткова. – Нет, нет…
– Спасибо, Машенька. – Небогатиков хотел было взять в свои руки руку девушки, но не решился. Шумно выдохнул, неловко пригладил двумя руками темные курчавящиеся волосы, затем, собравшись с духом, выхватил из кармана завернутую в целлофан пачку денег и положил на стол.
– Что это? – испуганно спросила Крохоткова.
– Вещественное доказательство.
– Украл? – спросил Громов.
– Да.
– Ой, как страшно! – Крохоткова опустилась на стул, подавленно закрыла лицо руками.
Тоже, как бы стыдясь, потупились братья Малышевы, и Ярулла Уразбаев, и Васена Луковцева. Только Громов не отрывал отчужденного взгляда от лица Небогатикова. И тот не выдержал:
– Да что ты на меня так смотришь! Ну, ударь… А еще лучше – вот, ножом!
– Только не впадай, Небогатиков, в бабью истерику, – не сразу и как-то неподходяще спокойно заговорил Громов. – Нам ведь тоже не легче. Оплеванным. И не в лицо ты всем нам плюнул, а в самую душу!
– Заживо отпеваете, Михаил Иванович? – так же с нехорошим безразличием спросил Митька и снова пригладил волосы.
– Что это значит?
– Ведь после таких слов мне остается… одно!
– Вы не имеете права так говорить…
Крохоткова отняла от лица руки, выпрямилась. И хотя во взгляде девушки не было гнева, безжалостно разящим показался Митьке этот взгляд.
– Конечно, все это со стороны Небогатикова очень… подло. Но если бы он уехал с этими погаными деньгами в город Сапожок, это было бы еще бо́льшим предательством. Да, предательством! Ведь там ждет своего сына мать. Сына ждет, а не вора! Слышите, Небогатиков?








